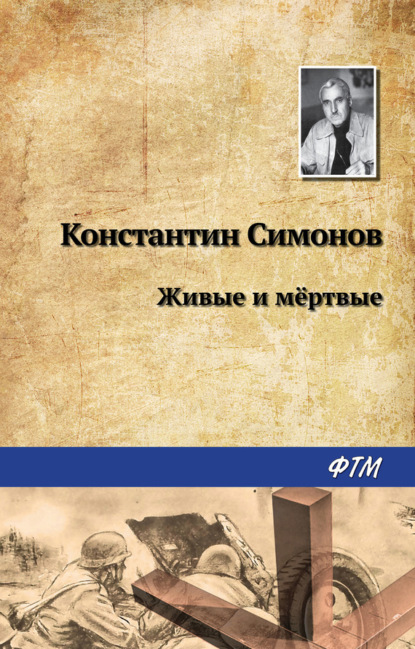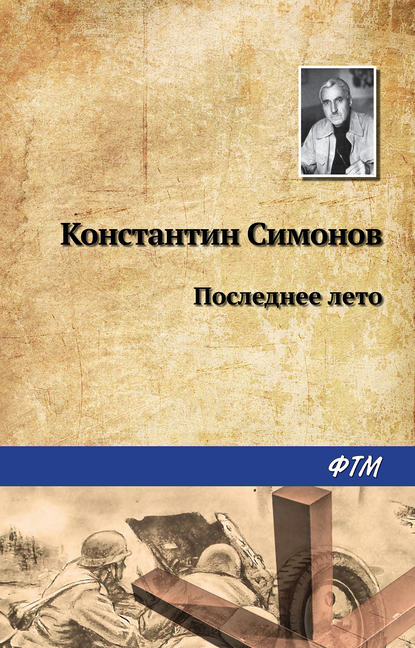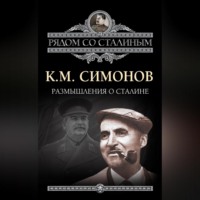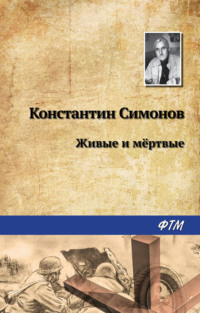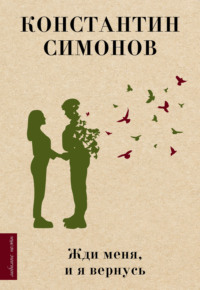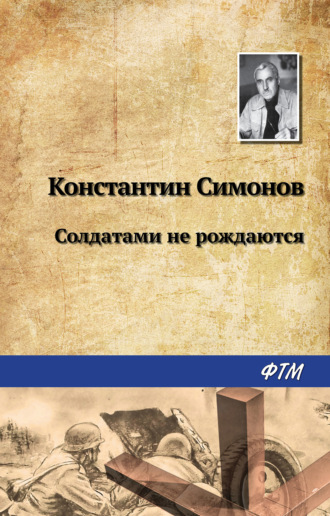
Полная версия
Солдатами не рождаются
Нет, он не только не хотел, но и не мог остаться совсем один. А если бы захотел, ему бы не позволила этого война. Через несколько часов ему предстояло принимать штаб армии, знакомиться с незнакомыми людьми и устанавливать новые отношения с теми, кого он уже знал. Предстояло с кем-то взаимно притираться, с кем-то временно мириться, кого-то переставлять, заново разбираться в чьих-то сильных и слабых сторонах, раньше видных только издалека.
Если бы он летел обратно к себе в дивизию, это было бы в каком-то смысле легче для него, а в каком-то тяжелее. В дивизии были близкие ему люди, которых он, по фронтовым понятиям, уже давно знал. Их отношение к его горю, конечно, грело бы душу, но в то же время и бередило бы открытую рану гораздо сильней, чем то более формальное сочувствие, с которым ему предстояло столкнуться в штабе армии со стороны новых сослуживцев, не имевших причин входить в подробности его горя. В конце концов, возможно, это и к лучшему.
Мысль об операции, которую ему впервые предстояло проводить в роли начальника штаба армии, беспокоила его уже сейчас, в самолете, не оставляя времени для других мыслей. По правде говоря, для человека в его состоянии трудно было придумать сейчас что-нибудь лучше предстоявшего ему нового дела. В глубине души он начинал сознавать это и был благодарен судьбе, которая облегчила его горе тем единственным, чем это горе можно было облегчить.
– Товарищ генерал, – обратился к Серпилину сидевший напротив него на скамейке пожилой востроносый маленький генерал-майор, – мне там, на аэродроме, сопровождавший вас подполковник сказал: вы к Батюку летите.
– Да.
– Тогда позвольте представиться: генерал-майор Кузьмин, Иван Васильевич, лечу туда же, к вам, принимать Сто одиннадцатую.
– Серпилин, Федор Федорович, – сказал Серпилин, пожимая руку маленькому генералу и с удивлением думая о том, как тесен мир. 111-я дивизия была его, то есть теперь уже бывшая его дивизия, и этот летевший в одном с ним самолете генерал летел принимать бывшую его дивизию, а полковнику Пикину, стало быть, снова выходила судьба оставаться в прежнем положении.
– Ну что ж, будем знакомы, – сказал Серпилин, с интересом глядя на маленького генерала.
9
Проводив генерал-майора Серпилина и, как было приказано, дождавшись, пока самолет не поднялся в воздух, подполковник Артемьев возвращался с аэродрома.
Самолет ушел с опозданием, но ехать спать все равно еще нельзя было: требовалось до этого побывать в Бронетанковом управлении и лично забрать там один документ.
Машина свернула с улицы Горького и пошла по кольцу «Б».
«Все-таки понемногу наполняется», – подумал Артемьев про Москву и вспомнил неожиданный вопрос Серпилина, когда они дожидались посадки в самолет:
– Семью в Москву не вызываете?
– Не вызываю, товарищ генерал, – ответил он, не став объяснять, что живет на свете один как перст и вызывать ему некого.
Там, на аэродроме, глядя вслед пошедшему на Сталинград самолету, Артемьев с досадой подумал о своей временной, адъютантской судьбе. Хорошо, конечно, что попал в офицеры для поручений к начальству, у которого не просто «позвони», «подай», «принеси», а можно при желании набраться и ума на будущее. Но сегодня поглядел в хвост самолету, и потянуло на фронт.
Когда после госпиталя, еще с палочкой, попал в Генштаб, считал это удачей. Но последнее время стал тревожиться: а что, если начальство привыкнет и не захочет отпустить на фронт? Хотя, когда брало, обещало. Генерал-лейтенант последнюю неделю какой-то странный, смурной. А почему – неизвестно, и спрашивать не положено.
В Бронетанковом управлении, несмотря на ранний час, жизнь била ключом. По всему чувствовалось, что танкисты за последние месяцы подняли головы, и не удивительно: танковые и механизированные корпуса с начала ноябрьского наступления давали немцам жизни!
Забрав документ и спускаясь по лестнице, Артемьев посторонился, чтобы пропустить сбегавшего вниз генерал-майора с черными танкистскими петлицами. И, только уже пропустив, сзади увидев наголо бритую голову, понял, что этот генерал-майор – старый друг, халхинголец Костя Климович. В начале войны о нем говорили как о погибшем, но недавно он вдруг ожил и прошел по сводке, захватив в районе Тацинской сто самолетов.
– Костя! – окликнул Артемьев уже добежавшего до самого низа лестницы генерала. Окликнул, рассчитывая, что, если ошибся, генерал не отзовется.
Но генерал обернулся и стремительно пошел вверх навстречу Артемьеву. Они обнялись на середине лестницы.
– А я как раз был сейчас у танкистов и вспомнил тебя и Халхин-Гол, – сказал Артемьев.
– Нашел что вспоминать! – усмехнулся Климович. И была в этой жесткой усмешке целая вечность, отделявшая теперь их обоих от Халхин-Гола.
Они пошли вниз по лестнице.
– Что хромаешь? – спросил Климович.
– Был ранен.
– А теперь что делаешь?
– После ранения временно в Генштабе. Но скоро думаю обратно на фронт. А ты как здесь? Только недавно в сводке читал, что твоя бригада к Тацинской вышла.
– К Тацинской вышла, а через неделю вся вышла… – сказал Климович. – Четыре машины осталось. Послали на переформирование.
– Наверно, обидно было в разгар таких боев…
– Это только в стихах так пишут. Или у вас в Генеральном штабе в самом деле так думают?
– Что думают?
– А что командир бригады, когда у него из сорока машин четыре осталось, обижается, если его на переформирование отправляют? Не знаю, может, и есть такие дураки, я в них не записывался. Вот если бы у меня от бригады одно название, без танков, осталось, а мой личный состав все равно без ума в огонь как пехоту совали, вот тогда бы я обижался, что начальники боятся истинные потери в технике кому надо доложить. Бывает и так.
– Будем считать, что отбрил, – улыбнулся Артемьев.
– Да, представь себе, рад, – по-прежнему серьезно и страстно сказал Климович. – Рад, что своевременно вывели бригаду из боев; рад, что трезвое решение приняли и что обстановка это позволила; рад, потому что, по правде говоря, глупости еще творим. Бываешь свидетелем, как люди в общий котел победы свои глупости суют, рассчитывают, что там все перекипит и не будет видно, кто что положил.
– Я вижу, ты в сердитом настроении, а там у вас, наверху, – в более радужном.
– И я не в сердитом, а просто сплю и вижу, как бы поскорей научиться немцев не до полусмерти, а до смерти бить. А сердиться – что ж? Если б я солдатом был, тогда много на кого есть сердиться – и на взводного, и на ротного, на всех, до самого господа бога! А когда теперь я генерал, мне уже мало на кого остается сердиться, кроме себя. Ты когда воевать начал?
– В декабре сорок первого, под Москвой, деревня Зеленино, вступил в бой, командуя полком.
– Значит, прямо с наступления, с праздничка начал…
– Ну, положим, насчет праздничка… – перебил Артемьев и махнул рукой, подумав про себя, что как ни хорош Костя Климович, а все же, значит, из танка не видно, что такое пехота, и кто такой командир полка, и сколько пудов войны у него на горбу. Знал бы – не сказал бы про праздничек…
– Насчет праздничка не обижайся, – сказал Климович. – Празднички на войне тоже в крови. Это мне известно. Просто позавидовал тебе, что начал воевать с других картин, чем я…
Они стояли теперь внизу в вестибюле.
– Ну что ж, Паша, мне, к сожалению, на вокзал, да и у тебя, наверное, жизнь на колесах.
– Да, – сказал Артемьев. – Надо документ в Генштаб везти. – И вдруг спохватился: – Как семья?
– Семью похоронил, – ровным, без выражения голосом сказал Климович. – Всех разом, в одной воронке… И могилу не сам выбирал, и плакать времени не дали. Вот так. Еще вопросы есть?
– Извини.
– Ничего. Уже полтора года всем на этот вопрос отвечаю. Привык. А ты не женился?
– Нет.
– А я осенью после госпиталя чуть не женился. А потом подумал: зачем вдов и сирот плодить, когда их и без тебя хватает? Если так просто – другое дело. Ты – просто, и она – просто…
– Чтобы в случае чего: «Пускай она поплачет, ей ничего не значит…» – сказал Артемьев. – Что смотришь? Не мое.
– Это я догадался. Просто раньше не знал за тобой любви к стихам.
– А много ли, Костя, мы вообще раньше друг за другом знали? – сказал Артемьев. – Себя самих и то лишь на войне узнали…
Они вышли на улицу. После полутемного вестибюля на солнце резало глаза. Машина Артемьева стояла у подъезда. Климович высмотрел свою и махнул, чтобы подъезжала.
– Куда едешь?
– Новое соединение формировать. Для начала – на Казанский. А потом – туда, где танки делают. Ах, танки, танки! – воскликнул Климович. – Перед теми, кто их делает, – шапки с голов, а тем из нас, кто такие машины без рассудка губит в первом же бою, – палкой по роже!
Они спустились с крыльца. Артемьев заторопился и, неловко ступив раненой ногой, охнул.
– Не рано ли о фронте начал думать? – спросил Климович.
– Может, и рано, да больно уж сводки за живое берут!
– Это верно, – сказал Климович, – время такое, что не соскучишься. Ну ладно, воюй. Будь жив по возможности.
Они обнялись. Климович сел в машину и, закрывая дверцу, прощально махнул рукой.
Когда Артемьев вернулся в Генштаб, в приемной на дежурстве сидел второй адъютант – Косых. Этот у генерал-лейтенанта еще с довоенного времени. Офицеры для поручений третий раз меняются, а этот бессменный. Привык и другого в жизни не ищет.
– Насчет меня не звонил? – спросил Артемьев.
– Нет, – сказал Косых. – Можешь спать до четырнадцати.
Артемьев запер в сейф привезенный документ, сладко потянулся и с удовольствием представил себе, как доберется сейчас до маленькой комнаты на третьем этаже, где стояло пять коек для адъютантов. Казарменное положение в Генеральном штабе хотя и было отменено, но практически еще сохранялось.
– Позвони мне в тринадцать, чтоб не проспал.
– Позвоню, не беспокойся, – сказал Косых и, посмотрев в свой блокнот, вдруг вспомнил: – Генерал Шмелев звонил, приказал для тебя адрес записать. Какая-то женщина тебя ищет. Сейчас я тебе перепишу.
Но взволнованный Артемьев, не дожидаясь, пока Косых перепишет ему адрес, сам быстро обошел стол и заглянул в блокнот. Он знал, что его сестра, заброшенная в немецкий тыл, по сведениям партизанского штаба Западного фронта, еще год назад погибла при выполнении задания. Никаких подробностей он так и не добился и не до конца верил в эту смерть, зная случаи, когда такие известия потом оказывались ложными. В блокноте, из которого переписывал адрес Косых, стояла незнакомая фамилия: «Спросить Овсянникову…»
Может быть, это кто-то, привезший известия о сестре?
«Спросить Овсянникову…» – еще раз прочел он, взяв у Косых листок, и только теперь обратил внимание на адрес: «Сретенка, 24, квартира 6».
– Ты точно записал? – спросил он Косых.
Косых даже не ответил. Уж за что, за что, а за точность Косых можно было ручаться.
«Да что же это! Дурака со мной валяют, что ли?» – подумал Артемьев. Адрес был слишком знаком, хотя считался вычеркнутым из памяти.
– Какой у Шмелева добавочный? – порывисто спросил он.
– Ты что, спятил? – сказал Косых. – Шмелев в семь сорок пять звонил, вот у меня записано, перед тем как спать лечь.
«Спросить Овсянникову…» – еще раз про себя прочел Артемьев. Незнакомая фамилия никак не сопоставлялась с адресом. Он вспомнил старушку, домашнюю работницу, которая жила тогда, до войны, у тех людей, в той квартире. Может быть, это она Овсянникова? Он не знал ее фамилии, просто знал, что она «тетя Поля». Но если и так, зачем он ей?..
– Вот что, Косых. – Он положил записку в карман. – Если что, я пошел по этому адресу. Тут недалеко, я быстро обернусь.
– Смотри, будешь потом носом клевать! – не одобрил Косых.
Когда Артемьев вошел в знакомый подъезд и постучался в постаревшую дверь с ободранной клеенкой, ему открыл подросток в валенках, ватных штанах и накинутой на плечи стеганке.
– Я Артемьев, – сказал Артемьев, – мне дали этот адрес…
– Да, да, заходите, – протягивая руку, сказал мальчик девичьим голосом. – Я Овсянникова.
Рука была маленькая, крепкая и очень горячая.
– Пойдемте в комнаты…
– Можно раздеться? – спросил Артемьев.
– Как хотите. Я сама тут замерзла с утра, даже руки над керосинкой грела… Пойдемте лучше на кухню.
– Я все же разденусь, – сказал Артемьев и, скинув шинель, вслед за девушкой в ватнике прошел через большую ледяную переднюю, мимо открытых настежь дверей в столовую, все так же, как и до войны, заставленную красным деревом.
На кухне было теплее, на керосинке грелся чайник. Вдоль стены стояли узкая железная кровать и пружинный матрац с подложенными вместо козел стопками книг. На матраце лежал новенький полушубок.
– Вы накиньте полушубок, если холодно. Хотя он маленький, – сказала девушка, смерив взглядом массивную фигуру Артемьева. – А я с утра вот так, по-партизански.
Она дотронулась до полы накинутой на плечи стеганки и вдруг смутилась под взглядом Артемьева. Под стеганкой у нее была только заправленная в ватные штаны солдатская бязевая рубашка, завязанная на тонкой шее тесемками; солдатскую бязь оттопыривали два высоких острых холмика. Этого она и застеснялась и, уже отвернувшись и стоя спиной, засовывая руки в рукава и застегивая ватник, сказала:
– Извините, я думала, это моя хозяйка пришла…
Она была острижена коротко, как мальчик, и сзади на шее у нее был мальчишеский завиток отросших волос. Так когда-то до войны стриглась Маша.
Застегнув последний крючок, она повернулась к Артемьеву. Лицо у нее было простенькое, но милое, даже, наверное, хорошенькое, только очень бледное и истомленное, а выражение этого лица было странное – одновременно и решительное и растерянное.
– Ну, что вы мне скажете? – спросил Артемьев, уже чувствуя, что ему не скажут ничего хорошего.
– Я вам должна рассказать про вашу сестру, – сказала девушка голосом, которым не говорят про живых. – Меня зовут Овсянникова, Татьяна Николаевна, Таня… Вы садитесь…
И сама села на полушубок, брошенный поверх пружинного матраца. Артемьев опустился на табурет и продолжал смотреть на нее.
– Я вернулась оттуда, правда, уже почти два месяца, но я все это время была в госпитале…
– Вы только без предисловий. Что сестра погибла, я уже слышал, – сказал Артемьев с последней, отчаянной надеждой.
Но она не остановила его и не крикнула: «Нет!» А удивленно и долго смотрела на него и молчала. Готовила себя к одному, а вышло другое: оказывается, он знает.
– Говорите, чего молчите? Я знаю только одно: что погибла при выполнении задания. Если знаете, где и как, расскажите. Хуже не будет.
Сказал, хотя чувствовал, что нет, будет хуже, гораздо хуже.
А Таня смотрела на этого совсем не похожего на сестру, показавшегося ей грубым человека и все еще не знала, с чего начать. С того, как погибла Маша? Или с того, как они встретились и подружились и что ей говорила Маша в ту последнюю ночь, когда уходила на явку в Смоленск?..
– Ну что вы из меня жилы тянете? – сказал он все тем же грубым голосом.
– Я не знаю, как она погибла, – сказала Таня, – я не была при этом. Я только знаю, что она в прошлом году в ноябре пошла на явку в Смоленск и все было очень хорошо подготовлено, она не должна была провалиться… А потом, через день, узнали, что она так и не пришла на явку. А потом, через две недели… там в городской управе у нас работал один человек, он передал нам копию списка приговоренных, и ее имя тоже было там… по документам. По документам она была Вероника… Командир нашего отряда думал, что их собираются казнить в одном месте, которое мы знали, и мы сделали там засаду, и я тоже ходила… А их казнили в другом месте: переменили…
Артемьев встал, подошел к керосинке, снял кипящий чайник и налил воды в кружку.
– Возьмите заварку, – сказала Таня.
Но он не ответил, стоял у плиты и долго, мелкими глотками пил горячую воду.
Допил, поставил кружку на плиту, подошел к Тане и, ничего не говоря, потянул за край полушубка. Она поняла и пересела, освободив полушубок. А он, накинув этот полушубок-недомерок на плечи и прихватив его рукой у горла, заходил по кухне. И по его руке, жестко сцепившей у горла борта полушубка, было видно, как ему трудно совладать с собой.
– Ну и что дальше? – спросил он своим грубым голосом.
– Что дальше? – Таня не поняла, чего он хочет. – Что может быть дальше?..
…Дальше – сверху ровная, такая же, как всюду, пелена снега, а под снегом наспех накиданные куски мерзлой земли, а под ними – босые, полуголые и голые тела, мужские и женские, со страдальчески вывернутыми головами, с негнущимися шеями, с раскинутыми в стороны ледяными руками, со скрюченными, еще царапавшими землю и умершими уже потом, после всего остального, пальцами…
Они раскапывали зимой одну такую яму. Раскапывали потому, что хотели проверить, на самом ли деле немцы расстреляли одного провокатора или только сделали вид, что он расстрелян вместе со всеми, а сами отправили его работать в другое место.
А потом, весной, земля начинает оседать, и там, где была ровная снежная пелена, становится виден длинный прямоугольник осевшей земли…
Артемьев посмотрел ей в лицо и, поняв по нему, что спросил что-то такое, на что она не в состоянии ответить, с усилием восстановил в памяти свой первый нелепый вопрос: что дальше?
– Я хотел спросить: где это было? Вы знаете?
– Недалеко от шоссе, у кирпичного завода, – сказала она, – там у них бараки – лагерь. В километре от этого лагеря…
«Вот и похоронили Машу, – подумал Артемьев, – около кирпичного завода, в километре от бараков… Какой завод, какие бараки, в какую сторону километр… Кто там с ней в могиле, сколько людей, каких, почему и за что их убили?.. Да и там, на Западном, скоро пойдем вперед. Но найдет ли кто-нибудь когда-нибудь это место после того, как еще раз прокатится через него война… И мать, наверное, лежит в какой-нибудь такой же яме под Гродно, если не убили еще в первые дни на дороге, вместе с той маленькой девочкой, фотографию которой Маша прислала перед войной в Читу с надписью: „А это наша с Иваном Таня“… Где она теперь, ваша Таня, и где ты, и где твой Иван? Тоже гниет где-нибудь в русской земле, вытянувшись во весь свой нескладный, трехаршинный рост, может быть так и не успев ни разу выстрелить в немцев… Поскорей бы на фронт, что ли…»
– Ладно, – сказал он, продолжая ходить. – Рассказывайте остальное, если что-нибудь знаете. Вообще все, что знаете, говорите, я ничего не знаю. Приехал зимой сорок первого воевать под Москву с Дальнего Востока и застал вместо дома одно пепелище: ни матери, ни сестры – никого… Ключа от квартиры не было, двери ломал. Оставили у одного человека, так и тот помер. Хотите – верьте, хотите – нет, за четыре месяца, что здесь, в Москве, после госпиталя, ни разу дома не ночевал, тоска такая… Один раз с хорошей женщиной ночью крыши над головой не было, она просит: пойдем к тебе, а я не могу, так и не пошел, потому что идти туда – все равно что на могиле этим заниматься… Извините за грубость, сказал как товарищу.
Но она не обиделась, потому что за грубостью слов почувствовала боль и одиночество. Да и, по правде сказать, не такое ей приходилось слышать за эти полтора года! Сказала только вдруг, неожиданно для него:
– Маша, когда вспоминала про вас, все жалела, что вы не женаты.
И, проследив глазами за тем, как он ходит по комнате, прихрамывая и всю тяжесть тела перебрасывая на одну ногу, спросила:
– У вас какое ранение? Голень перебита, да? Вы бы лучше сели…
– Да, – сказал он и послушно сел.
– Я так и подумала, – сказала она. – Я там много операций делала. Я почти в одно время с ней в отряд пришла, на несколько дней раньше.
С этого начался ее рассказ о Маше, которую они нашли в лесу после неудачного прыжка и недели скитаний с запущенным открытым переломом руки.
В глухом лесу, в сорока километрах от Смоленска, утром, расстелив плащ-палатку на только что выпавшем снегу, потому что в землянке было темно, одна молодая женщина делала операцию другой – без инструментов и наркоза. Молча вылущивала один за другим осколки кости, иногда взглядывая в лицо той, второй, тоже молчавшей, – исхудавшее от голода, с закушенной до синевы губой и крупными каплями пота на лбу, похожее на лицо роженицы…
С этого молчания и началась их дружба, одна из тех, что, с мгновенной силой вспыхнув в двух одиноких женских душах, горит в них жадным, нерасчетливым пламенем и заставляет громоздить поспешные и страстные откровенности, словно, предвидя свой скорый конец, боится не наговориться и не надышаться…
А потом, позже, когда они уже успели рассказать одна другой почти все главное, что было до этого в их жизни, вдруг выяснилась одна случайность, уже незримо связавшая их между собой раньше, чем они узнали друг друга. Оказалось, что человек, с которым Таня шла из окружения от Могилева, который вместе с Золотаревым тащил ее на закорках через ельнинские леса, тащил и вытащил, не дав ей застрелиться, – оказалось, что этот добрый и хмурый человек, Иван Петрович Синцов, был мужем Маши.
Рассказывая Артемьеву о Маше, Таня рассказала и о Синцове то немногое, что знала со слов Маши. Но для Артемьева это было много, потому что он не знал о нем ровно ничего. Ни того, что Синцов вышел из окружения, ни того, что добрался до Москвы и в последнюю ночь свидания с Машей говорил ей, что снова пойдет на фронт.
– Буду искать. Уже наводил справки, но начну все заново, – сказал Артемьев.
– Не надо, – печально сказала Таня, – он погиб…
– Откуда вы знаете?
– Мне сказали вчера. Один человек, который точно знает, сказал, что погиб.
Он посмотрел на нее, и она печально кивнула: да, это точно, совершенно точно. Серпилин сказал об этом так уверенно, что ей даже не пришло в голову переспросить у него, когда именно погиб Синцов.
– Ладно, – сказал Артемьев после очень длинного молчания. – Расскажите еще про сестру, все, что знаете.
Тане сначала показалось, что она будет рассказывать ему еще очень долго, но вышло наоборот. Пересказывать ему, мужчине, все, о чем они говорили с Машей, оказалось невозможно. А событий в Машиной партизанской жизни до самого дня ее ухода и гибели было немного.
Просто жила в землянке в лесу и ждала, пока срастется рука, чтобы идти в Смоленск к одной старухе врачихе под видом родственницы.
В Москве, когда ее отправляли, думали, что она будет работать в подполье радисткой, а на месте оказалось все по-другому. Держать передатчик в городе было опасно, и решили держать его в лесу и, чтобы работать на нем, подготовили другого радиста, мужчину, а Машу послали в город связной, чтобы она при помощи этой старухи врачихи устроилась санитаркой в больнице и передавала записки с возчиками, ездившими в лес за дровами для больницы. Но ей так и не пришлось этого делать. Она даже не дошла до явки…
– Через два месяца я сама пошла туда, на эту явку, – сказала Таня. – Было очень нужно все-таки послать кого-нибудь, но меня сначала не пускали, боялись: вдруг, когда ее там мучили…
Артемьева передернуло при этих словах.
– …но потом два месяца с этой врачихой ничего не было, и стало уже ясно, что Маша ничего не сказала, и тогда меня все-таки послали. В ту последнюю ночь, когда она уходила в Смоленск, а я тоже уходила с отрядом на операцию, мы обещали друг другу, что, кто из нас вернется на Большую землю, разыщет родных и расскажет… Видите, сколько времени прошло, и все-таки нашла вас. Совсем случайно: вчера утром была у нашего командира бригады в гостинице «Москва», а у него сидел генерал-майор, который сказал, что знал Машу и знает вас.
Она замолчала и, как школьница, положила руки на коленки в толстых ватных штанах. Сидела и ждала, не спросит ли у нее что-нибудь еще.
– Что, их расстреляли или повесили? – глухим голосом спросил Артемьев.
– Расстреляли.
Она побледнела, и ее спокойный до этого голос немножко, самую чуточку, дрогнул, и душу Артемьева захлестнуло свирепое отчаяние и жалость и к Маше, которую расстреляли, и к этой сидевшей напротив него побледневшей девушке в стеганке и ватных штанах, которая бог ее знает через что только не прошла и чего только не нагляделась! Он представил себе, как они, бедняги, сидели обе там ночью в лесу, и боялись будущего, и уславливались, чтобы та, которая останется жива, рассказала о той, которая умрет…
«Да что же это такое, как мы это позволили, чтобы они там гибли, умирали, чтобы их пытали, и насиловали, и расстреливали босых на снегу, и накидывали веревки на тонкие девичьи шеи! Как мы допустили, чтобы это было!.. Боже мой, как это страшно и стыдно!»
Он испытывал щемящую жалость уже не только к сестре, а вообще ко всем, кто и сейчас еще там, кого продолжают забрасывать туда, в пекло, к черту в лапы, и сейчас там попадается, гибнет, идет на виселицы. В Смоленске, в Брянске, в Орле, в Могилеве… Сколько этих проклятых гнезд, этих гестаповских костоломок, из которых не выходят живыми, сколько их по всей России, там, за линией фронта! Подумать страшно… Он испытывал жестокое, почти нестерпимое чувство мужского, именно мужского стыда за все то, что выпало на долю этих девушек и женщин, таких же, как его сестра и как эта маленькая, сидевшая против него. В чем душа-то держится!..