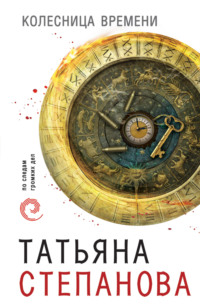Рейтинг темного божества
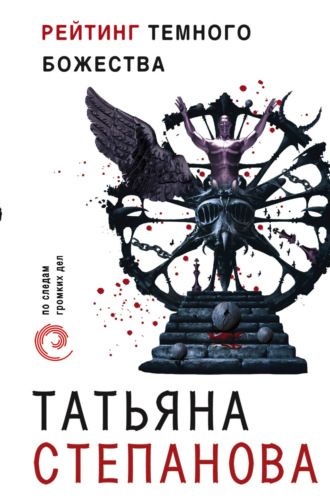
Полная версия
Рейтинг темного божества
Жанр: детективысовременные детективыполицейские детективыполицейское расследованиезагадочные убийстватайны прошлого
Язык: Русский
Год издания: 2007
Добавлена:
Серия «Детектив-триллер»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу