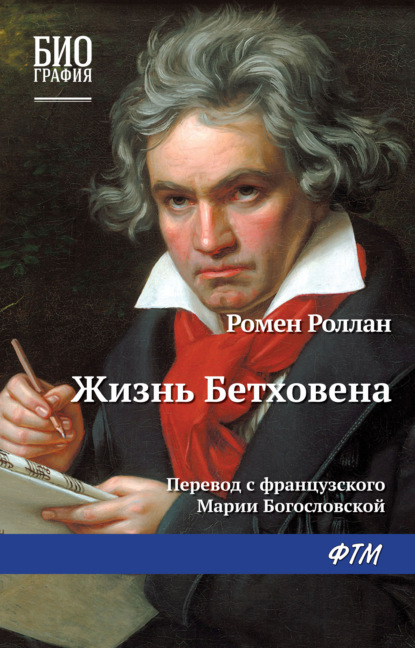Полная версия
Жизнь Бунина. Лишь слову жизнь дана…
Робко я пробрался по темным комнатам и вышел из гостиной с балкона в сад. Сад выходил в поля. Я долго гулял по ним, сначала с непонятным замиранием сердца, а потом смелее. Я слышал шум воды, слышал, как в темных кустах что-то копошилось и пищало. Я останавливался, закидывал голову и долго смотрел в глубину неба, и мне казалось, что миллиарды звезд словно были развешаны в темно-синем пространстве. И тогда, может быть, в первый раз, пробудилось во мне смутное чувство трепета и благоговения перед Творцом миров, благословляющим свои создания и распускающим над землею свой милостивый, Божественный покров…
А между тем далекий край неба уже начал бледнеть. Тихо приближалась весенняя заря, и жизнь начала просыпаться. Где-то далеко на деревне закричал петух, за ним другой, третий… воробей сквозь утренний чуткий сон чиркнул в кустах. Ветерок шевельнул деревья и стих… прозвенел вдалеке на поле бубенчик на жеребенке, должно в ночном, и замер.
Все опять замолкло… Тихо стало на земле и на небе, затихла природа в ожидании дня.
И я услыхал, как с опушки сада вспорхнула птичка. Скоро в утреннем чистом воздухе раздались звонкие трели жаворонка и с тех пор остались на всю, кажется, жизнь в душе.
Мне показалось, что смолк глухой ропот потоков и все стало внимать тихо-звонким трелям. И на эту песнь отозвалась моя чуткая детская душа. Я, помню, прислушивался, прислушивался и непонятная тихая грусть овладела мною. У меня покатились слезы. Я хорошо чувствую и сейчас эти моменты в то время, когда я сосредотачиваюсь и на минуту забываю бедную жизнь мою, отдаваясь прошлому».
Ваня Бунин с обостренной чуткостью впитывал и запоминал все – будь то утренняя песнь жаворонка и рассказы дворовых; древний обычай крестьян жечь костры под Рождество (чтобы покойники могли прийти «каждый к своей избе погреться») или же колокольня в Ельце, возвышавшаяся «такой громадой, что уже не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса»; роспись древней церкви и увлечение живописью и ваянием. «Все, помню, действовало на меня, – вспоминал он, – новое лицо, какое-нибудь событие, песня в поле, рассказ странника, таинственные лощины за хутором, легенда о каком-то беглом солдате, едва живом от страха и голода и скрывавшемся в наших хлебах, ворон, все прилетавший к нам на ограду и поразивший мое воображение особенно тем, что жил он, как сказала мне мать, еще, может, при Иване Грозном, предвечернее солнце в тех комнатах, что глядели за вишневый сад на запад…»
А его ровеснику, юному Куприну, свобода в освоении мира, «исполнение желаний» попросту недоступны. Семилетним мальчиком попадает он в сиротское училище и надевает первую в своей жизни форму – «парусиновые панталоны и парусиновую рубашку, обшитую вокруг ворота и вокруг рукавов форменной кумачовой лентой». Четыре года спустя он сдает экзамены во Вторую московскую военную гимназию. И снова форма: «Черная суконная курточка, без пояса, с синими погонами, осемью медными пуговицами в один ряд и красными петлицами на воротнике». Поистине детство его было втиснуто в казенную форму. Да разве дело только в форме?
«Бывало, в раннем детстве вернешься после долгих летних каникул в пансион, – вспоминал Куприн. – Все серо, казарменно, пахнет свежей масляной краской и мастикой, товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день – еще крепишься кое-как, хотя сердце – нет-нет и сожмется внезапно от тоски. Занимают встречи, поражают перемены в лицах, оглушают шум и движение.
Но когда настанет вечер и возня в полутемной спальне уляжется, – о, какая нестерпимая скорбь, какое отчаяние овладевают маленькой душой! Грызешь подушку, подавляя рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими слезами, и знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя» (очерк «Памяти Чехова»).
Детские годы обоих писателей в известной мере дают материал для отыскания истоков характерных особенностей их будущего творчества. Так, воспевание героического, мужественного начала, естественной и грубовато-здоровой жизни в произведениях Куприна сочетается с обостренной чуткостью к чужому страданию, пристальным вниманием к слабому, «маленькому» человеку, угнетаемому оскорбительно чуждой и враждебной ему средой. Речь идет не только о произведениях с автобиографическим уклоном. Нужно было ребенком пройти сквозь ужасы военной бурсы, пережить унизительную публичную порку, чтобы так болезненно ощутить, скажем, мучения татарина Байгузина, истязаемого на батальонном плацу (рассказ «Дознание»), или драму жалкого, забитого солдатика Хлебникова, ищущего смерти на железнодорожных путях (роман «Поединок»).
А разве некоторые черты бунинского дарования: познание языка природы, виртуозная внешняя изобразительность, чувство красок, вплоть до тончайших, почти неразличимых оттенков и переходов, постоянное ощущение жизни и смерти, их великого противостояния, высокая степень эстетизации мира – не предвосхищены впечатлениями только его детства?
Все познается в сравнении. Открытое, доходящее до чувствительности, больше – сентиментальности сострадание Куприна к своим героям питалось иными впечатлениями, чем внешне бесстрастная эпическая «незаинтересованность» Бунина. И даже родительское воздействие по-разному сказалось на индивидуальных характерах мальчиков. В формировании личности Куприна громадную роль сыграла мать, которая в глазах ребенка (отец умер очень рано) безраздельно заняла место «верховного существа».
По свидетельствам современников, Любовь Алексеевна Куприна, урожденная княжна Куланчакова, «обладала сильным, непреклонным характером и высоким благородством» («кончина матери А. И. Куприна» – некролог в газете «Русское слово»). Это была натура энергичная, волевая, даже деспотическая. Уходя по делам из Вдовьего дома, она привязывала маленького Сашу к кровати или очерчивала мелом круг, за который нельзя было переступать. Мальчик обожал ее, но в его надтреснутой душе жили по отношению к ней и иные, горькие чувства.
Многое позднее, в прекрасном рассказе 1906 года «Река жизни», он опишет их, расскажет о страданиях, вызванных хождениями по богатым родственникам, «клянченьем, подобострастными улыбками, мелкими, но нестерпимыми обидами, угодливостью, попрошайничеством, слезливыми жалкими гримасами, с этими подлыми уменьшительными словами: кусочек, капелька, чашечка чайку». «Меня заставляли, – рассказывает Куприн, – целовать ручки у благодетелей – у мужчин и у женщин. Мать уверяла, что я не люблю того-то и того-то лакомого блюда, лгала, что у меня золотуха, потому что знала, что от этого хозяйским детям останется больше и что хозяевам это будет приятно.
Прислуга втихомолку издевалась над нами: дразнила меня горбатым, потому что я в детстве держался сутуловато, а мою мать называли при мне приживалкой и салопницей. И сама мать, чтобы рассмешить благодетелей, приставляла себе к носу старый, трепанный кожаный портсигар, перегнув его вдвое, и говорила: «А вот нос моего сыночка…»
В первом варианте «Реки жизни» подробности звучали еще резче, и жена Куприна Мария Карловна просила смягчить их, чтобы они не носили портретного сходства. Вскоре мать Куприна попросила сына прочитать рассказ за семейным столом. Мария Карловна вспоминает: «Вычеркнул Александр Иванович из рассказа очень мало. Только фразу, что он проклинает свою мать, и еще одну о том, что после посещения богатых подруг мать была ему настолько неприятна, что он вздрагивал от звука ее голоса.
Эпизод с портсигаром он оставил. И когда после этого он продолжил читать дальше, у Любови Алексеевны затряслась голова, она поднялась с кресла и вышла из комнаты».
И какой контраст с детскими воспоминаниями Бунина! В том же, что и купринская «Река жизни», 1906 году пишет он стихотворение, которое так и называется: «Детство». Но что вспоминается ему прежде всего? Солнечный свет, радость, счастье в гуще дубрав матери-природы:
Чем жарче день, тем сладостней в боруДышать сухим смолистым ароматом,И весело мне было поутруБродить по этим солнечным палатам!Повсюду блеск, повсюду яркий свет,Песок – как шелк… Прильну к сосне корявойИ чувствую: мне только десять лет,А ствол – гигант, тяжелый, величавый.Кора груба, морщиниста, красна,Но так тепла, так солнцем вся прогрета!И кажется, что пахнет не сосна,А зной и сухость солнечного света.И в том же столпе солнечного света – образ матери. Когда жена Бунина Вера Николаевна расспрашивала Людмилу Александровну о сыне, та рассказывала, что ее Ваня «с самого рождения сильно отличался от остальных детей, что она всегда знала, что «он будет особенный», и «ни у кого нет такой тонкой и нежной души, как у него», и «никто меня так не любит, как он», – говорила она с особенным радостным лицом» (дневник, июнь 1907 года).
Ваня безраздельный любимец у матери, ее баловень и фаворит. Он привык место «верховного существа» занимать сам. Его немудреные детские желания исполняются, и с этим ребячливо-эгоистическим «захочу – будет!», быть может, связаны его самые ранние творческие импульсы. Даже если он требует заведомо невозможного.
«Дай мне звезду, – твердит ребенок сонный, –Дай, мамочка…» Она, обняв его,Сидит с ним на балконе, на ступеньках,Ведущих в сад. А сад, степной, глухой,Идет, темнея, в сумрак летней ночи,По скату к балке. В небе, на востоке,Краснеет одинокая звезда.«Дай, мамочка…» Она с улыбкой нежнойГлядит в худое личико: «Что, милый?»«Вон ту звезду…» – «А для чего?» – «Играть…»Лепечут листья сада. Тонким свистомСурки в степи скликаются. РебенокСпит на коленях матери. И мать,Обняв его, вздохнув счастливым вздохом,Глядит большими грустными глазамиНа тихую далекую звезду…Прекрасна ты, душа людская! Небу,Бездонному, спокойному, ночному,Мерцанью звезд подобна ты порой!И таинственный лепет сада, и далекий свист сурков, и красный отблеск звезды, и большие грустные глаза матери – все впиталось в детскую душу. А дальше – первые вспышки «художественной лжи», ребячьей фантазии. Сам Бунин вспоминает: «…я был в детстве и отрочестве правдив необыкновенно. Как вдруг случилось со мной что-то непостижимое: будучи лет восьми, я вдруг предался ни с того ни с сего страшной бесцельной лживости; ворвусь, например, из сада или со двора в дом, крича благим матом, что на гумне у нас горит рига, или что бешеный волк примчался с поля и вскочил в открытое окно людской кухни, – и уже душой всей веря и в пожар, и в волка. И длилось это с год, и кончилось столь же внезапно, как и началось. А возвратилось, – точнее говоря, начало возвращаться, – в форме той сюжетной «лжи», которая и есть словесное творчество, художественная литература, ставшая моей второй натурой с той ранней поры, когда я начал писать как-то совершенно само собой, став на всю жизнь писателем». Об эту же пору, восьми лет, Бунин сочинил свое первое стихотворение, тоже в некотором роде «ложь», – речь шла в нем о никогда не виденных им духах.
В отличие от Куприна, у которого в детстве обнаруживается некая надорванность, усугублявшаяся испытаниями кадетского корпуса, сиротского и юнкерского училищ, Бунин не просто эгоистичен, но и необыкновенно самоуверен, решителен и самостоятелен в своих действиях. Маленький Саша бежит из сиротского училища, его водворяют туда снова, и этим заканчивается бунт: он смиряется с многолетним казарменным содержанием. Ваня Бунин, когда его отдают учиться в елецкую гимназию, спокойно покидает ее, не окончив и четырех классов. Его образование завершается «на воле», в упорной самостоятельной работе; впрочем, оно и начиналось «на воле», когда в семье Буниных поселился странный, неуживчивый человек, носивший парик и старенький сюртук, – Николай Осипович Ромашков.
Сын предводителя дворянства Ромашков был типичным «лишним человеком», описанным в русской литературе XIX века. Окончил курс Лазаревского института восточных языков, был образован, начитан, но не мог ни служить, ни даже жить в имении отца, встречая всюду действительные и мнимые обиды. Он и с отцом Бунина, Алексеем Николаевичем, не раз ссорился, особенно если оба были во хмелю (сам Ромашков приводил всех в изумление, питаясь черным хлебом с намазанной на нем горчицей под водку).
Вспыльчивый, неуживчивый Ромашков привязался к мальчику, стараясь развить в нем чувство справедливости и душевное благородство. Он рассказывал своему воспитаннику о собственной жизни, о причиненных ему людьми подлостях, и маленький Ваня приходил в негодование, сопереживая Николаю Осиповичу. Грамотой овладевали по «Одиссее» и «Дон Кихоту», вместе мечтали о странствиях в дальние края, читая выпуски «Всемирного путешественника» и «Земли и людей» и разглядывая картинки с египетскими пирамидами, пальмами, коралловыми островами и дикарями в пирогах. Искали на чердаке какую-то дедовскую саблю, пылко говорили о рыцарстве, средневековье, благородной старине.
Николай Осипович в лицах передавал все, что помнил, с волнением рассказывал о том, как однажды видел самого Гоголя:
– Я смотрел на него с неописуемой жадностью, но запомнил только то, что он стоял в толпе, тесно окружавшей его, что голова у него была как-то театрально закинута назад и что панталоны на нем были необычайно широки, а фрак очень узок. Он что-то говорил, и все почтительно и внимательно только слушали. Я же услышал только одну фразу – очень закругленное изречение о законах фантастического в искусстве. Точно я этой фразы не помню. Но смысл ее был таков, что, мол, можно писать о яблоне с золотыми яблоками, но не о грушах на вербе…
Ромашков играл на скрипке, рисовал акварелью и, как вспоминал позднее Бунин, «пленил меня страстной мечтой стать живописцем. Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на дивную, переходящую в лиловое, синеву неба, которая сквозила в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве, – и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно божественного смысла и значения земных и небесных красок». Позднее, гимназистом в Ельце, Бунин одно время жил у ваятеля и, подражая ему, все свободное время лепил из глины. Успехи мальчика были таковы, что его произведения – надгробные памятники – стали попадать на монастырское кладбище.
Очень рано, в самом нежном возрасте, ощутил Бунин ужас от близкой смерти. Много позднее он повторял слова Аввакума: «Аз же некогда видех у соседа скотину умершу и, той нощи восставши, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть…» Гибель пастушонка, сорвавшегося вместе с лошадью в Провал – глубокую воронку с илистым дном; внезапная кончина любимой сестренки – веселой синеглазой Саши, смерть бабушки Анны Ивановны – все это неизгладимо запечатлелось в сознании мальчика. Когда умерла Саша, семилетий Ваня бросился бежать по снежному двору в людскую – сообщить об этом, и на бегу все глядел в темное облачное небо, «думая, что ее маленькая душа летит теперь туда». После этого он начал запоем читать копеечные книжки «Жития святых» и даже сплел из веревок нечто похожее на «власяницу».
Острое ощущение жизни и смерти рано породило некую двойственность натуры Бунина, что отмечала в нем его жена В. Н. Муромцева: «Подвижность, веселость, художественное восприятие жизни, – он рано стал передразнивать, чаще изображая комические черты человека, – и грусть, задумчивость, сильная впечатлительность, страх темноты в комнате, в риге, где, по рассказам няньки, водилась нечистая сила, несмотря на облезлую иконку, висящую в восточном углу. И эта двойственность, с годами изменяясь, до самой смерти оставалась в нем» («Жизнь Бунина»).
После кончины в 1881 году бабушки Анны Ивановны Чубаровой Буниным по наследству отошла ее усадьба Озерки – дом с необычайно высокой крышей и цветными стеклами в окнах гостиной и угловой комнаты…
Вот этот дом, сто лет тому назад,Был полон предками моими,И было утро, солнце, зелень, сад,Роса, цветы, а он глядел живымиСплошь темными глазами в зеркалаБогатой спальни деревенскойНа свой камзол, на красоту чела,Изысканно, с заботливостью женскойНапудрен рисом, надушен,Меж тем как пахло жаркою крапивойИз-под окна открытого, и звон,Торжественный и празднично-счастливый,Напоминал, что в должный срокПойдет он по аллеям, где струитсяС полей нагретый солнцем ветерокИ золотистый свет дробитсяВ тени раскидистых берез,Где на куртинах диких роз,В блаженстве ослепительного блеска,Впивают пчелы теплый мед,Где иволга то вскрикивает резко,То окариною поет,А вдалеке, за валом сада,Спешит народ, и краше всех – она,Стройна, нарядна и скромна,С огнем потупленного взгляда.Со смертью бабушки все переменилось, хотя отец и пытался подражать прежнему образу жизни. Он завел легаша, гончих, борзых, пропадал на охоте – он был лучшим стрелком в округе, попадал в подброшенный двугривенный.
У крыльца нетерпеливо скулили собаки. Алексей Николаевич прошел через столовую и увидел в буфете непочатый окорок, остановился, отрезал кусок: окорок оказался очень вкусным, и он так увлекся, что съел его весь!..
После отъезда отца в поле все показалось Ване пустым и неуютным. Он прошел в людскую, где на большой печи лежал худой старик, бывший повар бабушки, Леонтий. Ваня не утерпел, рассказал ему про аппетит отца.
– И, барчук, это еще ничего… Помещик соседский Рышков съедал в Ельце разом по девять цыплят. А вот покойный Петр Николаевич Бунин – тот заваривал кофий всегда в самоваре…
– Это когда ты поваром у бабушки служил?
– Никак нет-с. Допрежь того, когда я у вашего дедушки по бабушке ловчим был, стаей правил…
Ваня расспрашивал его о былом, об охотниках и охотах, о мужиках…
Медленно и внятно ведет рассказ древний годами ловчий:
– …И вот еще был на дворе у вашего папаши дворовый, по прозвищу Ткач… Вы тогда, барчук, и на свет еще не рождались. И до чего был этот Ткач веселый, бесстыжий и умный вор! Не воровать он прямо не мог. И нужды нет никакой, а не может не украсть! Раз свел у мужика на селе корову и схоронил ее в лесу. Будь коровьи следы – по следам нашли бы, а следов никаких – он ее в лапти обул! А у другого овцу унес. Пришли с обыском, искали, искали – ничего не нашли. А он сидит в избе, качает люльку – и никакого внимания на них: ищите, мол, ваше дело! А овца в люльке: положил ее туда, связал, занавесил пологом, сидит и качает, приговаривает: «Спи, не кричи, а то зарежу!»
Бунин жадно впитывал рассказы бывалых людей. В «Автобиографической заметке» 1915 года он вспоминал:
«Мать и дворовые любили рассказывать, – от них я много наслушался и песен, и рассказов… Им же я обязан и первыми познаниями в языке, – нашем богатейшем языке, в котором, благодаря географическим и историческим условиям, слилось и претворилось столько наречий и говоров чуть не со всех сторон Руси».
Именно в эту пору в душу впечатлительного ребенка входит так нечто еще не осознанное, но цементирующее весь строй его личности, представлений, ценностей национальное начало. В нем возникает завязь стихийного историзма, ощущения преемственности поколений, теряющихся во мраке времен. Земля хранила в себе память нации в названиях лесов, оврагов, речек или того Муравского шляха, по которому несколько столетий назад – «день и ночь, день и ночь» – шли, как муравьи, несметные татары. И с этой исторической бывальщиной смыкались недавние события – героическая оборона Севастополя, о которой рассказывал маленькому Ване отец.
К отцу он испытывал особенное чувство, силе и остроте которого не могли помешать печальные слабости Алексея Николаевича. Много позднее, возвращаясь к образу отца, Бунин с обычной для него резкостью светотеней нарисовал его портрет, не скрывая недостатков и в то же время окрасив все сыновней нежностью, доброй снисходительностью, щемящей любовью:
«Отец, человек необыкновенно сильный и здоровый физически, был до самого конца своей долгой жизни и духом почти столь же здоров и бодр. Уныние овладевало им в самых тяжелых положениях на минуту, гнев – он был очень вспыльчив – и того меньше. До тридцати лет, до похода в Крым, он не знал вкуса вина. Затем стал пить и пил временами ужасно, хотя не имел, кажется, ни одной типической черты алкоголика, совсем не пил иногда по нескольку лет (я рожден как раз в один из таких светлых промежутков) и не соединял с этой страстью никаких других дурных страстей… Ум его, живой, образный, – он и говорил всегда удивительно энергическим и картинным языком, – не переносил логики, характер – порывистый, решительный, открытый и великодушный – преград. Все его существо было столь естественно и наивно пропитано ощущением своего барского происхождения, что я не представляю себе круга, в котором он смутился бы. Но даже его крепостные говорили, что «во всем свете нет проще и добрей» его. То, что было у матери, он тоже прожил, частью даже раздарил, ибо у него была какая-то неутолимая жажда раздавать. Постоянная охота, постоянная жизнь на воздухе много помогли тому, что этот хороший, интересный и по натуре даровитый человек умер восьмидесяти лет легко и спокойно».
Мальчик любил слушать воспоминания отца о прошлом, о том, что у его дяди, брата Алексея Николаевича, был жеребец какой-то страшной бунинской породы – огромный, рыжий, с белой «проточиной» на лбу.
– А у меня, – говорил отец, – все менялись верховые жеребцы: был вороной, с белой звездой на лбу, был стальной, был соловый, был краковый, иначе сказать, темно-гнедой…
Вайя мечтал в будущем быть похожим на отца – охотиться, ловить перепелов на вечерней заре, петь под гитару старинные романсы. Но пришла пора учебы – осенью 1881 года Бунин поступил в первый класс гимназии в Ельце.
Экзамены прошли легко: рассказал об амалкитянах (библейском народе, кочевавшем на севере Синайского полуострова), написал под диктовку «снег бел, но не вкусен», начал было читать стихи, которые учитель даже не дал ему кончить. Дома отец все повторял: «Зачем ему эти амалкитяне?» Ваня поступил в «нахлебники» к неласковому мещанину Бякину.
Для избалованного мальчика перемена привольной домашней обстановки на сумеречный и строгий быт была тяжелым испытанием. Одним из свидетельств тому может служить неоконченный набросок «сказки» «Свет жизни», которая была задумана Буниным в 1886–1887 годах и носит несомненно автобиографический характер:
«…В старой и тихой улице одного небольшого города, в бедном мещанском домике я знал мальчика; он был привезен из деревни, с далекого сельского хутора, затерявшегося среди высоких степных хлебов, чтобы учиться всему, что знают в большей или меньшей степени все люди и что составляет, по мнению этих людей, необходимую принадлежность жизни. Мальчик не представлял из себя ничего особенного; он был некрасив даже. Лицо его очень часто было болезненного цвета; характер его был, по словам воспитателей, испорчен: он легко раздражался и в такие минуты плакал злыми недетскими слезами. Быть может, это случалось от той же болезни.
Но наряду с этим в душе ребенка жило с первых дней младенчества нечто иное, нечто глубокое и прекрасное, хотя многие взрослые люди, окружавшие его, вовсе не считали это свойство прекрасным. Сам ребенок впоследствии, будучи уже не ребенком, а юношей, старался развить это свойство своего сердца, называя его своим единственным счастием, и, разумеется, не обращал внимания на тех, которые говорили, что он обладает глупым счастием».
Бунин отмечает в своем маленьком герое его скрытую неординарность, мечтательность, способность погрузиться в себя, богатый внутренний мир. «Не всегда, разумеется, это чувство царило в душе ребенка, – замечает шестнадцатилетний автор. – Но когда оно охватывало его, он забывал для него все. А охватывало оно душу ребенка тогда, когда он бывал увлечен или дружбой с каким-нибудь из школьных товарищей, или зачитывался каким-нибудь поэтом и бессознательно, не вполне понимая, наслаждался, охваченный непонятным восторгом, его произведением, или весной уходил в город, ложился где-нибудь во ржи на высокой меже и глядел в далекое небо, где стоял черной точкой степной ястреб, между тем как по полю ходили медленные и плавные волны золотистой ржи и в траве стрекотали бесчисленные кузнечики.
Тогда он начинал лениться в школе, подолгу задумывался, и Бог знает, что творилось тогда в его душе. Может быть, он становился или чувствовал себя, по крайней мере тогда, великим человеком.
Сам он ясно не помнит, что ему мечталось и что снилось иногда в долгие ночи. Помнит только, что его настроение всегда сказывалось в странных образах и поэтических сновидениях. В первые годы отрочества больше всего ему снились картины природы».
Перед нами как бы предчувствия будущих творческих снов, бередящих маленькую душу воспоминаниями о прежней свободе.
В елецком затворничестве все круто переменилось. Иным сделался не только быт, но психологическая и, если угодно, эстетическая атмосфера, окружавшая юного Бунина. В Бутырках царил настоящий культ Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Полонского, причем подчеркивалось, что все это были «дворянские поэты» из одних квасов с Буниными. Не без гордости за свою фамилию читалась и Анна Бунина, придворная поэтесса, всем своим строем принадлежавшая к «чувствительному» XVIII веку: