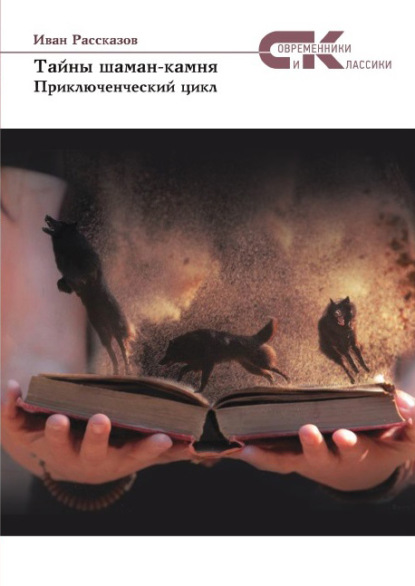Полная версия
Игрушки (сборник)

Александр Евгеньевич Малахов
Игрушки
© Александр Малахов, 2019
© Интернациональный Союз писателей, 2019
Об авторе

Малахов Александр Евгеньевич родился 7 октября 1967 года в селе Кладовое Губкинского района Белгородской области. В 1987 году окончил Белгородский индустриальный техникум по специальности «Телевизионная техника и радиорелейная связь». С 1987 по 1989 год проходил срочную службу в Московском округе ПВО. После увольнения работал наладчиком автоматических линий на автомобильном заводе АЗЛК. Более двух лет проработал в органах внутренних дел Люблинского района города Москвы. С 1992 по 1997 год обучался в Белгородском государственном университете по специальности «Филология».
Автор сборников стихов «Разговор с тишиной» и «Свет вечерних дум».
Печатался в журналах «Подъём», «Всерусский соборъ», «OZON», еженедельнике «Литературная Россия».
Член Союза писателей России.
Пусть лучше мне будет хуже
Повесть
К. М. посвящается
I
Начинались вступительные экзамены в институт.
С раннего утра в длинном полутемном коридоре то здесь, то там стали появляться взволнованные, отчасти испуганные лица молоденьких девушек, редко – парней, которые внимательно, изучающе рассматривали красочные стенды с умными, ставшими крылатыми выражениями и высказываниями известнейших светил науки, как гуманитарно-духовной, так и технически-прикладной, с обязательным масляным портретом великого их обладателя, к коим некоторые тяготеющие (в художественном смысле) индивиды-студенты посчитали своим непременным долгом добавить, привнести что-то туда, где этого не хватает, недостает, и вычеркнуть, убрать (замалевать или сцарапать) то, что, по их разумению, является совершенно лишним или даже чрезмерно излишним для данного светила человеческого разума. И потому на четко прорисованных институтским художником портретах появились рыцарские усики, козьи бородки и рожки, об истинной принадлежности коих и поминать не хочется. К крылатым выражениям добавлены не менее «крылатые» словоформы, большей частью употребляемые на заборах и под заборами, а теперь уже, с выдвижением человеческой расы-цивилизации в новое тысячелетие, громогласно явленные из заплеванных кабаков и подвалов-алкашеприемников тишайшей части законопослушных граждан, на стены институтов, дворцов культуры и других общественных учреждений, где словесные изыски несостоявшегося поэта или писателя оценят по достоинству народные массы.
Низший из штилей возвращается народу, не подогрето-шаткому и подогрето-падкому, а выученному, образованному и желающему всячески образоваться.
Неспешно проходят по коридору последние проснувшиеся, выспавшиеся и отдохнувшие от научных бдений студенты, отыскивая необходимую аудиторию по знакомым лицам сокурсников.
Еще робкие абитуриенты оттесняются в конец коридора, где горой возвышаются учебные столы, подготовленные для покраски. Свободные пустоты между угловатыми пирамидами занимаются поступающими из боязни попасть под окрепшие плечи старшекурсников.
Режет уши оглушительный звонок, и распахнутые двери выпускают в коридор говорливые группки будущих учителей и руководителей учебных заведений, пока еще не приобретших должной важности и солидности и не прочувствовавших всей ответственности перед родителями своих будущих учеников и перед страной в целом за воспитание жизнеспособного подрастающего поколения. И потому они смеются, балагурят, обнимаются, выказывая тем самым молодецкую солидарность и простое единство душ всего студенчества.
Постепенно многоголосая орава рассасывается по аудиториям, затихает шарканье, цоканье каблуков. Снова берет противно высокие ноты электрический звонок, эхо уносит его в глубь коридора.
Рой пылинок, поднятый толчеей и беготней, высвеченный выбравшимся за верхушки тополей уже горячим солнцем, медленно оседает на столах, отчего они кажутся еще более жалкими и ветхими.
Слышны глубокие вздохи, шуршание страниц. Перебираются, сортируются шпаргалки и рассовываются по карманчикам и складкам одежды, дописываются нудные, незапоминающиеся правила на еще незагорелых, мечтающих о прохладном песке пляжа ножках и прикрываются до подходящего случая шуршащей юбкой средней длины.
Экзамен – дело серьезное, и идти на него нужно во всеоружии.
Девушки нервно поглядывают на часы: время экзамена неминуемо приближается. Дрожь в коленях учащается вместе с частотой сердцебиения. Начинается хождение от одной стены до другой, а перелистывание страниц уже измученных учебников напоминает роение пчел.
Луч света сквозь пыльное окно косо падает на лицо девушки, стоящей поодаль, высвечивая ее большие печальные глаза. По тому, как она бегло просматривает страницы учебника, видно, что не боязнь предстоящего экзамена угнетает ее, и потому Олег чувствует, что печаль эта внутренняя, глубинная; какая-то боль мешает большим, под редкими длинными ресницами глазам воссиять радостью, для которой они и были созданы: карие, с лучиками изумрудных волн и еле заметными золотыми ниточками-жилками.
Непослушная тоненькая прядь волос падает на книгу. Она легким движением отводит ее в сторону, на мгновение отрываясь от чтения, поднимает широко раскрытые глаза, отчего они становятся еще милее и печальнее, внимает окружающему шуму, суете и витающему в душном воздухе волнению, снова плавно опускает голову.
Она стоит в стороне, совсем одна. Все остальные девушки, разодетые как для показа мод, источая все возможные и невозможные дразнящие, манящие и дурманящие ароматы, стоят шумливой стайкой, больше болтая, чем думая о первом экзамене.
Беспрестанно хлопают двери: приходят и уходят абитуриенты; преподаватели ищут свободную аудиторию для своих студентов, не особенно жаждущих в такую жарищу сидеть в классе, мучить свои размякшие, разомлевшие тела и внимать разогретой головой мерному журчанию лекции.
Приемная комиссия заняла наконец свое законное место с опозданием почти на полчаса. Девушки подошли ближе к двери, за которой должна решаться судьба их дальнейшего образования, теперь уже высшего.
Никто из абитуриентов не рвется первым, но все прекрасно понимают, что от судьбы не уйдешь, и потому даже сквозь кремы и пудры на лицах многих желающих продолжить обучение девушек проступает бледность волнения.
Она тоже подошла поближе, выступив из полумрака коридора. Короткое, легкое, в белый горошек платье свободно облегало статное тело, поднятое над некрашеным, вытертым, отполированным обувью полом на высоких белых туфлях. Тонкие, чуть подкрашенные розовой помадой губы плотно сжаты. Непослушный локон оказался частью прически, опускаясь слева от глаз каштановой змейкой к лунообразному подбородку. Глаза теперь наполнились светом, ожили и вместе с остальными испытующе смотрели на кричаще белую дверь аудитории.
Только теперь Олег понял, что его взволновали не только высвеченные украдкой солнечным лучом задумчивые ее глаза и не только ее точеная фигура и непослушный завиток волос – она взволновала его вся в целом, не делимая на отдельные пропорции тела и цветовую гамму. Она была просто красавица. Нет, не облепленная граммами косметики, не принявшая так широко везде рекламируемые, сводящие с ума бизнесменов, маклеров пропорции, отбираемые ревностно ими для служебной своей значимости или, как говорят, визитной карточки, стараниями массажистов и других всевозможных лепителей сладких куколок.
Ей было лет восемнадцать, и по этой простой причине она вряд ли успела воспользоваться услугами телесных благодетелей. В ней красота была не вымученной сидением на диете – в ней она была природной, естественной, дарованной; той красотой, что не лезет напоказ, а скромно старается не попадать под яркий солнечный свет, чтобы не показаться его ставленницей, наперсницей, несущей кроме умиротворенного тепла еще и безмерное восхищение в виде раскрытых ртов и одобрительных или завистливых покачиваний головы и, конечно же, вздохов: «Вот бы мне…» Красота, влекущая естеством, а не плотской похотью.
Что-то подобное промелькнуло и в его ошалевшей голове, и теперь он тупо пялился на нее, может быть, и с приоткрытым ртом, ошарашенный таким внезапным явлением. Мысль познакомиться с ней или, на худой конец, узнать хотя бы имя теперь вместе с сердцем рухнула в бездонную пропасть и схоронилась в самом темном углу, как крохотный котенок в незнакомой пустой комнате. И он теперь подпирал стену, не в силах от нее (стены) оторваться; рубашка взмокла и прилипла и к стене, и к спине. И теперь только внезапное землетрясение или наводнение могли сдвинуть его с места.
Пришли двое низкорослых мужиков в рабочих спецовках, пахнущие свежей сосновой стружкой и одновременно затхлым, сырым воздухом непрогретой подвальной мастерской, и природных катаклизмов не потребовалось, чтобы заставить Олега расстаться с невольно облюбованной им стеной. Они выдернули из пирамиды первый попавшийся под руку стол, и один гладко выбритый улыбчивый рабочий с длинными пышными усами, совершенно закрывающими верхнюю губу, деловито крикнул:
– Па-берегись!
Олег неожиданно для себя оказался прямо за спиной прекрасной незнакомки. Ноздри защекотало терпкой ландышевой свежестью: поплыл длинный пыльный коридор, пестрые платья – юбки – брючки. Олег прикрыл глаза, на мгновение забылся, жадно вдыхая неожиданную, ароматно пьянящую свежесть, приподнявшись на носках, и ему нестерпимо захотелось увидеть – и прикоснуться рукой к источнику такой обворожительной божественной радости. Он открыл глаза, затаив дыхание, и через ее плечо в листке, который она бережно держала в полусогнутых руках прямо перед собой, как билет на редкостное зрелище для придирчивого контролера, высмотрел имя – Олеся.
«Такое же редкое, как и она сама», – мелькнуло в голове Олега.
Больше ничего прочитать он не успел, потому что дверь резко распахнулась, освежив на мгновение стоявших рядом всплеском вытесненного ею воздуха, и секретарь приемной комиссии в больших затемненных очках, не глядя в перепуганные, взволнованные лица, куда-то в стену громогласно сообщила:
– Первая пятерка!..
Повисло тягостное молчание; девушки нехотя переступили через порог, словно их пригласили не для сдачи экзамена, а в пыточную камеру, и дверь, цокнув защелкой, снова пустила по лицам благодатную струю воздуха.
Сердце у Олега екнуло, и он машинально отодвинулся к уже знакомой его спине всеми шероховатостями, покрашенной темно-синей краской в рост человека стене.
Его двоюродная сестра Наташа, ради которой он здесь, собственно, и находился, помогая ей спокойно ориентироваться внутри институтских корпусов и не плутать понапрасну по знакомым ему за пятилетнее обучение гулким паркетным коридорам, вошла на предметную беседу одной из первых, считая, что таким образом времени на подготовку ответа будет гораздо больше, чем у следующих испытуемых, и скорее исполнится основная жизненная формула: чему быть – того не миновать. Это ее качество Олегу нравилось. Кроме того, она была нормального для девушки роста, стройна, правда излишне худощава, не жалела дорогой косметики для подчеркивания редких стреловидных бровей над васильковыми, большею частью задумчивыми глазами, чуть припухлыми, накрашенными густо ярко-красной с блестками помадой обиженными губами и узким заостренным подбородком.
Молчание было естественным ее состоянием, и Олегу с большим трудом удавалось подыскать подходящую тему и «раскачать» ее своими разговорами, чтобы заставить наконец раскрыться алым бутончиком не желающие шевелиться губы. Эта излишняя замкнутость и молчаливость иногда выводила общительного жизнерадостного Олега из себя, что непременно сказывалось на его настроении.
Когда он очнулся от задумчивости и устремил отрешенный до того взгляд на дверь, Олеси возле нее уже не было.
…Наташа выпорхнула из аудитории раскрасневшаяся, непрестанно улыбаясь, и тут же сунула в руки Олегу экзаменационный листок.
– Четверка! – радостно и счастливо сообщила она.
– А больше и не надо! – не раздумывая выпалил Олег.
И она, окрыленная успехом, даже не уловила безразличных ноток в его голосе.
Наташа фыркнула, сдула, выпятив нижнюю губу, волосы со лба и потащила несопротивляющегося Олега к выходу.
Солнце висело уже в зените и палило нещадно, так что даже самые терпеливые, укрывшись в тени старых раскидистых кленов, сидели с прищуренными глазами на деревянных скамейках.
Основная студенческая масса, заняв до сумерек ближайшие к переливающейся ослепительными чешуйками волн парной воде места на промытом дождями песке с редкими матового цвета ракушками, усердно меняла молочный цвет кожи на болезненный, чувствительный, особенно ночью, цвета вареных раков.
На лбу Олега появилась испарина, и густые вьющиеся волосы, нависая над бегающими из стороны в сторону глазами, заблестели, словно смазанные гелем.
Наташа рассказывала о придирчивой приемной комиссии, и Олег краем уха ловил отдельные фразы: «А здесь запятую зачем поставили… что из этого следует… кто виновен…», а сам тем временем рассматривал жирного пушистого кота, зорко следящего из-за толстого морщинистого ствола клена, прижав уши, готовясь в удобный момент кинуться в стайку худых голодных воробьев, терзающих, жадно чирикая и напрыгивая друг на дружку, еще не пожухлую банановую шкурку, брошенную на тротуаре бестолковым свинтусом или специально оставленную для растяпы, не желающего смотреть себе под ноги.
Он думал об удивительном неожиданном чувстве свежести, совсем недавно ворвавшемся в его разогретую грудь глотком живительного целебного нектара, и глаза теперь искали среди аллеи место, где таким же волшебным образом может возникнуть целая поляна изумрудных ландышей со множеством крохотных белых колокольчиков на тонких, но крепких стебельках, источая невидимыми лучами прямо в душу пульсирующую музыку живой природы. Упасть обессиленно в самую гущу цветочной страны и до умопомрачения надышаться ландышевым ароматом, о всепоглощающей мощи которого он до сегодняшнего дня и не подозревал.
А может быть, во всем виновата она?.. Возникшая внезапно в его размеренной спокойной жизни, которая от этого наполнилась новым смыслом, природными красками и звуками…
Потные, противно липкие тела вернули Олега из бесконечного, необъятного мира мыслей и размышлений в раскаленный плиточный мир троллейбусной остановки. Втолкнув охающую Наташу в огнедышащий блестящими ртами салон троллейбуса, в железном нутре которого, как в разогретой духовке, ей придется париться до окраины города, до конечной остановки, где жила ее родная тетка по отцу, он посмотрел вслед высекающей в проводах косые трескучие молнии машине, и не чувствующие уже угольного жара асфальта ноги медленно потащили его измученное ватное тело в институтскую аллею…
II
В квартире было неестественно тихо и пусто. Олег захлопнул дверь; поток потревоженного воздуха толкнул его в грудь. Сбросил с разогретых ног туфли и, мягко ступая по ковровой дорожке, хотя тревожить было некого, прошел прямо в зал, сумку поставил у стола, а сам тяжело опустился на стул. Сквозь незашторенное окно балкона было видно, как на пятом этаже дома напротив плотный, с залысинами мужчина без рубашки сидит за столом, а чуть полноватая жена его суетится около, видимо, кормит ужином. Олегу есть не хотелось, и он отвернулся от окна, вытянув ноги под стол. Появилось неопределенное желание чем-то заняться. Голова была полна впечатлений от встречи с очаровательной девушкой с редким именем Олеся, и он, подтянув к краю стола пачку писчей бумаги, попытался облечь толпившиеся беспорядочно мысли в словесную форму, но, перечеркнув несколько патетических строчек и наставив шахматное поле многоточий, резко отодвинул листы на другой конец стола, к стене, и заложил книгами. Сам перевел отсутствующий взгляд на вылинявший персидский ковер и замер в таком положении.
Тело немного остыло от душного уличного воздуха, и теперь рубашка, совсем недавно отяжелевшая от пота, снова стала неощущаемой, невесомой.
Сквозь стук ровно бьющегося сердца, отдающегося в ушах распухающими воздушными пузырьками, он вспомнил ее, всю, до мельчайших подробностей, и сердце тут же учащенно забарабанило в ушах. Он ощутил шелест и воздушное плесканье ее платья, хлынувшие в его раскаленные и без того ноздри терпкой свежестью росистого утра и даже, воспламененный живостью ощущений, представил ее в своих объятиях, но лишь на мгновение, а потом сразу же появилось совершенно новое, незнакомое чувство физической отстраненности телесной оболочки от духовной ее наполненности. Он ощутил ее могущество, ее музыкальную безграничность, сокрытую в драгоценной шкатулке от въедливых плотских взглядов мелодию, подвластную только одаренному тончайшим слухом мастеру.
От таких неожиданных мыслей Олегу стало еще грустнее, а мозг хотел уже снова заключить сказочную нимфу в пламенные объятия, но Олег сильно тряхнул головой, не желая вконец испортить и без того паршивое настроение низменными животными повадками.
Помимо его воли, без его всеодобряющего на то согласия ее загадочный образ отпечатался в мозгу, крепко-накрепко засел в его пространстве, вытеснив все прежние кукольные образы с глянцевых обложек фирменных журналов.
«И что же делать?» – явилась первая разумная мысль. Внутренний голос, более рассудительный и морально трезвый, решил, что он с нею познакомится волею случая и, скорее всего, она окажется обычной куколкой, хотя и не слишком вымалеванной, но с первых слов сразу же станет ясно ее истинное предназначение – туманить мозги и выкручивать шеи падким на клубничку мужчинам, в чем их и упрекать, собственно, нельзя, ведь, по утверждению классика, красота призвана спасти мир, на худой конец – от нас самих.
Но он чувствовал, что что-то очень важное ускользает от него; ускользает разгадка объявшей внезапно все его существо тревоги, ускользает, как ускользнула когда-то быстро и неожиданно первая любовь.
…Он вернулся с Севера, где проходил трехмесячную преддипломную практику. Вернулся бодрый, пропитанный насквозь сосновым запахом бесконечной тайги, вкусив крепость морозов и вяжущий кисловатый аромат растущей прямо у жилого вагончика на моховых кочках клюквы. Он сам попросился подальше от большой цивилизации – поближе к самому краю материка, не закопченному еще отбросами газовой индустрии и потому сияющему крахмальной голубизной соединяющего небо с землей снега.
Захотелось повидать мир. И потом об этом он никогда не пожалел, потому что больше такой возможности ему не представилось…
Он широко шагал по техникумовскому коридору в пышной кроличьей шапке и дутом ватнике нараспашку, еще чувствуя себя важным полярным медведем, а ему навстречу шла Она с длинными распущенными волосами и неестественно большими голубыми глазами на загорелом лице, быстро удаляясь, цокая каблучками по молочному глянцу кафельного пола. Она только мельком взглянула на него, даже не повернув головы, а только скосив в его сторону, как для немого приветствия, пламенные голубые очи. И у него почему-то не возникло естественного бессознательного желания оглянуться и с другой стороны оценить промелькнувшее волнительным очарованием стройное грациозное создание. Потом вздохнуть опечаленно по причине столь быстрого возвращения с ангельских высот в пучину серых однообразных будней и жить дальше, даже не помышляя о возврате жизненной кинопленки назад, чтобы в нужный момент остервенело нажать кнопку «стоп-кадр» и замереть навеки с неописуемым ощущением долгожданного бесценного приобретения.
Но этой мимолетной встречи было достаточно, чтобы лишить его покоя.
Почти каждый день у стен общежития, где непременно собиралась молодежь побренчать на гитаре, позубоскалить и просто убить-скоротать время, появлялся и он с одним-единственным желанием: увидеть ее. Классная приметила этот факт и подкалывала: «Губа у тебя, Олег, не дура: отличницу выбрал!» Потом он набрался-таки смелости и пришел с букетом алых роз поздравить ее с днем рождения. Отличница угостила его конфетами и мягко, наверное, чтобы не обидеть, предложила больше за ней не ходить.
До Олега как-то не сразу дошел смысл сказанных ею запросто, как о смене надоевшего платья или прически, слов, но ни капли обиды на ее неспособность взглянуть в самую глубину чувствительной души его сквозь полноватое лицо с маленьким с горбинкой носом и проницательными зеленоватыми глазами и не обнаружить там ни капли обычного волокитства за юбкой редкостного покроя он не ощутил; решил не навязываться и исполнить ее желание – попятился боком к двери, бросив беззлобно напоследок короткое: «Ладно»…
Через широкую пустынную полутемную улицу с мигающим желтым глазом светофора он брел, не глядя по сторонам, и его чуть не сшиб несущийся на бешеной скорости милицейский уазик. Появилось настойчивое желание провалиться сквозь землю.
Решил стать военным летчиком. Прошел вместе с двумя товарищами дотошную военную комиссию. Но военком перед самой отправкой настойчиво предложил сначала послужить в армии и потоптать кирзовые сапоги, а потом уже решать свою дальнейшую судьбу.
И после года службы он написал все-таки рапорт о желании стать военным, но на повторную комиссию не поехал – пропало желание. И служить он должен был не в центре России, а где-нибудь в Афганистане, к чему себя и готовил, занимаясь в парашютной секции. Ему казалось, что там, где стреляют, где от тебя одного, восемнадцати-двадцатилетнего человека, может что-то зависеть, он сможет доказать и себе самому, и другим искренность всех своих желаний. Но и это намерение не осуществилось. И он уже перестал о чем-либо мечтать, загадывать желания, заранее зная об их несбыточности. Но где-то в глубине души он надеялся, что после полосы неудач обязательно придет что-то светлое и радостное, что непременно сгладит боль прежних утрат. Нужно только терпеливо ждать и надеяться. Надежды в нем оставалось совсем мало, совсем чуть-чуть. Но он все еще ждал…
III
Тетя Вера, хозяйка квартиры, вернулась домой поздно, мягко прикрыв входную дверь. Более десяти лет она жила без мужа, умершего от запущенной язвы желудка, числилась в пенсионерах, но по-прежнему работала в прачечной на кирпичном заводе: копейка лишняя сыновьям не в убыток, а самое главное – не давит на психику постоянно гнетущая молчаливость пустой квартиры. Небольшая тучность нисколько не мешала ей бодро семенить на коротких, бугристых от закупорки вен ножках. Широкоскулое продолговатое лицо, с ярко-красными дорожками проступивших сквозь бледную кожу кровеносных сосудов хотя и было почти всегда задумчиво и печально, зато никогда не вспыхивало румянцем гнева, а опоясанные синюшными волнами глубоких морщин глаза удивляли своей потаенной мудростью, что сразу же поразило Олега, как только он впервые переступил порог квартиры.
Обычно старушки, пережившие не только своих буйных мужей, но и долгие годы лихолетья, становятся желчны, мелочны и частенько брюзжат на квартирантов без всякого на то повода. Старушкой тетю Веру Олег даже и назвать не мог, несмотря на ее шестидесятилетний возраст. Всем своим видом она являла образ добродушного зрелого человека, но никак не пожилой женщины, с толстыми серебристыми прядями седых волос на коротко остриженной по-мальчишечьи голове.
Она бесшумно прошла на кухню, выложила хлеб на холодильник и, заметив, что к еде никто не притронулся, тут же отыскала Олега, сидящего понуро за столом, проговорила по-матерински укоризненно:
– Опять ничего не ел!
Олег вздрогнул от ее громкого возмущенного голоса, ворвавшегося неожиданно в тяжелый густой сумрак комнаты, и попытался оправдаться:
– Да я…
– Вот я тебе! – Тетя Вера погрозила ему пухлым детским кулачком и улыбнулась.
Олег вытащил из-под стола затекшие от долгого неподвижного сидения ноги и, больше не сопротивляясь, как на ходулях, провинившимся школьником отправился вслед за строгим, но справедливым учителем…
Позже всех домой возвращался старший сын Вадим, который и являлся причиной ее постоянной задумчивости – пил безбожно. Работал он сварщиком в выездной ремонтной бригаде, и частые выезды на аварии в городском водопроводе и канализации оставляли достаточно времени для помощи населению, всегда нуждающемуся в ремонте своего небогатого ветшающего скарба. Помощь оказывалась незамедлительно со свойственной широкой русской душе щедростью, и проситель, совершенно счастливый, увозил подновленный велосипед, поставленную на резиновые ноги тачку или уносил под мышкой воссоединившийся с внезапно отвалившейся ручкой совок. А отзывчивый к людскому горю мастер со товарищи дегустировал «благодарность», коей за световой рабочий день набиралось штук пять-шесть бутылок.
Домой возвращался сам на автопилоте или с посильной, расшатанной до пяти баллов помощью более крепких на ноги после непомерной дозы выпитого товарищей-собутыльников.