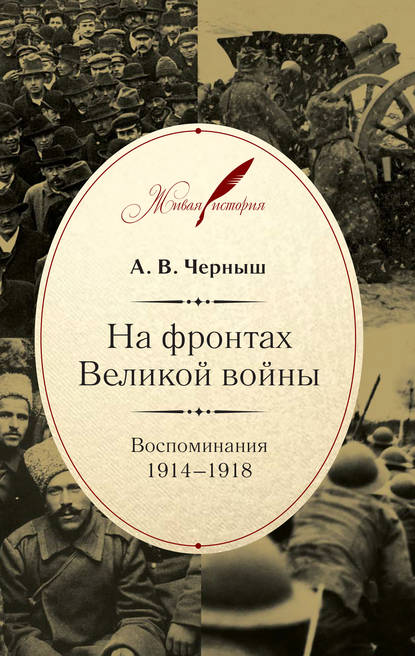Полная версия
По скорбному пути. Воспоминания. 1914–1918
– A-то як же ты думал? Може, будут с двума головамы, чи с хвостами?! – кто-то иронически ответил из толпы.
Послышался легкий смешок. А я, конечно, не представлял себе пленных какими-то особенными существами, как правильно выразился мужик, с двумя головами и хвостами, но когда я увидел перед собой таких же точно людей, как и я сам, но только несчастных, слабых и истекающих кровью, признаюсь, меня в тот момент покоробило, и не злобу, а, скорее, сострадание я почувствовал к этим людям, пленным, которые считались моими врагами. И я думаю, что если бы вместо них я увидел настоящее чудовище о двенадцати головах с изрубленным телом, трепещущим в предсмертных судорогах, то я, да, пожалуй, и все окружающие были бы больше удовлетворены. Впервые перед моими глазами предстала человеческая кровь, пролитая на войне, и на мгновение мой ум озарило смутное сознание всего ужаса войны, который создали сами себе люди…
Я разговорился с пленными. Оказалось, что они поляки и умеют немного говорить по-русски. Тот, у которого была ранена голова, рассказывал, что его ударил шашкой немецкий офицер, предполагавший, будто он намеревался сдаться русским казакам, налетевшим в это время как вихрь на австрийский разъезд. Другой раненый на мой вопрос, почему он, славянин, воюет с русскими, не лучше ли было бы сдаться в плен, ответил с достоинством, что, как я присягал своему королю, так и он клялся на верность Францу Иосифу, поэтому, мол, и сдаваться добровольно в плен нехорошо. Я похлопал его по плечу в знак одобрения и отправился к лошади.
Из замка я поехал на почту, чтобы послать домой деньги. К моменту моего приезда настроение у чиновников было тревожное. По секрету они мне передали, будто в 30 верстах от Вишневца австрийцы. Я с некоторой важностью успокоил их, говоря, что здесь много наших войск, следовательно, опасаться нечего. Выйдя из почтово-телеграфной конторы, я заметил на дворе группу казаков, которые о чем-то оживленно беседовали. Из нескольких отрывистых, долетевших до меня слов я понял, что разговор идет о какой-то удачной стычке с австрийцами. В то время всякая мелочь, касавшаяся военных действий наших войск, была для меня интересна, поэтому я подошел к разговаривавшим и с приятным волнением выслушал рассказ о том, как шесть обозных (значит, нестроевых) казаков, завидев 15 австрийских всадников, вскочили на неоседланных лошадей и с гиканьем бросились на врага, несколько человек изрубили, а остальные ускакали. При этих словах я пришел в такой восторг, что невольно воскликнул:
– Вот молодцы, казаки!
Возвращаясь домой, я мысленно восхищался ими. Хотя война еще только началась, но слава о них разнеслась уже по всей России. На маленьких хвостатых лошадках, в черных папахах даже и летом, с длинными пиками в руках, с мужественными, открытыми лицами они, эти казаки, в то время казались мне незаменимыми войсками. В их бесхитростных глазах я словно читал дикий, вольный дух их предков, девиз которых был война. И вот с первых же ее дней я убедился, что казачество осталось таким же воинственным, каким оно считалось и несколько веков тому назад. Чего ж вы хотите! Шесть смельчаков, знавших только свои повозки, завидев вдвое сильнейшего врага, ни на секунду не задумываясь, бросились вперед и разбили его. Разве этот факт не говорит сам за себя!
На следующий день в 8 часов утра полк выступил из местечка Вишневец, двигаясь к границе. Идти было хорошо. Грязь немного подсохла, солнышко ласково грело. Солдаты шли бодро, покуривая махорку и весело болтая.
– Глядите, ребята, австрияка ведут! – крикнул кто-то из роты.
Послышались хихиканья и замечания вроде «Ишь разукрашенный какой, будто петух!» или «Одначе они – эти самые австрияки – махонькие, наш брат куды крупнее»…
Действительно, мимо нас проходил низкого роста австрийский солдат-кавалерист в красных штанах и синего цвета куртке. Голову он сконфуженно опустил вниз и беспрестанно чего-то улыбался. Сзади ехал верхом сопровождавший его казак.
– Мне кажется, Николай Петрович, – обратился я к поручику Пенько, указав рукой на австрийца, – что их кавалерия много проигрывает благодаря такой пестрой форме.
– Да, пожалуй… – проговорил он. – Хотя, знаете, в кавалерии все равно, какая форма, яркая или защитного цвета, так как им приходится большей частью действовать открыто, не применяясь к местности, как мы – пехота, и где там примениться с лошадьми! Да и вообще-то коннице сравнительно мало приходится воевать…
В тот момент я не обратил внимания на последние слова поручика Пенько, но впоследствии я узнал их глубокий смысл.
Пройдя еще несколько верст, мы заметили в отдалении, вправо от нас, что-то золотисто-блестящее, будто какое-то другое солнце грело и сияло с противоположного горизонта. При виде этой сверкавшей точки сердце мое радостно забилось, словно я увидел что-то бесконечно дорогое мне и близкое… Я снял шапку и набожно перекрестился. Это была Почаевская лавра – величайшая святыня не только Волыни, но и всей России. Здесь хранилась чудотворная икона Почаевской Божьей Матери.
Почаевская лавра! Сколько отрадных воспоминаний далекого детства связано у меня с этим святым местом. Сколько человеческих слез, горьких и радостных, оросили каменные плиты Почаева! Сколько молитв горячих, трепещущих слышали его темные, старинные своды, сколько страдальцев и мучеников жизни нашей земной нашли здесь свое утешение.
Все явственнее и явственнее вырисовывались на фоне светло-голубого неба золотые маковки лавры, которая вскоре стала видна как на ладони. Это было поистине прекрасное зрелище. Среди почти равнинной и обнаженной местности природа капризной рукой бросила несколько холмов, и вот на этих-то холмах, покрытых лесом и садами, приютилась Почаевская лавра. Со своими белыми как снег церквями и горящими огнем куполами, со своей уходящей чуть не в облака колокольней святая обитель так, казалось, и манила к себе под тихий священный кров, словно говоря своим мирным лучезарным видом о тех духовных радостях, о счастье, которые вас в ней ожидали…
А там дальше, левее Почаевской лавры, где небо сливалось с землей, темнело какое-то неясное большое сооружение, казавшееся почти точкой. Это – австрийский монастырь Подкамёнт. И странным казалось, и не верилось как-то, что близится конец русской земли и что все вокруг наше, а это темное далекое пятнышко уже не наше, что над ним работали и его создали какие-то другие, чуждые нам люди и что там, где оно темнеет, пролегает таинственная черта, по ту сторону которой лежит земля нашего врага – Австрийской империи.
Почаев оставался все время правее нас.
Понемногу мы начали от него удаляться, но долго еще, обернувшись несколько назад, можно было видеть его золотые, сверкавшие солнцами главы, пока, наконец, наш полк не втянулся в большую деревню Плинки, расположенную от границы всего в нескольких верстах, где мы стали на отдых. Устроив солдат по квартирам и закусив, я попросил разрешения у ротного командира и отправился по случаю субботы в сельскую церковь. После многих трудных дней похода, в ожидании великих и страшных грядущих событий моя душа рвалась к Богу: она искала общения, она хотела слиться с ним воедино. Я шел. Был один из тех дивных деревенских вечеров, которые так отрадно, так безмятежно действуют на душу человека. Солнышко близилось к закату. Нежные, пурпурные, прозрачные облачка повисли в ясном небе. В тихом теплом воздухе звучной волной разливался монотонный благовест; к нему изредка примешивался громкий смех деревенских детишек, игравших на лужайке около маленькой журчащей речонки с высокими зелеными берегами, протекавшей посреди деревни. По дороге, поднимая высоко вверх пыль, с мычанием двигалось стадо коров, которое гнала с выкрикиванием и по-детски ругаясь маленькая босая девочка с хворостиной в руке и с розовым платком на голове. Мужики и бабы, кончив работы на полях, приоделись по-праздничному и вышли из своих хат. Кто в церковь направлялся, кто сел на скамеечку перед домом и, бессмысленно глядя на окружавшее, лузгал семечки. Около некоторых хат стояли небольшие кучки солдат и деревенских девок в пестрых платочках. Слышались веселый смех и говор. Да, так хорошо, так мирно было вокруг!..
Я подходил к церкви. Церковь была каменная и для деревни большая. Она стояла на высоком месте и, озаряемая лучами заходившего солнца, придавала всей этой чудной деревенской идиллии какую-то особенную прелесть, какую-то особенную, своеобразную русскую красоту. Церковь оказалась битком набита не столько сельским людом, сколько солдатами. Я прошел на левый клирос, где встретил нескольких офицеров своего полка. С того момента как я уехал на войну, мне ни разу не представлялся случай побывать в церкви. Хотя в своей жизни я очень любил посещать храм Божий, но, признаюсь, никогда еще я не испытывал в такой степени религиозного подъема, как именно в ту минуту. Горящие свечи, старик-священник в своей сверкающей золотом ризе, святые образа, волны кадильного дыма – все это мне показалось тогда таким прекрасным, чистым и умиротворяющим; каждое слово священника было исполнено для меня сокровенного смысла… Знакомые напевы святых песен звучали в моих ушах сладкой симфонией, глубоко западали в душу, волновали ее и потрясали, вызывая могучий молитвенный порыв. И я молился в тот момент, молился как никогда горячо, убежденно, с искренней несокрушимой верой. Я забыл все окружавшее меня, я видел перед собой только желтые язычки горящих свечей и сквозь кадильный дым различал лик Пресвятой Девы… Моя душа высоко воспарила к небу. Никогда еще я не понимал в такой степени, как ничтожны мы в сравнении с Тем, Кто управляет мирами. Никогда, о, никогда еще я не взывал к небесам с таким глубоким сознательным чувством: «Господи, Господи! Да будет Твоя святая воля!» Впервые я испытывал то счастливое состояние, когда вдруг меркнет образ смерти, когда не только ее не боишься, но даже желаешь ее, но желаешь для того, чтобы поскорее перейти в другую, светлую, вечную жизнь…
И в то время как я возносил к Творцу свои горячие, вдохновенные молитвы, в которых было больше чувства, чем слов, хор запел «Спаси Господи…» Сотни солдатских грудей подхватили, и стены храма были потрясены этой святой песней, где каждая строка говорила вам о наступавших великих страдных днях… Я заразился всеобщим подъемом и тоже запел, и слезы, искренние слезы восторга, потекли у меня из глаз. И в этих слезах была победа над смертью…
Кончилась служба. Солдаты, истово крестясь, стали выходить из церкви; вслед за ними вышел и я. Солнце уже давно зашло. Вечерние сумерки густой пеленой окутали деревню. После духоты в церкви я с особенным наслаждением вдохнул в себя полной грудью свежий воздух. На душе было легко и отрадно, как будто я сбросил с себя какую-то тяжесть, которая меня раньше давила, а на будущее, кровавое и ужасное, я смотрел спокойно, с упованием на милосердие Божие…
Придя домой, я с аппетитом выпил свежего холодного молока, закусывая его ржаным, очень вкусным хлебом, лег, не раздеваясь, на душистое сухое сено, наваленное в сарае, и вскоре заснул крепким, спокойным сном. На следующее утро, едва только занималась заря, Франц уже будил меня. Я вскочил и начал быстро умываться почти ледяной водой. Ротный командир штабс-капитан Василевич уже был одет и наскоро допивал кружку чая.
– Вам, Владимир Степанович, идти за знаменем; поторапливайтесь!.. – проговорил он.
Я нацепил шашку и вышел, пробираясь вдоль забора через грязную улицу, к роте, которая невдалеке стояла серой массой. Утро было холодное. Солнце еще не выходило. Белый туман как пар окутывал деревню, сады, поля и как тяжелое облако лежал в долине речки. В тишине раздавались голоса собиравшихся в поход солдат. Из разных концов деревни доносилось протяжное пение петухов. Где-то близко слышался зудящий скрип колодезного журавля.
Поздоровавшись с людьми, я взял вторую полуроту, отправился с ней к квартире командира полка и, приняв знамя, пошел к сборному пункту полка. Полк уже стоял, готовый к выступлению, и при проносе знамени взял на караул. После этого начальник дивизии, который почему-то все время нервничал и теребил свою красивую вороную лошадь, приказал начать движение. В головную заставу назначили полуроту 3-й роты под начальством подпоручика Новикова, моего товарища по училищу. Это был красивый и высокий офицер, веселый, но в то же время серьезный и развитой. Когда он проходил мимо меня со своей полуротой, мне бросился в глаза его понурый и печальный вид. Голова была опущена, на лице лежало выражение грусти. Он шел медленно, с трудом вытаскивая ноги из липкой грязи. Не знаю, что на него повлияло, усталость ли, холодное и сырое утро или, быть может, смутное предчувствие чего-то недоброго, неизбежного, как тень пало на его молодую, полных благородных порывов, душу…
– Скорее вперед! Офицер, вперед! – послышался грубый окрик начальника дивизии, и я заметил, как сердито, почти злобно он посмотрел на подпоручика Новикова. Мне сделалось жалко товарища, и я содрогнулся при мысли о той страшной, неведомой силе, которая толкает нас на кровавое дело и которая дает право жизни и смерти одних людей над другими…
Вскоре полк вытянулся длинной серой кишкой. Позади двигался обоз. Пройдя лощину, где живописно раскинулась деревушка, приютившая нас на одну только ночь, мы вышли на бугор и нашему взору открылись необъятные, залитые радостным утренним солнцем, желтеющие поля. У всех нас было прекрасное, бодрое настроение.
– Эй, землячок! Скажи, далече тут будет до границы? – спросил кто-то из солдат нашей роты, обращаясь к мужику в белой грубой рубахе, сидевшему на скрипучей телеге и погонявшему пару маленьких, но сытых лошадок.
– Нэдалэко! Билыпэ нэ будэ, як одна верства! – выкрикнул каким-то визгливым голоском мужик и дернул веревочными вожжами. Лошаденки вскинули мордами и побежали рысью.
Наконец, в некотором отдалении мы увидели широкую, малоезженную и окопанную с обеих сторон канавами дорогу, которая в виде темной ленты тянулась влево и вправо и терялась вдали. Это была граница. Сердце мое радостно забилось. Так вот она – эта таинственная черта, разделявшая долгое время два великих государства! Как еще недавно она служила могущественной преградой, перешагнуть которую можно было нередко с опасностью для собственной жизни. Австрийские и русские солдаты днем и ночью ходили и зорко следили за тем, чтобы никто не смел вторгнуться незаконно в пределы чужой земли. Но теперь, когда кровавый ураган войны разорвал оковы закона и втоптал в грязь священные права человечества, когда восторжествовало право сильного, тогда перестала существовать и граница – эмблема условности, и Австрийская империя открыла свои широкие объятия, нахлынувшим, как волны, русским армиям…
Все ближе и ближе к границе подходила наша колонна, впереди которой ехал верхом командир 1-го батальона подполковник Бубнов. Вот уже его лошадь, словно чуя что-то необычайное, зарыла копытами землю и, красиво перегнув шею, вступила на вражескую землю. Подполковник Бубнов снял фуражку и неторопливо осенил себя широким крестным знамением. В этот момент музыканты, став в стороне от дороги, заиграли церемониальный марш. В ту историческую минуту меня охватило необыкновенное, торжественное чувство, в котором было все: и гордость, и какое-то величественное сознание силы и мощи России, и предвидение грядущих побед. Радостная дрожь пробежала по телу, и необычайная энергия наполнила мое существо. Мне бросились в глаза два столба: один – русский в виде колонки и окрашенный в такие цвета, в какие обыкновенно красятся у нас в России верстовые столбы, и другой – австрийский железный, верхняя часть которого с австрийским гербом была сбита и валялась тут же, на земле. Перейдя границу, я перекрестился. Многие солдаты тоже крестились. На их суровых, серьезных лицах была написана молчаливая угроза врагу, дерзнувшему поднять свой меч на святую Русь.
После перехода границы не только мне одному, но, вероятно, и всем казалось немного странным, что австрийская земля почти ничем не отличалась от нашей; такие же поля, такие же деревья, огороды, как будто все должно было быть каким-то другим, особенным.
– Вот она какая Австрия-то! И не подумал бы никогда, коли б границы не прошли, словно Расея! – ни к кому не обращаясь, проговорил какой-то солдат. – А что, брат Ванюха, – продолжал он, обращаясь к своему соседу, – даст бог, по замирении вернемся домой, скажем, что, мол, как есть, в загранице с тобой побывали!
В ответ послышался дружный смех.
– Да, жди… Ишь, про замирение заговорил, не видамши еще войны. Эх, ты!.. – наставительно заявил отделенный, действительной службы солдат с большими красивыми светлыми усами и при этом затянулся крученой папироской.
Но вот мы вошли в австрийскую деревню, и я сразу почувствовал, именно почувствовал, что нахожусь не в России. Хаты с соломенными крышами были без труб. Крестьяне все в чистых белых полотняных одеждах, высоких смазных сапогах и с круглыми соломенными шляпами на голове. Выражение лиц, характерные черты которых составляли длинный, довольно крупный нос и большие, опущенные книзу усы, было не такое добродушное и простое, как у нашего мужика. Мужчины старые и молодые стояли небольшими кучками около халуп (хат) и с любопытством, но без всякого страха смотрели на проходившие мимо них русские войска, и только при виде офицера почтительно снимали шапки. Женщин и детей почти не было, так как они попрятались по домам и робко выглядывали из-за углов и окон. Около колодца некоторые крестьяне стояли и давали воду подходившим солдатам, причем в знак того, что вода не отравлена, предварительно отпивали немного сами. Все крестьяне оказались поляками, многие из них побывали в России и умели говорить по-русски. Судя по радушному приему, оказанному нам, можно было заключить, что они отнеслись к русским благосклонно.
К концу дня мы пришли на отдых в большую, утопавшую в садах деревню. Солнце только что зашло, и приятная вечерняя прохлада сменила дневной жар. В недвижном воздухе пахло дымом. На зеленоватом ясном небе зажглась первая звездочка. Умывшись холодной, чистой водой, я пошел в сад. Как и всегда, меня тянуло к природе, в уединение… Высокие с побеленными стволами деревья, усыпанные многочисленными дозревавшими плодами, приняли меня под свою молчаливую сень. Несколько солдат со смехом и подбадривающей руганью сбивали палками сочные, румяные яблоки, но при моем появлении смутились и с виноватыми лицами разошлись, так как под страхом розог им было запрещено что-либо трогать в неприятельской стране. Я отправился на противоположный конец сада. За садом пролегала бархатисто-зеленая, без единого кустика и пятнышка лощина, а за нею раскинулись, куда только мог хватить глаз, поля. Я прилег на траву под большим грушевым деревом и задумался. На душе было так же хорошо, так же тихо, как и в окружавшей меня природе. Все это: и деревья, и чистое небо с мерцающей звездочкой, и зеленая лужайка, и беспредельная манящая даль, и два деревенских мальчика со звонкими голосами, сбивавшие неподалеку от меня яблоки, – все это так мало, почти даже совсем не походило на войну. Мгновениями мне казалось, что я нахожусь в родной деревушке, где я любил проводить лето. Но вот по дороге, левее лужайки, из-за бугра вышло несколько солдат с ружьями на плечах, вероятно дозор, и я вернулся к действительности. И вдруг с гордостью я вспомнил, что нахожусь во вражьей земле, что здесь я сижу не как мирный гость, но как великодушный победитель и что потому над всем меня окружавшим, даже над жизнью этих милых, невинных ребятишек как будто я имел какое-то неоспоримое право…
Уже совсем стемнело, и на небе мерцали мириады звезд, когда я вернулся в халупу. Чистенькая и аккуратненькая снаружи, халупа оказалась еще лучше внутри. Комната, освещаемая небольшой керосиновой лампой, просторная, но в то же время уютная. Пол деревянный и тщательно вымытый. На стенах, покрашенных голубой известью, висели часы, лубочные картины, а левый угол был весь завешан иконами в красивых рамках. На маленьком круглом, покрытом белой скатертью столике стояло деревянное вырезанное распятие и лежал польский молитвенник. Около стены с двумя окнами, уставленными вазонами с цветами, находился длинный выскобленный стол со скамьей. Немолодая на вид баба с медным крестом на груди, висевшим на красных мелких четках, сидела на широкой деревянной кровати с огромными подушками и высокими спинками, и молча, но вполне дружелюбно смотрела на непрошеных гостей. Денщики устраивали нам постели на соломе в углу под иконами. В это время открылась дверь, и вошел с ружьем в руках солдат, который, обратившись к штабс-капитану Василевичу, проговорил:
– Так что, ваше благородие, нету этого хлопца, должно, убёг.
– Эх, жалко, черт возьми, – пробормотал ротный командир. – Ты, брат, передай подпрапорщику, чтобы дневальные не зевали, а то ведь черт его знает, что за народ, не у себя в России… Ну, ступай!
Солдат неуклюже повернулся и вышел. Я заинтересовался и спросил у штабс-капитана Василевича, в чем было дело. Оказалось, что в халупе, где мы остановились, находился какой-то молодой паренек. Своим подозрительным поведением он обратил на себя внимание всех. К офицерам он не обращался с расспросами, а все больше заговаривал с солдатами. Ротный командир, предполагая, что это какой-нибудь шпион, приказал учредить за ним надзор, но едва только стемнело, как он куда-то скрылся, и нигде не могли его найти.
Никто из офицеров нашей роты не придал этому факту большого значения, но, быть может, впервые за весь поход каждый из нас, ложась спать на мягкую солому, смыкал усталые веки с легкой тревогой на душе.
– А что вы думаете, господа, разве не осмелится эдакий молодец прийти к нам ночью в гости и перерезать всем глотки и, таким образом, сразу, без всякого боя лишить наш полк четырех доблестных офицеров? – проговорил полушутя-полусерьезно штабс-капитан Василевич. И с этими словами положил под подушку заряженный револьвер.
Мы засмеялись каким-то неестественным, деланым смешком и ничего не сказали. Денщики потушили лампу, кое-как примостились в противоположном углу, и через некоторое время в тишине темной комнаты раздавалось только мерное тиканье часов и легкое всхрапывание заснувших усталых людей. Я помолился Богу и лег под шинель, стараясь отогнать от себя черные мысли, навеянные последними словами ротного командира.
Однако вскоре физическое утомление и сильные впечатления дня взяли свое, и я заснул крепким, свинцовым сном. Ночь прошла спокойно. Наутро, едва заблестели первые лучи восходящего солнца, которое как будто улыбалось влажной, ожившей после ночной дремоты земле, наш полк уже вытягивался в походную колонну по узкой дороге, выходившей из деревни. Солдаты отдохнули за ночь, а свежее радостное утро возбуждало в этих молодых, здоровых людях жизненную энергию и создавало бодрое и веселое настроение. Повесив ружья на ремень через плечо, с тяжелыми мешками за спиной и лопатами сбоку, они шли по шесть человек в ряд, смеясь и отпуская всякие шуточки и прибаутки.
Впереди полка ехал командир со штабом; там уже несли знамя. Между батальонами, выделяясь своими темно-зелеными, чистенькими, красивыми, как игрушки, орудиями и чуть-чуть погромыхивая колесами, двигались батареи. Сзади полка, вытянувшись в длинный хвост, одна за другой ехали повозки обоза. Я шел, не чувствуя никакой усталости, жадно осматривая все, что попадалось нам на пути. В начале местность более или менее равнинная постепенно перешла в холмистую и покрытую кое-где густыми сосновыми лесами. Деревушки, похожие на наши, русские, но более чистенькие, встречались часто, через версту-две, и почти в каждой можно было видеть простой, но нередко довольно красивой архитектуры костел и дом ксендза. Дороги становились лучше и лучше, большинство шоссированные, и на перекрестках их стояло или высокое деревянное распятие, или каменная статуя Пресвятой Девы. Часто также нам попадались большие озера и пруды, которые кишели дикими утками и гусями.
Когда мы спросили у галицийских крестьян, почему у них такое множество дичи, они сказали нам, что им строго запрещено охотиться и потому дичь сохраняется.
Присматриваясь к окружавшему, я в то же время не переставал думать о той причине, которая бросила меня с оружием в руках в эту чуждую, благоустроенную и, казалось, мирную страну, то есть думать о войне. Подчас красивые и умилительные сельские картины говорили скорее за то, что все происходящее есть не более как приятная экскурсия за границу с научной целью, но никак не война. И действительно, мы углубились внутрь Галиции чуть не на 50 с лишним верст, а между тем не встретили ни одного австрийского солдата. Да, противника еще не было, но были уже его зловещие признаки. Часто по пути попадались сожженные мельницы, разрушенные дома и восстановленные нашими саперами мосты. В деревнях и местечках, мимо которых мы проходили, висели большие белые флаги, свидетельствовавшие о покорности населения и приятно щекотавшие своим видом наше самолюбие победителей. Кое-где у дороги валялись поломанные шашки, выстрелянные гильзы и пустые пачки от патронов – следы стычек нашей и неприятельской кавалерии. Судя по тем скудным сведениям, которые мы имели о противнике, очевидно было одно, что австрийская конница отступала под натиском нашей конницы, и благодаря этому наши войска беспрепятственно вторглись в пределы Галиции.