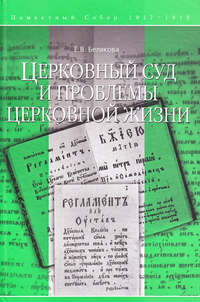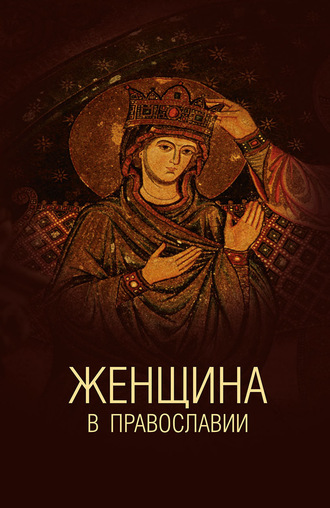
Полная версия
Женщина в православии. Церковное право и российская практика
Аристин: «Так называемые председательствующие не должны быть поставляемы в церквах. Ибо если запрещается им исполнять гражданские должности, то каким образом они в церкви будут когда-нибудь первенствовать над клиром и как будут иметь их какими-то главами?».
Толкование Алексея Аристина имеет исключительно общественно-политический характер, поэтому его очень легко повернуть в свою пользу сегодняшним защитникам женского священства: раз женщинам позволено занимать все гражданские должности, то почему же они не могут первенствовать над клиром?
Вальсамон: «В древности некоторые женщины, занимая места пресвитерид в соборных церквах, наставляли, вероятно, в благочинии прочих женщин. Итак, поелику некоторые терпели вред от сообщества с таковыми, которые не добро пользовались добром из высокомерия или корыстолюбия, то отцы совершенно запретили быть в церквах таким женщинам, называемым пресвитеридами, или председательствующими. Но не скажи: каким образом это бывает в женских монастырях и одна женщина, т. е. игуменья, имеет начальство над всеми? Ибо услышишь, что отречение ради Бога и пострижение делают то, что многие считаются единым телом, и все, что касается только их, направляется только к душевному спасению. А учить женщине в соборной церкви, где собирается множество мужей и жен различных мнений, есть дело самое неприличное и пагубное»77.
Толкование Вальсамона вызывает некоторые вопросы: почему он упрекает пресвитерисс в корыстолюбии? Чтобы избежать противоречия, он сам говорит об игуменьях в женских монастырях, делая для них исключение. Его слова о «неприличности и пагубности» женского учения свидетельствуют о том, что для Византии его времени был чужд образ женщины учащей.
Правило Василия Великого 44-е говорит о диакониссе, впавшей в блуд с язычником. Она остается в молитвенном общении, но отлучается от причастия на 7 лет. В правиле содержится объяснение, почему не может вступать в брак диаконисса: «Посему мы телу диакониссы, как освященному, не позволяем более быти в плотском употреблении»78.
Толкователи отмечали, что здесь имеет место случай двойного наказания, хотя 32-е правило Василия
Великого говорит о том, что согрешившие клирики только извергаются из сана, но не отлучаются. Диаконисса же лишается и сана, и отлучается от причастия.
Аристин: «Вот здесь две епитимии, ибо диаконисса низводится с своей степени и принимает епитимию на 7 лет и лишается Божественных Таин за то, что она учинила блуд с неверным»79.
Вальсамон пытается распространить принцип двойного наказания и на другие случаи: «Той, которая была посвящена Богу, хотя бы она и была извержена, ни в каком случае не позволяет сочетаваться с кем-либо, потому что тело ее освящено и должно быть соблюдаемо вне всякого общего и плотского употребления, в силу общего правила, которое говорит: «Священное не делается скверным». Заметь это по отношению к клирикам и монахам, а также, конечно, по отношению к монахиням и подвижницам, слагающим сан и желающим сочетаваться с законными женами и мужьями».
Следующий вывод, который Вальсамон сделал из этого правила, оказывается достаточно необычным: «Думаю, на основании настоящего правила справедливо должно быть возбраняемо вступать во второй брак и женам священников, точно так же, как и лицам посвященным, если они отрекаются от священства, не должно быть дозволяемо жить подобно мирянам и вступать во второй брак. Ибо жены священников, сделавшись единым телом и единой плотью священническою через совокупление со священником, и, следовательно, как бы посвященные, не должны быть оскверняемы посредством второбрачия; а священникам, так как они раз отложили второбрачие чрез то, что приняли посвящение и обещали сие Богу, не должно быть дозволяемо из-за плотского вожделения отрекаться от священнического достоинства, нарушать обет Богу работать плотскому вожделению: но хотя и отреклись от священства, им должно быть запрещено единожды освященные тела свои осквернять вторым браком»80.
Эти выводы Вальсамона повлекли за собой широкие последствия: именно на них ссылаются сторонники запрещения второбрачия и священникам, и их женам.
Причем, если запрет второбрачия священникам получил экклезиологическое обоснование, то по отношению к женам он вызывал недоумение81.
Подведем итоги: правила употребляют по отношению к женщинам тот же глагол «χειροτονίζειν» и не делают различия в хиротонии и хиротесии. Чин диаконисс неоднократно подтверждается правилами соборов. Функции же диаконисс правила не определяют. Правила свидетельствуют также о том, что чин пресвитерисс в какое-то время имел место в церкви, но был отменен.
Правила знают еще и об обычае предания дев Богу (κόρων καθιέρωσιν) (Карфаг. 6)82 – сербская ред.: «д(е)-в(и)ць с(вя)щение»83, которое может совершать только епископ. Толкование на это правило содержит объяснение этому обычаю: (сербская редакция: «а еже глаголет правило ос(вя)щати д(е)в(и)цу, се есть обычай имяху правовернии человецы испрева и доселе, от дщерей своих едину обручати Б(о)гу, или сами девицы, желанием б(о)жественым разжегшеся, обещавахуся Г(о)с(поде)ви девствовати вся дни живота своего и сия приводими бываху ко архереом, и тии ос(вя)щаху их молитвами, и жилище особено близ соборныя ц(е)ркве даяху им, и мест(о) отлучено в ц(е)ркви, да стоят поюще и славяще Б(о)га и храняще я опасно и всеми потребами их печахуся. Таковии же греческим языком аскитрие именуются»84.
Это имеющееся в славянской традиции толкование не совпадает с известными в греческой традиции85.
Зонара: «А освящение дев не есть рукоположение диаконисе, но был обычай, что приходили в церковь девы, дающие обет девства и обещающие хранить чистоту, и таковых, как бы посвященных Богу, епископы освящали посредством молитв и заботились об охранении и руководстве их после того, как они разлучались со своими родителями, как показывает 44-е правило настоящего собора. Это-то и запретил собор совершать пресвитерам»86.
Почти дословно воспроизводит это толкование и Вальсамон.
Таким образом, в славянском толковании можно отметить две особенности: во-первых, подчеркивание того, что обычай держится и в настоящее время, а во-вторых, возможность девиц действовать и без согласия родителей и подробности о том, что эти девицы живут около церкви. Это толкование читается уже в древнейшей славянской рукописи сербской редакции – Иловицком списке87.
Императорское законодательство, вошедшее в состав канонических сборников, включало не менее содержательный материал.
Собрание новелл императора Юстиниана в 87 главах88 также содержит постановления, касающиеся женского служения в церкви. 5-я глава (Новелла 6.6) повышает возраст для диаконисс до 50 лет, но это правило не распространяется на монастырских диаконисс. Эта же глава определяет круг лиц, с которыми может жить диаконисса. Диакониссе запрещено выходить замуж, в случае нарушения запрета у нее отбирается все имение, а тот, с кем она вступила в брак, должен быть казнен («мечное усечение»). Древнеславянская редакция использует здесь слово «слоужебниць». Этот же запрет повторяется и в главе 73, где предписано изгонять из дома диакониссы мужчину, а в случае отказа диаконисса лишается «церковного служения»89, своих «обръкъ»90 (греч. των ιδίων διαρίων), и она должна быть отправлена на всю жизнь в монастырь, а если имеет детей, то ее имение должно быть разделено между ними. Глава 85 (84) предусматривает смертную казнь тому, кто растлит женщин, имеющих церковное служение. К таковым отнесены «постницы» (греч. άσκήτριαι, диакониссы, «манастырüнèöè» – сербск. ред.: «черноризици», а также жены «бл(а)гобоязнива жития образ имущии» «жену говеину житие или образ имящу» – древнеслав. («женоу говѣèнɣ жèтiе èлè образъ èмѧшɣ— сербск.); в сербской редакции изменен порядок: на первом месте стоит «черноризица»).
Второе собрание постановлений Юстиниана, вошедшее в состав сербской редакции Кормчей («От различных титл, рекше граней Иоустиниана царя»), также содержит постановления о диакониссах: в составе клира Святой Софии их должно быть 1491 (их место после 60 пресвитеров и 100 диаконов и перед 6 иподиаконами, 110 чтецами и 25 певцами и 100 дверниками)92 – Новелла 3. Глава 1 девятой грани определяет, что в случае судебного иска на «священную девицу» или жену, «сущую в монастыре», судьей может быть только епископ93. Глава 5 десятой грани определяет, что в случае смерти диакониссы без завещания ее имение переходит к церкви, в которой она поставлена (это же правило в равной степени относится к епископу и любому причетнику). Глава 1 одиннадцатой грани говорит о избрании игуменьи в женские монастыри и в жилища «священных девиц»94.
Таким образом, для времени императора Юстиниана – VI в. – возможно говорить о функционировании чина диаконисс. Закон отмечает как наличие у них собственного имущества, так и получение ими доходов от церкви. Помимо монашествующих, греческая практика знала и категории «священных девиц», и в обязанности епископов входило предоставлять им жилища, следить за тем, чтобы они не вели соблазнительный образ жизни, судить их по делам церковным.
Во времена патриарха Фотия, в IX в., выделение в «Указателе XIV титулов» специальной главы о диакониссах свидетельствует также о функционировании этого чина.
И хотя Вальсамон говорит о том, что служение диаконисс уже не имеет места в церкви, само название «диакониссы» продолжало, по его же признанию, использоваться для женщин-подвижниц. У греков диакониссами называли жен священников и диаконов даже в период турецкого владычества.
В XIV в. Константин Арменопул, автор знаменитого «Шестикнижия», составил «Эпитоми» – выдержку из канонов, расположив материал по шести большим разделам. Правила о диакониссах помещены во втором разделе «О пресвитерах, диаконах, иподиаконах и заклинателях». Сюда были включены только выдержки из двух правил, запрещавшие диакониссе вступать в брак: 15-е правило Халкидонского собора («диаконисса хиротонисавшеся, аще браку себе придаст, да анфематствуется») и 14-е Василия Великого, а также комментарий из «Апостольских постановлений», объясняющий, что означает сам чин диаконисс: «В глаголемых святых апостол зачинениих, сия обяшася диаконисса ничто же, яже пресвитери и диакони совершает, но токмо хранити двери и полсушати пресвитерем, в еже кр(е)щатися женам за бл(а)голепие»95.
В разделе «О монашествующих» приведено правило 14 патриарха Константинопольского Никифора: «Подобает монашествующия входити в с(вя)тыи жертвенник и вжигати свещу и кадила и красити храм»96.Это правило патриарха Никифора в русской печатной Кормчей изложено с противоположным смыслом: «Не подобает инокиням входити в святой алтарь, ни вжигати свещу и кандило, и украшати и пометати»97. Однако и греческие тексты, и другие славянские переводы не содержат отрицания, а, наоборот, разрешают монахиням входить в алтарь. Это расхождение было отмечено еще В. Н. Бенешевичем98. Греческая Кормчая – «Пидалион» – также содержит это правило в форме разрешения, а не запрета (канон 15 патриарха Никифора), а в комментарии сказано, что это разрешение действительно только в самих женских монастырях, а не вообще в церкви99.
3. Участие мирянок в церковной службе
Что касается правил, относящихся к участию в церковной службе обычных женщин-мирянок, то Ж. Бокам охарактеризовала их как «отстранение от сферы сакрального и от учительства»100, и с этим можно согласиться, потому что правила содержат почти исключительно запреты.
Правила, относящиеся к мирянам, находятся в 13-й грани Сборника XIV титулов «О мирских людях». В основном это правила, в равной степени касающиеся и женщин, и мужчин (как, например, глава 5 «О блуде и о прелюбодеянии и о растлении девиц и о мужелегании»). Но есть и несколько глав, где женщины упоминаются особо. Это глава 6 «О том, аще жена мирскаго человека прелюбы сотворит от него», глава 9 «О женах, творящих блуд, и о умирающих ражающихся в них младенцев, и о творящих таковая детогубная зелия».
Именно в составе этой грани и имеется глава 26 «О том, яко не подобает женам в олтарь входити, и яко токмо священникам причащатися во алтаре».
В этой главе указаны правила Лаодикийского собора – 43-е и Трулльского собора – 69-е.
Греческий текст 43-го правила Лаодикийского собора, опубликованный В. Н. Бенешевичем по рукописям, отличается от Афинской Синтагмы – «жена» употреблено в рукописи во множественном числе101. Древнеславянская редакция: «Яко не подобает женам в олтарь входити»102. Множественное число употребляют и все толкователи, следовательно, можно предположить, что и в греческом тексте, которым они располагали, «жена» было употреблено во множественном числе. Представляется, что это имеет значение потому, что запрет имеет в виду не женщину как вообще существо, а мирских женщин, т. е. женщин, не состоящих в клире.
Зонара так объясняет этот запрет: «Если мужам-мирянам запрещено входить внутрь алтаря по 69-му правилу Шестого собора, то еще более это может быть запрещено женщинам, у которых непроизвольно случается и течение месячных кровей»103. Вальсамон замечает, что «в латинских странах женщины без стыда входят в святилище, когда хотят»104.
Славянская Кормчая и здесь содержит толкование, не совпадающее с известными греческими: «Недостоино есть женам и мирским человеком во с(вя)тыи олтарь входити. Очистилище бо олтарь сказуется, якоже 69-е правило шестаго вселенскаго собора, иже в Трулле полатнем повелевает»105.
69-е правило Трулльского собора, на которое ссылались толкователи, запрещает вообще всем мирянам (не упоминая отдельно женщин) входить внутрь алтаря. Исключение сделано только для царя. В древнеславянской Кормчей 69-е правило Трулльского собора вообще пропущено, как первоначально и в греческом оригинале, где оно дописано позднее, и поэтому произошло расхождение в нумерации правил между греческими и славянскими списками106. Толкователи также ничего не говорят о женщинах в этой связи. Только Вальсамон отмечает, что это правило во многих местах не соблюдается, и упоминает в связи с этим порядки у латинян: «Настоящее правило запрещает мирянам входить внутрь божественного алтаря, потому что он отделен для одних священных лиц. Но царю, хотя он и мирянин, по некоторому древнему преданию дозволено это, когда он пожелает принести дары Богу. А каким образом в божественное святилище преславного храма Господа нашего Иисуса Христа на острове Халки беспрепятственно входит всякий желающий, я не знаю. А о латинянах знаю, что не только миряне-мужчины, но и женщины входят во святой алтарь и сидят даже часто и тогда, когда стоят священнодействующие… Я, впрочем, много употребил старания, чтобы воспрепятствовать мирянам входить во святой алтарь храма Пресвятыя Госпожи моея и Богородицы Одигитрии; но не мог достигнуть успеха: говорят, что это древний обычай и не должно возбранять»107.
Поведение женщины в церкви регламентирует 70-е правило Трулльского собора, запрещающее женщинам разговаривать во время литургии: «Не позволительно женам во время Божественныя литургии глаголати, но по слову апостола Павла да молчат. Не повелеся бо им глаголати, но повиноватися, якоже и закон глаголет. Аще ли же чесому научитися хотят в дому своих мужей да вопрошают»108. Это – цитата из Послания к коринфянам (1 Кор. 14, 34-35). Толкователи считали, что это правило имеет отношение не только к поведению женщин во время литургии, но и вообще в церкви. Очевидна тенденция к расширительному толкованию правила.
Зонара: «Великий Павел заповедует женщинам молчать не только во время литургии, но и при всяком собрании верных (1 Кор. 14, 34). Это и у внешних почиталось приличным; ибо один из поэтов говорит: женщина! Молчание дает женам украшение. И настоящее правило заповедует им молчание во время литургии; а если, говорит, желают чему научиться, пусть спрашивают своих мужей дома. И это апостольская заповедь. Но здесь правило законом назвало апостольские заповеди»109.
Необходимо отметить также, что и данное правило, следуя буквально апостольским словам, возлагает функции учителя в вере не на епископа и священника, а на мужа.
Весьма интересно толкование Вальсамона. В поддержку этого правила он приводит все случаи ограничения прав женщин, имеющиеся в законе: «В Послании к коринфяном (1 Кор. 14, 34) великий Павел повелевает женщинам молчать и повиноваться своим мужам, по закону Моисееву, который говорит: к мужу твоему жена, обращение твое и той тобою обладати будет (Быт. 3, 16). Итак, согласно с сим и правило определяет, чтобы женщины не разговаривали во время божественной литургии, но дома научались от своих мужей, о чем желают. В виду сего определения не говори, что им запрещено говорить во время литургии, а во время других собраний можно разговаривать беспрепятственно: ибо и тогда они должны молчать. Кажется, что в то время некоторые женщины, объясняя чтение божественных писаний, брались говорить в церкви много и давать ответы на вопросы, что, по мнению отцов, не свойственно женщинам, а потому и запрещено. Но наедине спрашивать разумнейших женщин о каких-нибудь душеполезных предметах – не ново.
Прочти еще 8-ю книгу Василик титул 1-й главу 1-ю положение 5-е, в котором женщинам запрещается публично говорить, и говорится именно следующее: «только в защиту себе самих публично говорят женщина и слепой; ибо женщина не участвует в мужском деле». И книгу 21-ю титул 1-й главу 11-ю, в которой говорится: «женщина не свидетельствует завещания; а из других дает свидетельство в таких, к которым не призываются мужчины». И 48-ю новеллу императора господина Льва Мудрого, которою запрещается женщинам свидетельствовать при заключении договоров и контрактов. Но о рождениях и о том, что видит один женский глаз, а не глаза мужчин, женщине дозволяется давать свидетельство. Ищи еще 118-ю Юстинианову новеллу или главу 10-ю 4-го титула 37-й книги Василик, в которой запрещается женщинам принимать на себя обязанности опеки, в которой, между прочим, говорится именно следующее: женщинам и мы запрещаем принимать на себя обязанности опеки, кроме матери и бабки: им одним, по порядку наследования, дозволяем принимать на себя и опеку, если они не отрекутся от сего записями, или вследствие других браков.....»110.
Таким образом, отстранение женщин от участия в общественной жизни, определенное ограничение их в гражданских правах служило также основанием и для расширения запретов на участие женщин в церковной жизни.
В XII в., когда писали комментаторы, диакониссы как литургический чин уже не существовали, хотя название это в церкви продолжало употребляться. Причины исчезновения этого чина различные: это развитие женского монашества111, притягивавшего к себе женщин-подвижниц, возрастание значения иерархии в церкви, борьба с богомильством, в котором женщины играли важную роль. Как пишет исследовательница Фитц-Жеральд, нельзя назвать какую-либо одну причину, которая привела к исчезновению этого чина. Более того, в женских монастырях этот чин никогда полностью не исчезал112.
Особую группу составляют правила, отстраняющие женщину от участия в таинствах в случае месячного кровотечения, которое воспринимается как «нечистота». Эти правила в последнее время становятся предметом дискуссии православных женщин, так как высказываются сомнения в их обоснованности113. Нельзя забывать, что есть и правила, отстраняющие мужчину от таинств как в тех случаях, когда он вступал в половое общение с женой, так и в случае непроизвольных ночных истечений.
О запрете женщинам приступать к таинствам в определенном состоянии говорят 6-е правило Тимофея Александрийского и 2-е правило Дионисия Александрийского. Правило Тимофея Александрийского запрещает крестить в этом состоянии женщину. Сербская редакция Кормчей: «Оглашеннии, аще будут во истчении, не крестятся, дондеже очистятся»114. А правило Дионисия Александрийского запрещает не только причастие женщине, но и вход в церковь в этом состоянии: «Жены суще в течении крове, в божественную ц(е)рковь да не внидут, и с(вя)тых таин да не причастятся» (сербская редакция Кормчей)115. Пространная редакция этого правила содержит объяснение этому запрету: «О женах, находящихся в очищении, позволительно ли им в таком состоянии входити в дом Божии, излишним почитаю и вопрошати. Ибо не думаю, чтобы они, аще суть верные и благочестивые, находясь в таком состоянии, дерзнули или приступити к святой трапезе, или коснутися Тела и Крови Христовы. Ибо и жена, имеющая двадцатилетнее кровотечение, ради исцеления прикоснулася не Ему, но токмо воскрилию. Молитися, в каком бы кто ни был состоянии и как бы ни было расположен, поминати Господа и просити помощи не возбранно есть. Но приступати к тому, еже есть Святая святых, да запретится не совсем чистому душею и телом»116.
Зонара объясняет происхождение понятия «ev dfeSpj», употребленное в греческом: «Еврейские женщины во время течения месячных кровей сидят в уединенном месте и не прикасаются ни к кому, пока не пройдет семь дней; отсюда явилось выражение: «ev dfeSpj», указывающее на то, что они отделяются от сидения с прочими, как нечистые»117. Вальсамон, полностью повторив толкование Зонары, добавил: «Несмотря на такое определение великого архиерея, мы видим ныне, что в женских отделениях церквей и особенно в монастырях таковые жены бесстрашно стоят в предхрамиях, украшенных различными святыми изображениями и назначенными для славословия Бога; и когда спрашиваем: каким образом это бывает? нам отвечают, что они не в церковном собрании занимают место. Мне кажется, это не так; ибо предхрамия не суть обыкновенные места, каковы ходы пред церквами, но часть их, предназначенная для тех жен, которым не возбраняется присутствовать в церковном собрании: каковое предхрамие есть второе место покаяния, для так называемых слушащих… Итак, нужно, чтобы подобные предхрамия, в которых должны стоять нечистые женщины, не составляли такой части церквей, где бы священники проходили с божественными дарами во время херувимской песни. или пусть с епископского дозволения назначены будут такие места, где бы неочистившиеся женщины стояли без предосуждения. .Впрочем, в старину женщины, по-видимому, входили в алтарь и причащались от святой трапезы, почему правило и упоминает об алтаре». Далее Вальсамон приводит 17-ю новеллу императора Льва Философа, запрещающую крестить и причащать женщин после родов до 40 дней, только в случае угрозы жизни им это дозволяется118.
Современная исследовательница Мария Фотини Полидулис-Капсалис в этом правиле св. Дионисия видит прямое влияние еврейской практики на новозаветный мир: «Кажется почти невероятным, что законы левитов Ветхого Завета проникли в Церковь Христа, особенно после строгого запрета Учителя следовать как средству спасения букве Закона, а не духу Закона119, и после строгих проповедей апостола Павла против иудействующих христиан» 120. Она противопоставляет это правило поведению самого Христа, который не только не прогневался на прикоснувшуюся к Нему «нечистую» женщину, но и ободрил ее и назвал «дочерью». По поводу правила Тимофея исследовательница отмечает, что «очищение», согласно Ветхому Завету, не требовалось от женщины в обычных случаях (Лев. 15, 30). У современной исследовательницы возникает закономерный вопрос, почему естественный процесс, не зависящий от женщины, делает ее «нечистой».
Еще больше вопросов возникает и в связи с отношением к родящей женщине: нечиста не только она в течение 40 дней, но и те, кто принимал у нее роды или даже присутствовал во время родов. И уже совсем, по современным понятиям, странная ситуация складывается тогда, когда младенца крестят и не допускают до него «нечистую» мать – вскармливать его должна кормилица. Только в отсутствии кормилицы, когда не прошло еще 40 дней с момента рождения, матери разрешается кормить младенца. Это отступление митрополит Иоанн (XI в.) объясняет тем, чтобы младенец не умер с голоду121. Здесь каноны соприкасаются с областью архаичных представлений о «чистом» и «нечистом», имеющихся во всех древних культурах. Христианская традиция здесь оказывается непоследовательной: часть представлений о «нечистом» в ней снимается (так, отсутствуют запреты, связанные с умершими, контакты с которыми оскверняют, согласно иудейской традиции, людей), но сохраняются запреты, связанные с кровью. Изучение епитимийных номоканонов показывает, как широко понималась область «нечистого», связанного с родами. Согласно епитимийникам, отстранению от причастия подлежала не только роженица, но и бабы, принимавшие роды, а также те, кто присутствовал при родах.
Изучение канонического материала позволяет сделать следующие выводы: чин диаконисс в церкви подтвержден многократно соборными правилами, и само понятие «рукоположение женщин» не вызывало у средневековых толкователей каких-либо возражений. Как и по отношению к священникам и диаконам, соборные правила определяют нормы поведения и требования к диакониссам.
Помимо диаконисс правила знают и чин «дев, посвященных Богу». Расцвет женского диаконата приходится на IV—VII вв. Оба эти чина со временем были вытеснены, по-видимому, женским монашеством. Однако полного забвения этих чинов Церкви не происходило.