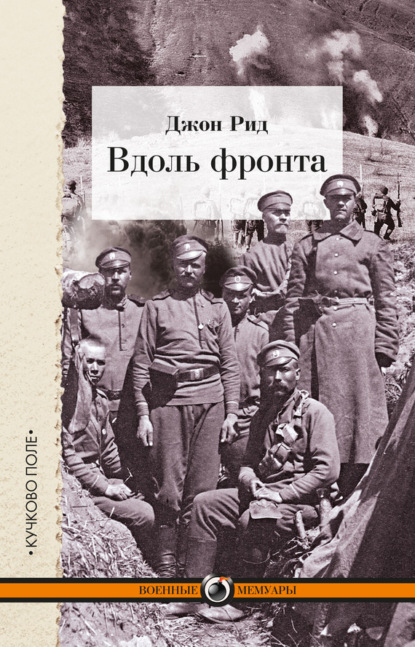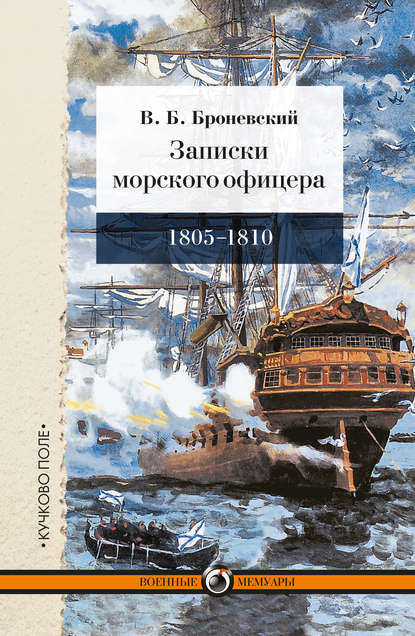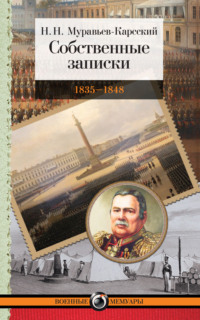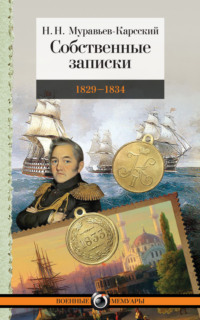Полная версия
Собственные записки. 1811–1816
Я жил вместе с братом Александром и двоюродным братом Мордвиновым. Случалось нам ссориться, но доброе согласие от того не расстраивалось. Мы получали от отца по 1000 рублей ассигнациями в год. Соображаясь с сими средствами, мы не могли роскошно жить. Было даже одно время, что я, во избежание долга, в течение двух недель питался только подожженным на жирной сковороде картофелем. Матвей часто приходил разделять мою трапезу, нимало не гнушаясь ее скудостью. Помню, как я в это голодное время пошел однажды на охоту на Охту и застрелил дикую утку, которую принес домой и съел с особенным наслаждением. Изредка навещал нас по вечерам бывший экзаменатор мой, добрый Шефлер. По воскресеньям бывал я на вечерах у Н. С. Мордвинова, где танцевали. Страсть моя к дочери его возрастала; я навестил адмирала однажды и на мызе, в Парголове, где он проводил часть лета с семейством. Более я ни у кого не бывал и проводил время дома. Вне служебных занятий вел я жизнь праздную, вовлекшую меня в школьные шалости, которые, может быть, несколько и повредили мне.
Первая попавшаяся мне книга была Compere Mathieu.[9] Несколько раз прочитал я этот роман, который мне очень понравился, но разрушил все мои религиозные понятия и чувства; однако книга сия не заменила разрушенного новыми правилами, и потому она только спутала понятия мои, не возродив ничего нового. Мне тогда было 16 лет. За этой книгой попалась мне в руки «Новая Елоиза» Руссо. Чувствительность, выражающаяся в сих письмах, растрогала мое сердце, по природе впечатлительное. Разметанные первым чтением мысли мои начали приходить в порядок. Несколько раз прочитал я с большим вниманием «Новую Елоизу», и страсть моя к Н. Н. усилилась. Думаю, что начало это способствовало к развитию во мне нелюдимости, к которой я от природы склонен. Я тогда уже находил удовольствие в уединении, ходил по вечерам задумываться на Быки,[10] где просиживал до глубокой ночи, ходил на охоту и наслаждался своим одиночеством, когда лежал среди леса, растянувшись на траве вдали от свидетелей, коих, казалось, избегали и мысли мои. Предаваясь воображению, я сравнивал положение свое с положеньем независимого человека. Слог Жан-Жака увлекал меня, и я поверил всему, что он говорит. Не менее того, чтение Руссо отчасти образовало мои нравственные наклонности и обратило их к добру; но со времени чтения сего я потерял всякую охоту к службе, получил отвращение к занятиям, предался созерцательности и обленился. Я перемогал свою лень при исполнении обязанностей и стал уже помышлять об отставке. Я и теперь ленив, но не для того, однако же, сознаюсь в том, чтобы таким признанием пред собою скрыть множество других недостатков, ибо в лености всего легче сознаться.
Мне очень желалось видеться с отцом и показаться в Москве в мундире. Получив отпуск на 28 дней, я отправился и был хорошо принят в родительском доме, где прежние знакомые, обращавшиеся со мною когда-то как с ребенком или учащимся, ныне с любопытством расспрашивали меня о Петербурге и службе. Мне особенно льстила встреча со старыми учителями, и не верилось, что я не обязан им более повиновением. Мне странно казалось и то, что власть родительская тяготела на офицере как бы слабее, чем на ученике. Но вместе с тем я узнал, что родительский гнев в некотором возрасте чувствительнее, нежели в малолетстве. Гнев этот, возбужденный вмешательством моим в дела, не подлежавшие моему суждению, был, однако же, непродолжительный и остался без неприятных последствий. Доброе согласие между нами не нарушилось.
В то время как отец возил меня для определения на службу в Петербург, брат мой Михайло, оставшийся в Москве и сделавший уже замечательные успехи в математике, пригласил учителей своих, или, вернее сказать, соучащихся с ним, университетских профессоров, составить математическое общество, коего он назвал себя директором. Цель общества состояла в усовершенствовании науки. По возвращении батюшки в Москву предложили ему быть президентом. Сочинивши устав, просили князя Волконского принять звание члена общества, в которое были приняты и другие лица, в том числе и мы, два старших брата. Общество сие, постепенно развиваясь, превратилось в училище. Несколько московских молодых людей, познакомившись с батюшкой, просили его преподавать военные науки, на что он согласился. Брат Михайло занялся преподаванием математики, профессора же каждый по своей части. Когда я приехал в Москву, то застал уже человек десять учеников. Батюшке пожалован был государем перстень с изображением вензеля Его Величества. В числе учившихся были двое Колошиных, Михайло и Петр (третий брат их Павел был еще ребенком). Старшему было двадцать лет. Скромность его и приличие в обращении привлекали меня к нему; мне казалось, что его тревожила скрытая грусть и что он искал друга, которому мог бы поручить свои думы. Также и я надеялся получить его доверенность. Мы взаимно объяснились в сердечных наших тайнах, после чего подружились с тем теплым увлечением души, какое дано нам ощущать только в молодых летах.
* * *(Писано в Тифлисе, в октябре 1817 года)Мне оставалось только три дня жить в Москве до истечения отпуска, и я собирался уже выехать в Петербург; но у батюшки готовился экзамен, и ему хотелось, чтобы я был свидетелем, дабы мог лично доложить князю Волконскому об успехах его учеников, почему и поручил мне все устроить к вечеру. Экзамен состоялся в присутствии многих профессоров университета и был удачен. М. Колошин в особенности отличился своими познаниями. На другой день экзамена я выехал из Москвы; батюшка провожал меня за четырнадцать верст от города и, по-видимому, старался ласками своими изгладить впечатление от небольшой размолвки, между нами случившейся.
По возвращении в Петербург я застал уже Главный штаб переведенным из Михайловского замка в Кушелева дом, где изготовлялось помещение для колонновожатых, их классов и несколько квартир для офицеров.
По приведении всего этого в окончательное устройство переселили туда 24 человека колонновожатых. Директором сего нового училища был назначен полковник Хатов, помощником его подполковник Шефлер, а дежурными надзирателями: поручик Окунев, подпоручик Дьяконов и я. Я переехал на новую свою квартиру и вступил в должность, которая состояла в том, чтобы смотреть за поведением колонновожатых, живущих в доме, ежедневно осматривать одежду у всех собиравшихся на лекции 60 колонновожатых прежде и после классов, в классах блюсти за порядком и тишиной; колонновожатых, живущих в доме, водить вместе к обеду в общую застольную, увольнять по билетам со двора, ввечеру подавать рапорт о происшедшем помощнику, ночью делать рунды по комнатам, поверять дневальных и делать три раза в день перекличку. Кроме того, должно было колонновожатых водить на все парады, где они выстраивались по ранжиру.
Между колонновожатыми находилось много таких, которые уже пять лет в службе числились, иным было уже под тридцать лет от роду. Неминуемо было, что многие из них на меня дулись, ибо мне было только семнадцать лет и несколько месяцев службы. Я был строг в исполнении своих обязанностей и не пропускал ни одной вины без замечания. Поэтому не полагаю, чтобы все колонновожатые меня полюбили; но повиновение сохранилось.
Кроме сей должности мне еще поручили экзаменовать в математике колонновожатых и вновь определявшихся к нам на службу; на мое попечение возложили также библиотеку, которую только что начинали устраивать: собрано было пожертвований около 2000 книг, которые надобно было привести в порядок и сделать им каталог. Мне тоже было поручено преподавание математики в 1-м классе, состоявшем из 32 колонновожатых, в числе коих некоторые более меня знали, другие же ленились.
Князь требовал порядка и тишины в классе. Из осторожности я мало касался в классе сильнейших меня в науке, дабы они не могли заметить своего преимущества надо мною; старикам же, которые ничего не знали и, по-видимому, никогда ничему бы не научились, я снисходил. Уважение, которое я им при других колонновожатых оказывал, расположило их ко мне, и они соблюдали должное повиновение; таким образом, сохранился между всеми постоянный порядок. Но порядок нарушался в дежурство других двух офицеров, при коих колонновожатые делали большие шалости и смеялись над ними.
Некоторые из колонновожатых пожелали учиться у меня на квартире. Первым назвался Мейндорф 2-й, прозванный Рыжим; он у меня учился фортификации, которую я с ним прошел от начала до конца по Noizet de St. Paul. Этот Мейндорф был весьма сведущ во всех частях и человек благовоспитанный; я с ним коротко познакомился. Не видавшись с ним после того несколько лет, я встретился с ним недавно в Петербурге, по случаю перевода его в Гвардейский генеральный штаб уже штабс-капитаном. Но как он изменился! Старое близкое знакомство наше не возобновилось, связи и служба развели нас в разные концы империи, и мы редко когда после того встречались.
Многие из колонновожатых ходили учиться к Хатову и Шефлеру. Последний брал по 5 рублей за урок, но старался и на экзаменах был беспристрастен; первый же до такого совершенства довел этот порядок, что колонновожатые приносили ему вперед за тридцать уроков деньги 300 рублей и не заходили к нему более четырех раз поучиться, на пятый же являлись к экзамену, где он им писал самые лучшие аттестации. Порядок этот до сей поры еще существует на посрамление чести нашего корпуса. Хатов человек семейный и бедный, и сим способом единственно живет; князь же, допускавший сие, не знает о вошедших в обычай злоупотреблениях. Когда узнали, что мнение мое влиятельно на экзаменах и что я давал частные уроки, некоторые из колонновожатых пожелали и у меня учиться. Первый явился какой-то Harbouer, длинный, высокий; он был племянник нашего лекаря и желал определиться в службу. Снисходя его просьбе, я назначил ему прийти на другой день и дал ему первый урок; но как я удивился, когда он, вынув из кармана билет, положил его на стол! Я схватил билет, изорвал его и просил подателя более ко мне на глаза не казаться. После этого приходил еще колонновожатый Бибиков, с коим родственник мой Муромцев просил меня заняться; но как я видел, что он ленился, то я ему после нескольких уроков отказал. Двое из колонновожатых, Пейкер и Брадке, у меня часто бывали, я с ними также занимался; они были весьма молоды.
Служба моя была трудная: я вставал в 6 часов утра, всякий день проводил утро в классе до трех часов, а после обеда занимался до вечера в библиотеке. В третий день доставалось мне дежурство, и тогда уже целый день не оставлял я шарфа и по ночам ходил рундом. Случилось однажды, что адъютант князя заболел, и я тогда целую неделю отправлял его должность, т. е. ходил за приказанием в комендантскую канцелярию; таким образом, я был целый день занят. Князь Волконский полюбил меня и оказывал мне доверие.
Чахоточный граф Фалькланд, о коем прежде говорено, стал поправляться в своем здоровье. Князь к нему езжал и принял от него убеждение, что должно преподавать нумерацию и в наших классах. В ожидании совершенного выздоровления Фалькланда мне велено было пройти теорию логарифмов и поверить логарифмические таблицы с учащимися. Прискорбно было прервать начальный курс, чтобы заняться таким скучным и бесполезным делом, но я должен был повиноваться.
Так как злосчастный для нас Фалькланд стал снова хворать, то я каждый день ожидал известия о его смерти, но, к удивлению моему, однажды, как я поверял в классе таблицы, он внезапно показался в дверях залы, напоминая появлением своим и видом мертвеца Жуковского в балладе «Людмила». Вздрогнули сердца учителя и учеников! Фалькланд сел подле меня и просил продолжать урок; когда же я его кончил, он начал толковать нумерацию по-французски. Большая часть слушателей, не зная языка, не понимала его, другая смеялась. Фалькланд задыхался, все встали со своих мест и окружили его при доске; ближайшие прикидывались внимательными, но задние резвились. Всячески старался я удержать тишину, но без успеха; внутренне же я радовался беспорядку, произведенному появлением нового учителя в моем классе. Многие из колонновожатых надеялись, что подобные сцены будут ежедневно возобновляться в классах, но ошиблись. Фалькланд вынул из кармана бумагу, на которой у него были заготовлены задачи, состоящие в извлечениях корней из многоциферных чисел, написанных по разным: семеричным, восьмеричным и прочим счетам, при условленном количестве знаков. Он роздал задачи сии колонновожатым по рукам, приказав им принести их разрешенными к следующему дню. Некоторые решили их, другие же смеялись и не хотели ими заняться.
На другой день Фалькланд опять явился в класс и, отобрав тех, которые решили задачи, посадил их на первые места. Он хотел продолжать урок, накануне данный, но почти никто из слушателей по-французски не знал; некоторые стали уходить. Если бы в эту минуту вошел князь, то, конечно, я остался бы виноватым из-за беспорядков, Фалькланд же остался бы правым. Видя, что ему нечего делать, он начал рассказывать разные приключения своей жизни, много смеялся и занял всех до трех часов. Все хохотали, лазили по скамейкам.
Помощник директора Шефлер преподавал в то время во втором классе и, услышав шум, пришел, чтобы унять его; все стихло, когда он взошел; но Фалькланд, встав мертвецом и подойдя тихим шагом к Шефлеру, со свойственной французу дерзостью стал рукою гладить его по лысине, называя его mon petit caporal.[11] Бедный Шефлер потерялся от такого нахальства и не нашел ничего лучшего, как понюхать табаку; потом, пожав Фалькланду руку, пожелал ему доброго утра в самых учтивых выражениях, пока француз продолжал гладить его по плеши, насмешливо оглядываясь на присутствующих. Я был раздосадован и вышел. Шефлер последовал за мною, бранясь про себя на Фалькланда, который оставался в классе еще с полчаса, толковал и, наконец, ушел.
Он на другой же день опять занемог. В начале 1812 года зимой Фалькланд умер. Брат Александр был наряжен на похороны его с 20 колонновожатыми. Все были рады убедиться в том, что Фалькланда не стало и что он больше не будет нас мучить. Я опять начал преподавать по-старому и кончил уже тригонометрию, когда явилось новое лицо.
Кто не знал Преображенского полка капитана Рахманова, издателя Военного журнала и убитого под Лейпцигом уже в чине полковника? Он был умен, остер в речах и обладал большими сведениями, особенно в математике, но вместе с тем имел многие странности. Ему не нравилась фронтовая служба, а, кажется, хотелось сделаться начальником нового училища. Зная недостаток князя Волконского в образовании, между тем и стремление его к усовершенствованию Генерального штаба, Рахманов воспользовался слабостью князя, коротко познакомился с ним и стал с ним ездить в классы. Он уверил князя, что надобно преподавать в 1-м классе дифференциальное исчисление, а не тригонометрию. Князь слышал, что дифференциалы прекрасная вещь, но не знал, какая это наука. Согласившись с предположениями Рахманова, он дал ему право выбрать из моего класса лучших учеников и преподавать им дифференциальное исчисление, что для меня было крайне обидно: одного прислали учить нумерацию, а теперь другого – дифференциалам, отбивая у меня лучших учеников; но я должен был повиноваться, и Рахманов, проэкзаменовав и отобрав себе семерых любимцев моих, начал им преподавать, но безответственно за беспорядки, могущие случиться в классе. Рахманов приходил учить без определенного времени, а лишь когда ему вздумается, отчего классы и часы переметались, завелись шалости, и я не мог более продолжать начатый мною курс с успехом. Однажды, будучи дежурным, я записал на доске имя колонновожатого Козлова, который стал слишком забываться. Рахманову не понравилось, что я управлялся во время его преподавания, и он стер с доски имя Козлова, говоря, что ему места мало для писания формулы. Я записал имя виновного на другой доске, но Рахманов опять стер его, сказав, чтобы я более не делал сего. Я в третий раз записал Козлова, сказав Рахманову, что он не имеет права мешаться в мою должность; но он в третий раз стер имя Козлова. Тогда, сказав, что после того ему останется отвечать пред князем за беспорядок, я вышел из класса и передал все дело, как случилось, полковнику Хатову. Хатов расхрабрился.
– Вот я его, – вскрикнул он, прибежал в класс; но при виде грозного, устремленного на него взгляда Рахманова он сначала не смел прервать его занятий, наконец, решился заметить Рахманову неприличность в его поступках, но был разбит в пух и преследуем. Хатов пожаловался князю, и с тех пор Рахманову поставили особую черную доску в библиотеке, где он весьма лениво занимался со своими учениками; мне же возвратили мой 1-й класс, в котором оставалось еще 25 учеников.
Вскоре Шефлер отказался от 2-го класса и сдал его старшему моему брату Александру, который им занимался и между тем дежурил с нами поочередно.
У меня отличались поведением и науками колонновожатые Мейндорф 1-й, Мейндорф 2-й, Глазов, Даненберг, Фаленберг, Цветков, Лукаш, Брадке,[12] Дитмар, Бутовский, граф Апраксин и еще некоторые другие. Первый из них теперь служит в Конной гвардии,[13] о втором я выше упоминал. Глазов служил капитаном в Гвардейском генеральном штабе, но стал пить и переведен тем же чином в пехоту; Даненберг, Фаленберг, Цветков и Дитмар поступили к нам по экзамену из Лесного департамента; первый из них впоследствии служил со мной при великом князе Константине Павловиче и обогнал меня чином.[14] Все четверо существовали одним жалованьем. Они терпели нужду, но всегда были исправны. Лукаш человек хороший и добрый, в настоящее время штабс-капитан в Гвардейском генеральном штабе.[15] Граф Апраксин в 1812 году служил с Мейндорфом 1-м при князе Голицыне, и оба перешли от нас в Конную гвардию. Бывший родственник и друг Апраксина, граф Строганов, также был у меня колонновожатым: малый добрый, но простой, служил при генерале Ланском и убит в сражении при Краоне.
Между ленивыми колонновожатыми отличались у меня Берг и Кирьяков. Первый был сыном одного генерала по квартирмейстерской части, который, войдя однажды в класс, напал на меня за то, что я сына его посадил ниже других, и говорил, что не в знании логарифмов заключается достоинство хорошего офицера. Я защищался сколько мог, но, наконец, вынужден был объяснить генералу, что, по обязанности быть беспристрастным, не могу пересадить сына его выше прилежных учеников, и старый Берг успокоился. Кирьяков – малороссиянин; определился в службу летом, тогда как я уже был экзаменатором, но жил еще близ Смольного монастыря.
Отец Кирьякова, которого имени я прежде никогда не слышал, привез ко мне сына своего с товарищем его Бутовским, прося меня о принятии обоих в службу. Проэкзаменовав их в присутствии его, я нашел в них хорошие способности и некоторые познания, почему сказал старику, что с удовольствием дам им несколько уроков, дабы приготовить их к настоящему экзамену. Не знаю, как он понял мои слова, только на другой день вместо учеников получил я благодарственное письмо, в котором он просил меня представить молодых людей князю Волконскому. Но как я удивился, когда, поворотив лист, нашел в письме 200 рублей. В сердцах написал я ему грозное письмо с возвращением денег и запрещением когда-либо переступать ногой за порог моей квартиры; заключил же письмо изложением мнения моего, что лета не придали ему опытности в распознавании людей, с которыми ему доводилось иметь дело. С тех пор я не слышал более ни слова о старике Кирьякове. Однако же сын его и Бутовский были приняты на службу. Первый из них был часто замечаем в шалостях, за которые я с него нередко взыскивал. Впоследствии он был переведен в какой-то драгунский полк.
Еще было у меня два колонновожатых, замечательных по сведениям их в математике: князья Андрей и Михаил Голицыны. Воспитывались и учились они в Париже, отчего в обращении своем были более похожи на французов, чем на русских. Один из них служит теперь поручиком, а другой штабс-капитаном; первый был жестоко ранен под Бородиным, а другой легко под Люценом.
В то время терпел я много нужды в жизни, ибо тогдашнее жалованье мое было очень малое. Все имение батюшки состояло тогда из 140 душ, а нас было шестеро: пять сыновей и одна дочь.
До 1801 года мы жили в Петербурге; но отчим отца моего, князь Александр Васильевич Урусов, лишившись дочери своей, которая была за бароном Строгановым, и желая переселиться в Москву, пригласил к себе батюшку с семейством; нас тогда было только три сына, из коих старшему Александру 8 лет. Князю Урусову было 70 лет; близких к нему никого не оставалось; присоединением к себе семейства нашего он, по-видимому, заботился о призрении своем в старости. В отце же моем он приобрел хорошего себе помощника для управления своими имением и делами. Родители мои не имели достаточно средств, чтобы дать нам должное воспитание, почему и согласились принять предлагаемую им обузу и поступить в истинную кабалу к князю Урусову. Итак, мы перебрались в Москву, где жили в доме у князя, летом же ездили с ним в деревню его Александровское (иначе Долголядье). Сим только способом родители мои могли употребить свои доходы, состоявшие из 5000 рублей, на наше воспитание, крайне умеряя себя во всех своих издержках; но и при такой умеренности они не могли избежать долгов, от чего доход их уменьшился до 4000 рублей.
Матушка скончалась в 1809 году. Князь, которому она заменяла покойную дочь, любил ее и был ее смертью очень огорчен. Он сделался до крайности упрямым, вспыльчивым и даже грубым и часто сердился на отца моего, но, чувствуя нужду в нем, удерживался; батюшка же не умел с ним обойтись, как бывало матушка, и потому несколько раз думал оставить его. Князь Урусов родился в бедности, составил все свое состояние картами и нажил несколько тысяч душ (говорят, однако же, что он честно играл). Он служил в военной службе и вышел в отставку в генерал-майорском чине. У него было много родственников, по большей части люди бедные и почти все без особенного образования. Родственники князя навещали его и надоедали ему. Он часто бранил их и даже ругал при всех, ибо видел, с каким они нетерпением ожидали смерти его, чтобы завладеть имением, и потому он их не любил, а они нас также не любили. Сказывали, что наш князь Урусов, однажды поссорившись с братом своим Петром, 30 лет с ним не виделся, хотя оба жили в одном городе. Счастье избаловало старика, и он часто бывал несносен.
Так как имение князя было благоприобретенное, то он имел право располагать им по произволу. Князь Урусов был очень скуп, но при этом иногда помогал большими суммами своим родственникам, наперед побранив их порядочно: нам же он никогда ничего не давал. Родители мои, хотя и нуждались, но никогда не просили у него денег. Однажды случилось, что батюшка занял у него 2000 рублей, и он не имел покоя от старика, пока не возвратил их, что принужден был сделать через пять дней после займа. При жизни еще матушки князь сделал свое духовное завещание, в котором назначил нам часть своего имения. Надеясь на сие, отец мой сделал после смерти матушки небольшие долги, что его еще больше расстроило; посему для него было очень тягостно давать каждому из нас по тысяче рублей в год.
Таким средствам соответствовал и род жизни моей. Мундиры мои, эполеты, приборы были весьма бедны; когда я еще на своей квартире жил, мало в комнате топили; кушанье мое вместе со слугой стоило 25 копеек в сутки; щи хлебал деревянной ложкой, чаю не было, мебель была старая и поломанная, шинель служила покрывалом и халатом, а часто заменяла и дрова. Так жить, конечно, было грустно, но тут я впервые научился умерять себя и переносить нужду.
Обращаюсь к событиям старого времени, когда бывший начальник Черноморского флота, в третьем колене матушке родственник, адмирал Мордвинов в 1807 году приехал со своим семейством из Крыма в Москву. В то время, по случаю войны с Францией, формировалось земское войско, и Мордвинов был избран в начальники ополчения Московской губернии. Батюшка, отставной подполковник, был назначен к нему старшим адъютантом. Как адмирал немного разумел в военном управлении, то всем делом у него распоряжался мой отец. На лето адмирал поместился с семейством и своей главной квартирой в селе Волнителе или Полуектове, принадлежащем князю Барятинскому и находящемся в 20 верстах от села Александровского князя Урусова, где мы жили. Мы ездили тогда к адмиралу, и он бывал у нас в деревне. 14 июля, в день моего рождения, он приехал к нам с семейством, и мне понравилась меньшая дочь его, Наталья Николаевна, мне ровесница.[16] Мне тогда был 14-й год; я тосковал, но не смел никому поверить своей тоски, ходил по ночам в саду один и писал имя ее на деревьях. Один из сих памятников должен еще теперь существовать. Имя ее вырезано на березе на одном из островов, что на большом пруду перед домом. Однажды тайком отправился я ввечеру на остров, вопреки запрещению, кататься на плотах по пруду; я вступил в бой с сердитыми лебедями, которые тогда яйца высиживали, и согнал их своим шестом, невзирая на поднятый ими крик. Вырезав имя ее на дереве и переправившись на противоположный берег пруда под прикрытием острова, я пришел домой другой дорогой, дабы никому не дать подозрения в моем тайном заявлении. Зиму мы проводили в Москве, и каждое воскресенье нас возили танцевать к Николаю Семеновичу, где страсть моя усиливалась, что было замечено братьями, которые стали смеяться надо мною; я краснел, скрывался, но не смел возражать им, дабы не увеличить подозрения.