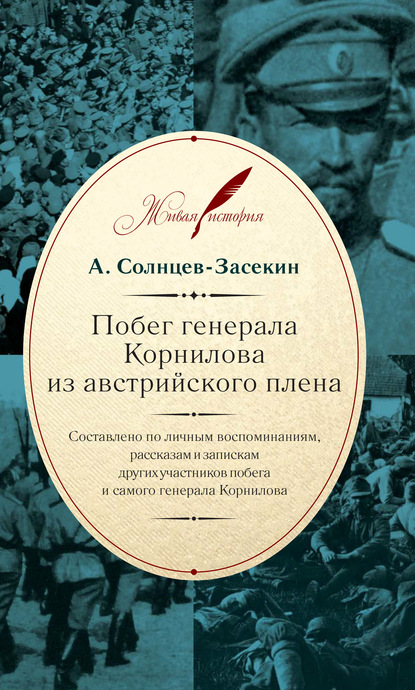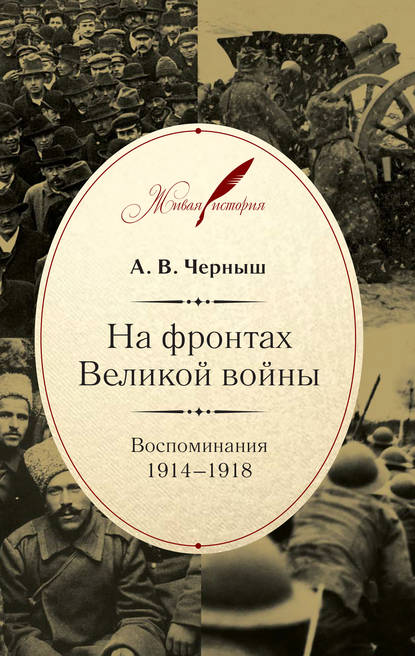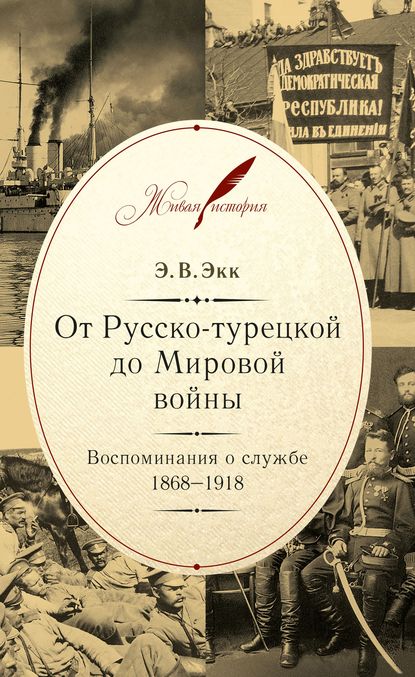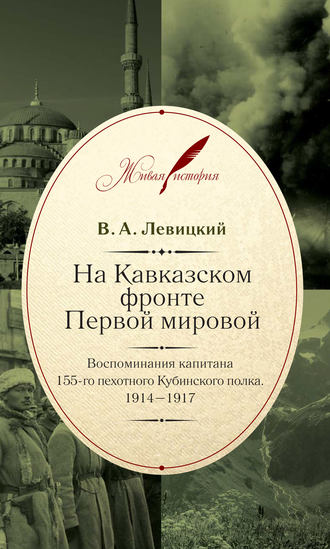
Полная версия
На Кавказском фронте Первой мировой. Воспоминания капитана 155-го пехотного Кубинского полка.1914–1917
Добежав до первого турецкого солдата, поручик Хабаев, заколов его, бросился на следующего. Последний, отбиваясь ружьем и выждав момент, когда к нему подоспело несколько товарищей, сам ринулся на поручика.
Но тут как из-под земли выросли Маркелов и Гагнидзе. Сильным ударом прикладом в грудь Маркелов опрокинул первого турка, бросившись затем на другого. Атлетического сложения Гагнидзе работал винтовкой, как тростью. Стараясь заградить корпусом своего командира роты, он штыком пронзил живот нападавшему турку и разбил прикладом голову следующему, изготовившемуся уже нанести ему удар. Преследуя по пятам противника, поручик Хабаев был ранен пулей в плечо в нескольких шагах от неприятельских окопов.[34]
Рядовой Маркелов, перескочив окоп, ввязался в рукопашную схватку и был поднят на штыки. Унтер-офицер Гагнидзе, ворвавшись в окоп и еще прикончив прикладом одного, был смертельно ранен пулей в висок. Подпоручик Ефимов (14-я рота), уничтожив с людьми часть противника в окопах, другую часть бросился преследовать. Он, убив револьверным выстрелом турецкого офицера и еще двух солдат, был сам убит брошенной в него ручной гранатой. Обливаясь кровью от полученных страшных ран, поручик свалился на труп турецкого офицера.
Ефрейтор Литвиненко за выбытием из строя унтер-офицеров принял командование пулеметным взводом. Он еще с Кепри-кея показал себя молодцом при отбитии атак противника. 3 ноября утром он при отходе на Ардос был ранен в бедро, но остался в строю. Вечером при преследовании противника он двигался на правом фланге 15-й роты. Как раз недалеко от него часть роты совершила прорыв неприятельской линии. Воспользовавшись этим, Литвиненко, пробежав шагов сто пятьдесят с пулеметами к туркам в тыл, открыл по отступавшим фланговый огонь. Помимо больших потерь, понесенных турками этим ловким маневром, была вызвана в рядах противника большая паника.
За Кепри-кей и за Ардос Литвиненко был награжден 3-й и 4-й степенью Георгиевского креста, удостоившись чести принять награду лично от государя императора.
Когда я подошел к занятым нашими турецким окопам, бой подходил к концу. Противник по всему фронту отходил, прикрывшись наступавшими сумерками. На рассвете частям приказано было отойти назад, а мне с пулеметной командой в селение Ардос.
Возвращаясь, я прошел через лощину, покрытую турецкими трупами, – жертвами наших беспощадных пулеметов. Дальше я увидел поручика Ефимова, рядового Маркелова, унтер-офицера Гагнидзе и многих, многих дорогих однополчан, живот свой положивших на поле брани. Еще вчера они полны были жизни, сердца их горели любовью к родине и ненавистью к врагу, а сегодня они лишь холодные изуродованные тела.
«Война, – подумал я, – ужасное и неизбежное зло, всегда сопутствующее человечеству».
* * *Боями 4 ноября заканчивается первая и крупная операция Кавказской армии, получившая название Азанкейской.[35]
Эту операцию, начавшуюся 25 октября и принявшую многогранный характер, можно разделить на пять последовательных периодов:
1. Наступательный марш на Кепри-кей и бой за овладение Кеприкейских высот.
2. Бой у Падыжванских высот.
3. Оборонительный бой на Кеприкейских высотах.
4. Отход корпусов в исходное положение.
5. Бои на Ардосских позициях.
Трудно вообще рядовому офицеру дать оценку военным событиям крупного масштаба. Узость поля действия и обстановки, в которой ему приходится вращаться, едва ли могут дать достаточно данных на предмет всесторонней и справедливой критики. Только стратег и крупный историк могут в этом смысле высказать высокое слово.
Однако слишком много переживаний, слишком много последствий приходится на долю рядового бойца, чтобы он мог удержаться от высказывания личных взглядов на события, с которыми он связан. Так и я, записывая минувшее, не могу не высказать своей оценки. В ней, возможно, кроме искренности, найдутся ошибки, а может быть, и несправедливые нарекания на тех, в чьих руках тогда была судьба войск.
По моему личному мнению, Кеприкейская операция была навязана Кавказской армии, вопреки всяким расчетам командования. Наступательный марш на Кепри-кей не соответствовал в то время ни нашей обстановке, ни нашим силам.
Задача 1-й Кавказской армии корпуса сводилась лишь к прикрытию разворачивания и формирования Кавказской армии. Мы должны были, по требованию обстановки, запереть все проходы и обороной, быть может, и активной, дать армии возможно больше времени на осуществление ее первых задач.
Начальник, решившийся на Кеприкейскую операцию, не считался с превосходством сил противника, сосредотачиваемого у Гасан-Калы, а также не принял во внимание неподготовленность к наступательным операциям нашего ближайшего тыла.
Войсковая разведка непосредственно перед операцией не добыла полных и точных сведений о противнике. Наконец, сам расчет марша на Кепри-кей был неверен. Войска, выступив утром в поход, столкнулись с противником перед вечером, что для нас на незнакомой местности было невыгодно. Продвинувшись вперед почти на два перехода от границы, мы не имели достаточного резерва, чем не замедлил воспользоваться противник, обрушившись главным образом на наши фланги. Разрозненность операции у Падыжвана и на Ольтинском направлении, а также недостаточная их организация не дали нам, кроме потерь, ничего решительного, подняв при этом дух противника. Противник, отлично знакомый с нашей обстановкой, может быть, намеренно пустил нас на Кепри-кей, желая тем вернее действовать на наши фланги. Приковав наш корпус к Кепри-кею, противник посылает в обход нашему правому флангу достаточной силы отряд, чтобы отрезать нам пути у Кара-ургана.
То же самое делал он на нашем левом фланге, выслав дивизию (33-ю, для этой цели отправленную из Хныс-Калы) на правый берег Аракса для операции в направлении Дели-Баба, Баш-кей и Кара-Курта.
Своевременный отход 1-го корпуса, а также своевременный подход на правый наш фланг Туркестанского корпуса, а на левый пластунской бригады генерала Пржевальского[36] выводят нас из создавшегося тяжелого положения. Конечным результатом всей операции было то, что мы вернулись в исходное положение, понеся при этом очень большой урон в личном составе. Вызовом Туркестанского корпуса на фронт была значительно нарушена планомерность разворачивания Кавказской армии.
Часть II
Период с начала ноября 1914 года до первых чисел января 1915 года: Сарыкамышская и Караурганская операции
С 5 октября на фронте наступило затишье, в котором мы, кстати сказать, очень нуждались. Нам необходимо было пополниться после тяжелых потерь, совершить перегруппировку и закрепить позиции.
Прибывавшие пополнения производили на нас вполне выгодное впечатление. Большая часть людей была с Дона и Кубани. Народ крепкий, степенный и не старых сроков службы.
Они, вне всякого сомнения, должны были стоять выше первых укомплектований, поступивших, главным образом, из местного населения Карской области и далеко не оправдавших наших надежд. Последние, кроме отдельных смельчаков, оказались в боевой обстановке скверными солдатами. Самочинное оставление строя, саморанения и всякого рода симуляции среди них не являлись исключением. Против такого элемента пришлось принять ряд суровых мер, включительно до предания их военно-полевому суду. Хорошей мерой воздействия оказался также способ так называемого «домашнего воздействия», изобретенный самими солдатами. Бежавших с фронта вылавливали в тылу, возвращали в полки и тут же публично при ротах избивали. Кроме того, этих «крещеных», как в шутку называли битых, посылали в самые опасные места для исправления. Многие из них впоследствии делались отличными солдатами. Этот оригинальный способ воспитания провинившихся довольно крепко держался в солдатской среде.
Последний упорный бой у Саномера нарушил до некоторой степени порядок в частях. Произошла так называемая перемешка частей, явление весьма обычное после крупных боев. Так, в силу обстановки последних дней, Бакинский полк был вкраплен чуть ли не во все боевые участки дивизии. У Ардоса кубинцы стояли вперемешку с елизаветпольцами и с батальоном Куринского полка. К вечеру 6 октября была совершена перегруппировка, и части 39-й дивизии встали в следующем порядке: на правом фланге кубинцы от селения Саномер включительно до селения Ардос. В центре от Ардоса до селения Царс елизаветпольцы и на левом фланге включительно до реки Аракса бакинцы. В резерве оставались дербентцы в селении Занзах. Кабардинцы были отведены в качестве корпусного резерва в селение Хоросань. Правый фланг кубинцев входил в связь с частями Туркестанского корпуса.
Дни и ночи на фронте проходили в частых столкновениях наших разведчиков с мелкими партиями противника. Взятые в плен в этих стычках в общем не давали нам ничего существенного. С другой стороны, мы были осведомлены агентурой о том, что противник закончил сосредоточения корпусов и готовится к началу крупных операций.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 409. П/сп. 113–735а. Л. 225–232об.
2
Имеется в виду ставшее поводом для начала Первой мировой войны (Великой войны) убийство 15/28 июня 1914 г. наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Фердинанда (с супругой) 19-летним сербом, студентом из Боснии Гаврилой Принципом (1894–1918), являвшимся одним из членов националистической организации «Молодая Босния».
3
Волошин-Петриченко Федор Моисеевич (1860–?), командир Кубинского полка (с 4/17 декабря 1913 г.); генерал-майор (с 06/19 декабря 1915 г.).
4
Объявленная в ночь с 16/29 на 17/30 июля мобилизация являлась частичной, касаясь только Киевского, Одесского, Московского и Казанского военных округов, не затрагивая даже флот. Днем 17/30 июля император Николай II подписал указ об общей мобилизации.
5
Оба полка входили во 2-ю бригаду 39-й пехотной дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса.
6
Постоянная армия Османской империи в описываемый период делилась на низам (действующая армия) и редиф (резервные войска).
7
Здесь и далее речь часто идет не о Западно-Европейском фронте, а о фронтах, располагающихся западнее Кавказского фронта: Северо-Западном (с 1915 г. Северный и Западный), Юго-Западном и Румынском.
8
Речь идет о 2-м Туркестанском армейском корпусе. 1-й Туркестанский корпус участвовал в боевых операциях на Северо-Западном, Западном и Юго-Западном фронтах.
9
Мокрые горы – Джавахетский (Джавахкский или Кечутский) горный хребет.
10
Скорее всего, речь идет об укреплениях при селении Гасан-Кала (Хасан-кала), перед Эрзерумом.
11
Скорее всего, речь идет об Алашкертской долине. Под Ванской долиной, наверное, автор подразумевал направление движения у о. Ван, так как Ванской долины не существует.
12
Сотня – тактическая (и административная) единица в казачьих частях. Соответствовала приблизительно эскадрону регулярной кавалерии.
13
Турция объявила войну России 19 октября/1 ноября 1914 г.
14
Команда – отряд, небольшое штатное воинское подразделение. Пулеметная команда пехотного полка к 1914 г. включала 4 взвода по два пулемета, всего 8 пулеметов. К концу войны количество пулеметных команд в составе полка увеличилось.
15
Трескин Александр Капитонович (1865–1916), полковник (1912), командир 23-го Туркестанского стрелкового полка (1915–1916); исключен в марте 1916 г. из списков убитым в бою на Кавказском фронте; после смерти, в июле 1916 г., произведен в чин генерал-майора.
16
Баратов Николай Николаевич (1865–1932), генерал-майор (1906), генерал-лейтенант (1912); начальник 1-й Кавказской казачьей дивизии (1912–1915), с которой вступил в войну. Кавалер ордена Св. Георгия 4-й ст. (1916). Командующий отдельным экспедиционным корпусом в Персии (1915–1917), с февраля ставшим 1-м Кавказским кавалерийским корпусом. Командир 5-го Кавказского армейского корпуса (апрель-май 1917 г.), находившегося в составе Кавказской армии. Командующий Кавказским кавалерийским корпусом в Персии (май 1917 г. – июнь 1918 г.). Участник Белого движения. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа (Париж, Франция).
17
Вероятно, здесь и далее речь идет о станице.
18
Здесь и далее речь идет об офицерских и нижних чинах полка. Соответственно, при употреблении названии «дербентцы» имеются в виду офицерские и нижние чины этого полка; туркестанцы – чины, проходящие службу в туркестанских частях и т. д.
19
Речь идет о 154-м Дербентском пехотном полку. Вместе с 153-м пехотным Бакинским полком входил в состав 1-й бригады 39-й пехотной дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса.
20
Двуколка – одноконная двухколесная повозка. Существовали, например, патронная и санитарная двуколки. Подходила для перевозки тяжестей в гористой местности и по топким дорогам.
21
Обиходное название солдат.
22
По дополнительным сведениям, штабс-капитан Орлов после нескольких месяцев лечения окончательно выздоровел и был отправлен во Францию.
23
80-й пехотный Кабардинский полк вместе с 79-м пехотным Куринским полком входил в состав 2-й бригады 20-й пехотной дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса.
24
Сажень – старорусская единица измерения расстояния, составлявшая 2,1336 м.
25
По всей вероятности, из-за оврага.
26
Так в тексте. По ходу текста автор иногда называл одно и то же действующее лицо то полковником, то подполковником.
27
Замбржицкий Михаил Станиславович (1870–?), капитан, в полку с 1891 г. Во время войны, по получении чина подполковника, был переведен в 15-й Кавказский стрелковый полк. Полковник (1916). Кавалер ордена Св. Георгия 4-й ст. (1916).
28
Так в тексте.
29
Стакан – стальная оболочка артиллерийского снаряда, имеющая цилиндрическую форму.
30
Коломейцев Михаил Абрамович (1861–?), подполковник (1912). Вступил в войну в составе Кубинского полка. Полковник (1914). Кавалер Георгиевского оружия (1916).
31
Сторожовка – сторожевая линия постов.
32
Убит подпоручик фон Линге.
33
8-я батарея 39-й артиллерийской бригады.
34
Через несколько дней поручик вернулся в строй.
35
Как правило, в современной литературе употребляется выражение «захват Азанкейской позиции».
36
Пржевальский Михаил Алексеевич (1859–1934), полковник (1896), командир Кубинского полка (1903–1905). Генерал-майор (1906). Командир Кубанской пластунской бригады (с августа 1914 г. 1-я Кубанская пластунская бригада) (1908–1915). Командир 2-го Туркестанского армейского корпуса (1915–1917). Генерал-лейтенант (1915). Генерал от инфантерии (1916). Кавалер Георгиевского оружия и 4-й и 3-й ст. ордена Св. Георгия (1915–1916). Сыграл важнейшую роль в Сарыкамышской и Эрзерумской операциях. Командующий Кавказской армией, затем главнокомандующий войсками Кавказского фронта (май – декабрь 1917 г.). 05/18 декабря 1917 г. заключил с Турцией Эрзинджанское перемирие. После развала армии покинул действующую армию. Участник Белого движения.