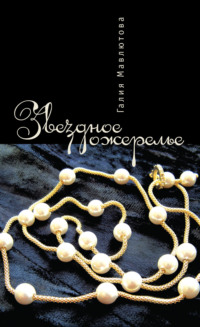Полная версия
Смерть-остров
Овации усилились. «На нас смотрит товарищ Медведь!» – В этом месте Григорий Алексеевич понял, что совершил ошибку. В зале не все знали фамилию главного чекиста Ленинграда. Овации не прекратились, но стали суше и жиже.
– Товарищ Петерсон!
Овации усилились. Его промаха никто не заметил. Григорий Алексеевич счастливо выдохнул. Воронов услужливо подвинул стакан с водой. Сегодня Михаил Григорьевич выглядел иначе, чем вчера. На нём складно сидел новенький френчик, на брюках вились ровненькие стрелки, руки были вымыты, хотя под ногтями таилась ночь, залысины поблескивали. Михаил Григорьевич любил баню, по субботам ходил мыться, но иногда пропускал помывку по уважительным причинам. Григорий Алексеевич заметил траурную каёмку на ногтях помощника, склизкие волосы, потянул носом воздух и вспомнил завитки на шее у Галины. Казалось, она стоит рядом с ним, прямо на трибуне, в новом цветастом платье, купленном в магазине «Смерть мужьям». Присутствие жены было настолько осязаемым, что Горбунов стал крениться вниз, как потопленный крейсер, но, скользкий от угодливости Воронов, ловко подхватил падающее тело и поставил на место, а сам спрятался за ширмой.
– Калёным железом. Суровой рукой. Киркой и лопатой! – Оглушительные овации заглушали слова Горбунова, а он всё кричал и кричал лозунги и воззвания, забыв, к кому обращается. В конце собрания Воронов бережно отвёл начальника в подсобное помещение, где долго отливал его водой, чтобы привести в чувство.
– Калёным железом, – прошептал очнувшийся Горбунов.
– Калёным-калёным, – мирно поддакнул Воронов, пытаясь влить в Григория Алексеевича глоток воды прямо из графина. На шее Горбунова покоилось мокрое полотенце.
– Все записались в бригадмильцы?
– Все сто. До единого. – Коротко кивнул Михаил Григорьевич. – Попробовали бы не записаться. Вот где они у меня!
Воронов сжал кулак, получившийся настолько хлипким, что Михаил Григорьевич смутился и разжал руку.
– А что с Галиной? Где она? – треснувшим голосом спросил Горбунов.
– Ищут. Обещали найти. Сам Глеб Иваныч Петров обещал. Старый большевик слов на ветер не бросает. Он честный партиец.
Григорий Алексеевич улыбнулся и просветлел лицом. Он верил партии, как самому себе.
Глава четвертая
Двухосная теплушка уже вторую неделю тряслась в пути. В вагоне, изначально предназначенном для перевозки скота, на скорую руку были сколочены двухъярусные нары, кое-где стены утеплили фанерными обшивками, по центру угнездилась печка-буржуйка. Вместо сорока человек в вагоне поместилось все восемьдесят пять. Битком набитый вагон открывали редко. С утра вытаскивали умерших за ночь, к вечеру считали людей по головам, как скот, ночью вталкивали новеньких. Днём редко кто заглядывал, вагон жил своей жизнью. Колёса монотонно отстукивали минуты и часы. На третий день сложившийся распорядок нарушился. Поезд остановился, и наступила тишина. Ни звуков, ни голосов. Безмолвие взорвалось шумом и грохотом. В вагон впихнули молодую женщину, растрёпанную и помятую. Конвойные матерились и смеялись.
– Ты, Маруська, здеся и родишь! Чай, не сахарная, не растаешь!
– Я же беременная, беременная я, говорю же вам! Не мните меня, больно же! – визжала женщина, вырываясь из рук конвоиров.
Дверь захлопнулась. Свет померк. Женщина замолчала и огляделась. В наступившей темноте светились глаза. Много глаз. Женщина всхлипнула.
– Беременная я!
– Ещё скажи, что на сносях, – хохотнули в углу.
Женщина вздрогнула и притулилась у двери, привыкая к темноте. Галина подползла к ней и взяла за руку, пытаясь успокоить дрожавшую от нервного озноба женщину.
– Не кричи так, а то здесь всякие люди. Обидеть могут, – прошептала Галина, поглаживая обмякшее тело несчастной женщины. – Какой срок у тебя?
– Седьмая неделя, – вполголоса буркнула беременная. – Тебя как звать?
– Галиной, а тебя?
– Марусей. Маруся Беглова я. На путях взяли. Меня муж ждёт. Мы на юг едем. Там, говорят, голода нет. Здесь у нас пересадка была.
Галина застонала. Она ещё верила, что всё уладится. Кому положено, тот разберётся, что совершили оплошность. Скоро выяснят, где надо, что задержали честных советских людей вместо гопоты. Марусин случай вывернул все мысли Галины наизнанку. Значит, не оплошность совершают. Это не случайность. Задерживают всех, кого не попадя, бросают в состав и везут на край света. И не смотрят, что муж ждёт, что документы есть. Кто попался на улице или на железнодорожных путях, тех и хватают.
– Не плачь, Маруся, как-нибудь, – пробормотала Галина, не понимая, как успокоить беременную женщину. Жалость выворачивала внутренности, отнимая волю к жизни. Жаль было себя и всех, кто был в поезде, даже уголовников.
– Попить бы, всё иссушило в горле, – пожаловалась Маруся.
– Нет тут воды, по вечерам приносят, сырую. Хлеб давали один раз. Тут верховоды завелись. Вон они, в том углу.
В сумраке Галина разглядела женщину; красивая, лицо ровное, гладкое, белое. Волосы вьются, чистые. По лицу видно, что Маруся не изголодала. Руки не изнеженные, но не корявые.
– Меня муж ждёт, – заплакала Маруся. – Как он там без меня? Я же беременная! Всех хватают, не смотрят, что у людей документы имеются.
В дальнем углу снова засмеялись. Галина гладила Марусино плечо и думала, когда же всё прояснится, когда разберутся со всеми, кого несправедливо задержали? Ведь в вагоне таких много, а в поезде ещё больше. Галина представила, сколько народу везут железнодорожные составы в разные концы страны, и от этого стало ещё горше. Но в данную минуту именно Маруся вызывала нестерпимую жалость. Галина мучилась от неспособности хоть чем-то помочь несчастной женщине.
– Ничего, ничего, как-нибудь, – шептала она, плача невидимыми слезами, боясь ещё больше огорчить Марусю.
Сумрак в вагоне сгустился, день близился к вечеру. Спёртый воздух понемногу растворялся в вечернем сквозняке. Дверь с грохотом отворилась, и в проёме возникли две фигуры, вырисовываясь зловещими силуэтами на закатном небе. Без лиц и глаз, одни очертания.
– И где тут наша беременная? – спросил один, а второй коротко хихикнул.
– Тут я, тут, – взвизгнула Маруся и подпрыгнула на руках у Галины. – Беременная я! Заберите меня отсюдова!
Маруся резво поползла к проёму. Галина всплеснула руками. Куда она? Пропадёт же! Конвоиры весело гоготали, наблюдая за передвижениями Маруси. Так же весело подхватили её на руки и потащили по насыпи. Маруся задорно смеялась вместе с конвойными. Галина охнула и прижала руки к животу. Погубят безвинную женщину эти люди с винтовками. В дальнем углу тоже засмеялись, словно вторя ушедшим конвойным.
– Щас родит, прям в поле! На всех хватит.
– Это Маруська Беглова, с Буинского тракта. Известная воровка!
– Врёт, как пишет! Да она безграмотная. И мужа у неё сроду не было. Щас как загуляет с конвойными, вся страна услышит.
Шум и хохотки в углу стихли. Галина долго приходила в себя, борясь с нахлынувшими мыслями. Женщина оказалась воровкой. Никакая она не беременная. Значит, её забрали справедливо. В поезде везут всех, и виновных, и безвинных. От ощущения невыносимого ужаса Галине стало плохо, и она потеряла сознание. Очнулась ночью. Поезд не спеша тарахтел по рельсам. Колёса по-прежнему выстукивали монотонную песню. Вдруг состав дёрнулся и остановился. Галина услышала негромкие голоса. Конвоиры вполголоса жаловались кому-то на свою безрадостную жизнь.
– Лишенцев везём. Битком напихали в вагоны. Как селёдки в бочке. Им дышать же нечем. Мрут сотнями за день, чтоб им повылазило!
– А чего мрут-то? – пробасил кто-то из местных: у конвойных другие голоса, более визгливые, видимо, кому-то любопытно стало, куда людей везут, зачем.
– От тесноты. Говорю же, вагон рассчитан на сорок мест. А теперь не знамо сколько осталось. Мы отчитались за план, мол, на каждый вагон по 85, а там уж не наше дело. Велено четыре тысячи перевезти – перевезём! Скажут, десять тысяч, десять перевезём. Наше дело подчинённое. Нам не положено думать. За нас партия и правительство думают.
– Так-то оно так, – согласился басистый, – а куда ж вы мертвяков деваете? Это же целое дело. Труп вынести надо, сдать, кому положено…
Повисло молчание. Галина обеспокоилась. Ушли, что ли? Нет, не ушли.
– На рельсах оставляем, – нехотя признался конвоир, – путейцы после оформят. Они – люди понимающие. Доложат, куда надо, мол, нашли на путях неизвестного, а нам, понимаешь, нельзя нарушать госотчётность. Нам четыре тысячи перевезти надо.
И снова затянулось молчание. Голоса стихли надолго. Галина задыхалась от негодования. Какая несправедливость творится в Советской стране! Если бы знал Гриша, что его жену незаконно забрали среди белого дня и теперь неизвестно куда везут, он бы нашёл на них управу. Ничего, подождите, мой Гриша до Кремля доберётся! В нём такая сила заключена, многим не снилась. Старым большевикам партия и правительство большое доверие оказывает.
– Да как же вы перевезёте четыре тысячи, коли они у вас сотнями дохнут, чем отчитаетесь? – Голоса вновь оживились, но бас изменил тональность. Человек почти кричал, в его голосе слышалось недоуменное возмущение.
– Слышь, ты не ори так, – укорил его конвоир, – командир услышит ненароком. Он чуткий на шум. Мы по дороге навёрстываем.
В вагоне послышался сильный храп. Галина напряглась, боясь, что не услышит окончание диалога. От напряжения зазвенело в висках.
– Чего это навёрстываете, как это? – пробормотал басистый.
– А вот этак, берём и в вагон закидываем!
Послышался хохоток, сопение, возня, глухие удары прикладом. Тупой стук казался бесконечным. «По голове бьют», – догадалась Галина. Заскрежетала дверь, что-то тяжёлое обрушилось на пол, задребезжали рессоры, поезд валко тронулся, и Галина услышала тихий, немного басовитый вой. Конвоиры впихнули в вагон своего чрезмерно любопытного собеседника.
– Лезьте на верхотуру, – прошептала Галина, ощущая ноющую боль в сердце. Она не знала, чем можно было помочь несчастному человеку. Ему же невдомёк, что из вагона нет выхода. Отсюда никого не выводят. Только выносят. Вперёд ногами.
– А-а-а-а-а-а-а, – опомнившись, взвыл мужик, злясь на себя за неосторожные слова, сказанные среди ночи случайным людям. Кто же знал, что они окажутся конвоирами с нечистой совестью.
Поезд ещё не разогнался, как внизу послышался грохот. Галина обхватила голову руками, стараясь не слышать, что происходит внизу, но всё слышала, словно происходящее творилось внутри неё. Снова загремел засов, заскрежетала дверь, послышался детский плач.
– Ты этого-то раздень, а то сбежит бородатый. Штаны с него сними, без штанов он никуда не денется! – Властный голос принадлежал старшему конвоиру Фоме Хомченко. Послышалась возня, ругательства, детский плач стал звонче.
– А девчонку куда?
– Кинь её в угол, там место есть!
Послышался мягкий удар, снова что-то шмякнулось, плач прекратился. Галина открыла глаза и пыталась всмотреться в темноту, но ничего не увидела. Засов лязгнул, голоса стихли. Поезд набирал ход. Галина осторожно спустилась вниз, наступая кому-то на головы. Люди стонали во сне, ругались, матерились, но никто не проснулся. Волна свежего воздуха утонула в духоте вагона. Стало трудно дышать.
– Ты откуда, девочка? – прошептала Галина, нащупывая тонкую детскую руку.
– А-а-а-а-а-а, – на руку Галине полились слёзы.
– Откуда ты? – Звук собственного голоса показался Галине чужим, словно это не она говорила. Осторожно обняв девочку, потащила за собой, стараясь не разбудить спящих. Девочка мычала и плакала, трясясь в лихорадочном ознобе. Галина сначала положила ребёнка, затем сама взобралась по доскам на верхние нары. Чужие незнакомые люди лежали вповалку, кто валетом, кто голова к голове, все шумно дышали, натужно, хрипло, словно не спали, а несли на себе тяжёлый груз.
Галина прижала девочку, пытаясь понять, как могли засунуть ребёнка в вагон для пересылки беспаспортных, откуда её взяли? Девочке по возрасту не положен паспорт. По пути следования состава конвоиры вели себя развязно, но всё-таки соблюдали меры предосторожности. Они не вели лишних разговоров в присутствии задержанных, если выбрасывали трупы из вагона, то делали это ночью. Днём старались не привлекать внимания железнодорожников. К стоянкам поезд подходил не по расписанию, часто останавливался в пути. Конвоиры между собой шептались, что поезд внеплановый, его не ждут на конечной станции, а где эта станция, никто не знал. Когда стало понятно, что даже конвойные не знают, куда следует состав, всем стало жутко.
Охрана была строгой. Никого из вагона не выпускали, за малейшее нарушение стреляли. Однажды, ещё в начале пути, пристрелили какого-то уголовника. Тот выскочил на станции, чтобы разжиться махоркой, но был смертельно ранен выстрелом в спину. Уголовники мигом втащили в вагон раненого собрата, но через два часа он скончался, а к утру его уже не было. Остальные вели себя осторожно, стараясь не попадаться конвоирам на глаза. Все научились смешиваться с толпой, чтобы быть незаметнее. Так легче было переносить тяготы трудного пути. Галина мысленно пожелала мужу спокойной ночи и впала в забытье, прижимая к себе плачущую и дрожащую девочку. Она тоже научилась забываться, часто переносила себя в прошлую жизнь, чтобы не оставаться в этой. Колёса стучали, а она напевала, мысленно отглаживая мужу форменные брюки. Гриша служил на боевом крейсере, который собирались списать на берег и сделать его учебным судном. А ведь Григорий Алексеевич бывалый моряк со стажем, для него служба на учебном корабле совсем не то, что на боевом. В последнее время Гриша стал немного отчуждённым, всё думал, как сложится судьба крейсера и его, морская. Галина верила, что муж найдёт её, всё перевернёт, дойдёт до самого верха, но отыщет жену.
Григорий Алексеевич Горбунов женился по любви. Он увидел Галину на трамвайной остановке в Ленинграде. Та ехала поступать в лесной техникум, волновалась, постоянно рылась в сумочке, проверяя, не потеряла ли документы, а Горбунов спешил в порт. Вдруг он заметил, что у Галины выпала какая-то бумажка, подскочил и, подобрав, стал выдёргивать у неё сумочку, чтобы положить туда документы. Она же подумала, что мужчина в форме хочет её ограбить, что никакой он не военный, а переодетый грабитель, и мигом вцепилась в сумку. Они закружились, играя в игру «ну-ка отними». Он отнимал, она не отдавала. Наконец Галина поняла, что ошиблась, а он смутился от своей неловкости, и они долго смеялись, забыв, что каждый из них спешит по своим делам. Так они и познакомились.
Потом Горбунов ушёл в плавание. Галина получала от него нежные письма, где он называл её голубкой и птенчиком. Пока крейсер бороздил воды северных морей, Галина окончила техникум и получила распределение в Архангельск. Уже и документы были готовы, и билеты на руках, вдруг в общежитие влетел как молния Григорий Алексеевич. К тому времени Галина уже знала, что Гриша значительно старше нее, что он воевал на Гражданской войне, у него есть ордена, что он заслуженный военный. Возраст жениха не испугал девушку. Она его любила больше родных, и не было для неё ближе человека.
Из общежития они пошли в загс, Гриша нёс её фанерный чемоданчик. Галина чуть не умерла от счастья, когда их объявили мужем и женой. Жили хорошо, но детей всё не было. И вот случилось. Галина ощущала в себе новую жизнь и старалась не думать, что будет дальше. Долгожданная беременность приносила ощущение счастья, но то, что творилось с ней сейчас, пугало и заставляло Галину сжиматься от страха. Что будет с ребёнком? Что будет с ней, с Гришей? Как всё сложится?
После случая с Марусей Бегловой Галина старалась не соприкасаться с реальной жизнью, с той, что была в вагоне. Непонимание происходящего доводило до безмолвного исступления. Иногда ей казалось, что она во сне. Ничего не случилось, просто приснился страшный сон, и его нужно пережить. Всё на свете кончается, но реальная жизнь в вагоне упрямо продолжалась. Утром выяснилось, что конвоиры закинули в вагон путевого обходчика. Он осматривал состав ночью и из любопытства заговорил с конвоирами. Старый железнодорожник всего навидался на своём веку, но от того, что случилось именно с ним, обезумел. Старик смотрел в одну точку и мычал, не в состоянии сказать ничего вразумительного. Галину сотрясала жалость к старику, но она боялась его безумия. Страшно было прикоснуться к нему. Галина возилась с девочкой. Та всё повторяла: «Мин урусча сойлэшмим. Мин урусча сойлэшмим!» Симпатичная девочка с раскосыми глазами, лет двенадцати, вероятно, татарская девочка, не знает по-русски ни одного слова. Лоб горит, на лице испарина, тельце влажное. Галина вспомнила, что в дальнем углу ютится семья раскулаченных татар, они возвращались из ссылки на родину, их взяли на железнодорожных путях, когда они шли к своему поезду. Галина пробралась к пожилым людям и попросила поговорить с девочкой. Глава семьи знал русский, подошёл, положил руку на лоб девочке, что-то пошептал. «Молится, – подумала Галина, – по-своему, по-татарски».
– Она Роза. Они в Казань едут. К дяде в Москву ездили. На вокзале мать за кипятком послала. Там ещё ребёнок есть. Конвоиры отобрали у Розы бидон. Она плачет, боится, что мать накажет за бидончик. Медный был. Хороший.
– Ах ты, Господи, её-то за что? – всполошилась Галина. – Как же это так? Она же ещё ребёнок!
– Вот так! – Развёл руками старый татарин. – Мы тоже из ссылки едем. Нас на родину вернули. Мы не были кулаками. Нас по ошибке сослали. И документы при нас. А сюда запихнули при пересадке. Нам в Казань надо было.
– А что же говорят? Почему вас опять забрали?
– Сказали, мол, там разберутся. А где это – там, не сказали. Ты, дочка, осторожно здесь. Ты красивая, яркая, приглянешься кому из этих. Не дай бог! На вот, возьми это. Прикройся.
Старик подал Галине старый полушубок, больше похожий на дерюгу, и изношенные онучи, сшитые из рогожи. Галина схватила дерюжку и онучи, босые ноги мёрзли в поезде. Натянув онучи, уткнула в дерюжку лицо. Как, как пережить этот ад? Бывшие ссыльные уселись в своём углу и, стараясь быть потише, всё о чём-то шептались на татарском языке. Галина вздохнула и приобняла девочку, укрыв её старым полушубком.
– Розочка, выздоравливай, сладкая! Не болей, – шептала Галина, вздрагивая от мысли, что Роза может умереть. Вдвоём всё-таки легче.
– Явыз! – сердито прошипела девочка и уснула.
– Что это такое – явыз? – Галина беспомощно оглянулась на старика, но до него было далеко.
За сутки вагон пополнился новыми людьми. Лёгкая весенняя одежда не спасала от ночной стужи. Днём в вагоне было душно, а ночью по полу гулял ледяной ветер. Где-то в конце состава был аптечный вагон и лекпом, но конвоиры только трясли прикладами, когда задержанные обращались за медицинской помощью. Ежесуточно выдавали хлеб – но не каждому, а общей долей. Уголовники – а их было на вагон шесть человек, весь хлеб забирали себе, остальные питались корками и обрезками, которые бросали верховоды. Отъём хлеба уголовники сопровождали главной прибауткой: «До восьми ваше, с восьми наше!». Эти слова постоянно звучали на нарах для шестерых. Что значили эти слова, никто не знал. Потом поняли, что это любимая прибаутка всех гопников и налётчиков, мол, после восьми часов, когда вернётесь с работы, всё ваше имущество будет уже наше. С этими словами грабят и убивают, чтобы веселее было.
Со временем люди смирились не только со словами, но и с обстоятельствами. Галина поначалу мучилась вопросом: почему уголовники присвоили себе право командовать всеми? Почему им никто не противостоит, хотя в вагоне полно сильных и крепких мужчин и их больше, чем гопников? Все молча терпели. Состояние людей было подавленное. Общая тоска поселилась в вагоне для скота. Одни уголовники веселились, с нижних нар постоянно доносились взрывы смеха, матерки, сальные анекдоты и байки. Все шестеро явно играли на публику, хвастаясь своими похождениями в уголовном мире. Весь день проходил под аккомпанемент разудалой компании. Затем наступала ночь, и вагон погружался в лихорадочный сон. Все понимали, что состав большой, в других вагонах тоже едут люди, и куда всех везут, никто не знает. Даже конвоиры.
Глава пятая
В небольшой комнате Михаил Григорьевич рисовал графики, вычерчивая линейкой прямые и косые линии. Сзади тихо подошёл Григорий Алексеевич.
– Михаил, как дела?
Воронов вздрогнул, затрясся всем телом, присев на стул, прижал руку к сердцу.
– Лексеич, ты прям, как подкрался! Напугал меня. Сердце, как воробей прыгает.
– А я думал, ты ничего не боишься, – невесело засмеялся Горбунов. – Ты же все каторги прошёл, тюрьмы, ссылки. Чего тебе бояться?
– Так потому и боюсь, что напугали на всю жизнь. Мы, старые каторжане, боимся, когда со спины заходят. Самый страх в этом состоит. Ладно, раз пришёл, Лексеич, докладываю, дежурства бригадмильцев проходят успешно. Вот графики дежурств. Вот росписи. Вот галочки, кто был, кто болел.
– Много больных?
– Да нет, только один справку принёс, спина у него отнялась, грузы таскал, подрабатывал. А так все, как один, ходят на дежурство.
Горбунов вздохнул и откинулся на спинку стула, стараясь вдохнуть, как можно больше воздуха.
– Миша, так что там, по поводу Гали моей? Ищут её?
– Ищут-ищут, Лексеич. Все больницы проверили, все кладбища, морги, психушки. Нету твоей Гали нигде. Ни следочка не оставила.
Воронов заметил, что при слове «кладбище» Горбунов вздрогнул и подавил вздох. За короткое время Григорий Алексеевич изменился, постарел, заметно усох. Михаил Григорьевич отвернулся, он воспринимал чужое страдание, как своё.
– Найдётся твоя Галина Георгиевна, Лексеич, – сказал Воронов, пытаясь скрыть сочувствие: Горбунов не любил, когда его жалели. – Весь город перетрясём, но найдём. Мы же на дежурства с Пилипчуком ходим. Он у нас в Ленинграде главный по облавам.
– Как это – главный по облавам? – удивился Горбунов.
– А его назначили главным по всеобщей паспортизации города. Нет, начальник там другой, Глеб Иваныч Петров, а Пилипчук у него замом работает. Вот вместе с ним и шерстим весь город, авось и твою Галину отыщем. Пилипчук с первого дня, как постановление о паспортизации вышло, работает по очистке города от деклассированных. Он должен учёт вести, контролировать. Хороший парень! С огоньком работает. У него самые лучшие показатели.
– А где облавы проходят? – заинтересовался Горбунов.
– Так везде! У театров, на вокзалах, на железной дороге, на автобусных остановках. С нами машина, шесть милиционеров, и мы, бригадмильцы. Но у нас работа не очень опасная, мы же бандитов не ловим, только беспаспортных отлавливаем.
– А потом куда?
– Что – куда потом? – Не понял Михаил Григорьевич.
– Ну, отловили, поймали, а потом куда их?
– А-а, потом в состав везём. На вокзал. Всех на пересылку.
– А где пересылка?
– Много, но мы отсылаем в шесть пересылок. Из Ленинграда обычно везут в Томскую пересыльную комендатуру, и если там не принимают, тогда направляют в другие отдалённые места. А в Томск дорога прямая от нас, вот и везут туда. А чего спрашиваешь-то, Лексеич?
– Михаил, знаешь, что я хочу тебе сказать?
Горбунов многозначительно замолчал. Во время вынужденной паузы Воронов изменился, из благополучного человека превратился в бродягу: глаза разъехались в разные стороны, под носом появилась сырость, нос практически упал на левую щеку.
– Говори уже, Григорий Алексеич, не томи! – взмолился Михаил Григорьевич, не делая попыток вытереть под носом.
– Я тебя подобрал, Миша, в подвале, сделал человеком, дал работу. Ты получаешь жалованье, небольшое, но тебе хватает. Без меня ты бы пропал, так?
– Ну, так, пропал бы, – согласился Воронов и снова взмолился: – Да говори, к чему клонишь, Григорий Алексеич?
– А вот к чему клоню, мне кажется, что ты, Михаил, скрываешь от меня правду. Боишься сказать, что мою Галину забрали как беспаспортную.
Они смотрели друг на друга и ясно видели, о чём думает каждый. Михаил соглашался, что без Горбунова пропал бы, умер от чахотки, а Григорий Алексеевич сверлил взглядом своего помощника и требовал признаний. Воронов сдался первым. И не потому, что боялся потерять работу, а потому, что не мог больше видеть страданий Горбунова.
– Эх, Григорий Алексеич, ты мне, как брат родной, никто мне не помог в тяжёлую минуту, а ты подал руку, и ни разу не попрекнул помощью. Уважаю, Григорий Алексеич, крепко уважаю! А по поводу твоей жены вот что скажу, я тоже думаю, что её замели во время облавы. Я её ищу в этом направлении, но, понимаешь, всё дело в том, что они списков не составляют.
– Как это? – вскрикнул Горбунов и, вскочив со стула, прижал Воронова к столу, но, опомнившись, отпустил помощника. – Извини, Михаил, не сдержался.
– А-а, свои люди, что уж там, – махнул рукой Михаил, – не составляют они списков. Никаких следов, чтобы не было. Только по головам считают.