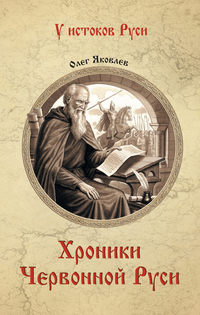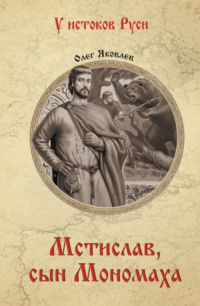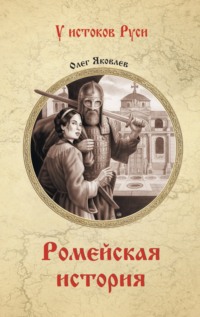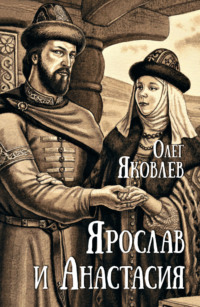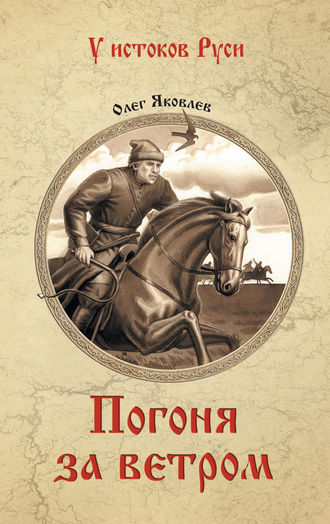
Полная версия
Погоня за ветром
Запыхавшийся от быстрого бега молодой воин из стражи повалился перед Войшелгом на колени.
– Князь, руссы сбежали ночью. Кто-то отпер замки, бросил им вервь.
– Что?! – багровея от злости, вскричал Войшелг. – Да как смели вы, раззявы?!
Резко вскочив, он ударил сапогом по лицу воина. На устах последнего проступила кровь. Облизнувшись, как собака, воин поспешил скрыться от грозного княжеского ока.
Мгновенно успокоившись, Войшелг осенил себя крестом и порывисто сел обратно на столец.
– Приступайте! – приказал он, махнув десницей, одному из воевод.
– Брат! – решилась окликнуть его Альдона. – Подожди. Выслушай меня. Довольно крови! Довольно казней! Что может породить твоя жестокость, брат? Вот ты убиваешь, вешаешь, отрубаешь головы, но врагов у тебя становится всё больше и больше. За Скирмонта и остальных появятся мстители, и снова будут войны, снова немцы нападут на наши земли. Молю, брате возлюбленный! Подумай! Пощади заговорщиков! Пусть посидят покуда в порубе, пусть покаются, пусть дадут клятву, что не будут боле строить ковы!
– Нет, сестрица! Нет, голубка моя ясная, – ласковым, но твёрдым голосом возразил ей Войшелг. – Я и так пощадил многих. Я простил Гирставте, Маненвида, других жемайтских нобилей. Пусть убирается, пусть расползается по своим владениям вся эта противная мелюзга! Ибо я знаю, что, как только нападут на них немцы, они приползут к великому князю Литвы на коленях, моля о защите. Наконец, я уважил седины воеводы Сударга, я помню, как храбро сражался он под знамёнами моего отца! Но своих родичей, злоумышляющих против меня, я не прощу! Пусть обрушится на головы их топор возмездия! Приступай! – снова крикнул он воеводе.
На краю ристалища появились окружённые стражниками Скирмонт, Борза, Лесий и Серпутий. Первые трое, хоть были бледны, но держались с достоинством и шли на казнь твёрдым шагом. Серпутий же, внезапно вырвавшись из кольца воинов, бросился на колени перед Войшелгом и со слезами истошно завопил:
– Прости, прости меня, великий князь! Я буду верно служить тебе!
Дикие крики его прерывались рыданиями.
Войшелг пришёл в ярость. Вскочив со стольца, он затопал ногами и, багровый от гнева, заорал на всю площадь:
– Вон! Вон отсюда! Переветник[121] проклятый! Стража! Хватайте его! Да быстрее же! Голову! Голову ему с плеч! Прежде прочих! Да живо же!
Альдона, не в силах более наблюдать происходящее, круто повернулась и быстрым шагом засеменила в шатёр. На душе у ней было противно и страшно. Боялась она и за брата, и за Шварна, и за всю Литву. И вместе с тем испытала она некое облегчение, когда узнала о бегстве Варлаама. Нет, она не хотела его гибели, наоборот, она, когда упрашивала брата сохранить жизни заговорщикам, думала почему-то только о нём одном. Она верила, что этот человек просто волею случая оказался втянут в бурный водоворот лихих дел и грозных событий, а по сути, он не желал совершить никакого зла. Пусть, думала молодица, бежит он в свой Перемышль, а потом, когда-нибудь после, они непременно объяснятся и поймут друг друга.
Сев на кошмы, Альдона грустно вздохнула и прислушалась к доносящемуся с ристалища гулу толпы. Вот крики на мгновение стихли, чутким своим слухом она уловила глухой удар, затем толпа снова взорвалась звероподобным воплем, заглушающим мерный стук бубнов и гудение медных труб. Зажав пальцами уши, Альдона не выдержала и разрыдалась. Тревожно, страшно и пусто было у неё на душе.
Когда казнь свершилась, в покои сестры, отодвинув войлочную занавесь, вступил Войшелг. Остановившись перед Альдоной, он тихо сказал:
– Сестра, я прошу тебя зайти ко мне. У меня в шатре собрались князья и нобили. Я должен кое-что сказать.
– Но зачем я пойду туда, брате? Ведь я всего лишь слабая и глупая женщина. Я ничего не понимаю в ваших делах и спорах.
– Но это важно, сестричка. Это очень важно.
Удивлённо пожав плечами, молодая княгиня проследовала за братом.
На скамьях в шатре Войшелга восседали литовские князья, нобили и воеводы. Многие из них живо обсуждали подробности казни. Одни, разрезая ладонями воздух, хвалили точные и сильные удары палачей, другие со вздохами сожаления отмечали мужество троих приговорённых, третьи угрюмо молчали, в душе осуждая жестокосердие Войшелга.
Альдона села в мягкое обитое бархатом кресло по правую руку от престола. Войшелг, не садясь, встал перед подданными. Подняв десницу, он призвал всех собравшихся к тишине. Громким голосом великий князь торжественно изрёк:
– Когда в Кернове убили моего отца, я вышел из врат монастыря и дал клятву, что за три года отомщу его убийцам и установлю в Литве порядок и тишину. Сегодня, предав казни последних из своих врагов, я исполнил то, в чём клялся. Теперь я возвращаюсь в монастырь в Новогрудке. Отныне я – не князь, я – инок. А великим князем Литвы с сего дня объявляю… – Он вдруг умолк, напряжённо вглядываясь в лица князей и нобилей. – Зятя, брата и друга своего, князя Галицкого Шварна!
Альдона, испуганно вскрикнув, вскочила с кресла. Изумлёнными, полными страха глазами, ещё не осознав до конца, что же сотворил её взбалмошный и жестокий брат-схимник, смотрела она на медленно отходящего от престола облачённого в чёрную рясу с куколем на голове Войшелга.
За спиной её злорадно улыбался боярин Григорий Васильевич. В этот час в Холм, к Шварну и Юрате, уже скакали добрые вестники с грамотами, увенчанными свинцовыми печатями. В Кернове – родовом гнезде литовских великих князей, ждала Шварна золотая корона.
Глава 19
Сумрачная тишина царила за каменными стенами Перемышля. Изредка до чуткого слуха князя Льва доносились оклики стражей и удары медного била[122], отсчитывающие часы. Тонкая свеча горела на столе, озаряя покой неярким мерцающим светом. Лев то отходил к забранному зелёным богемским стеклом окну и барабанил перстами по дощатой раме, то хмуро озирался и вглядывался в выступающие из темноты очертания стены с висящей на ней бурой медвежьей мордой. Он различил белый оскал развёрстой звериной пасти, неяркий свет выхватил из темноты тупые стеклянные глаза, страшные своей пустотой и неподвижностью. Чем-то этот когда-то поверженный отцом в карпатских пущах медведь напоминал ему Войшелга.
«Вражина! – зло скрипнул зубами Лев. – Вот до чего дошёл, инок! Ничего, доберусь до тебя, скотина!»
Он пытался успокоиться, отринуть, отодвинуть в сторону мысли о мщении, о своём безвластии, но никак не мог.
«Что же мне делать? Как же ему отомстить?! Всё бы припомнить: и попрание чести моей там, в Холме, когда батюшка помер, и лютые расправы со князьями в Литве, и казнь Скирмонта, друга моего!»
Лев сжимал в отчаянии крепкие кулаки.
«Людей моих в поруб кинул, сволочь! И еже б не Трайден… Трайден. Сын Ровмунда. Что он за птица? Кажется, родич князя Выкинта, того, что крижаков-меченосцев под Шяуляем иссёк. Давние дела, я ещё мальцом тогда был».
Заставив себя сесть за стол, князь придвинул кружку с любимым малиновым квасом и медленно, маленькими глотками стал пить.
«Инок, а мёд крепкий любит, – подумалось внезапно. – На пирах этот Войшелг далеко не из последних. Кум, бес бы его!»
– Эй, Ванята! – открыв дубовую дверь, крикнул он гридню. – Покличь сюда литвина сего, Маненвида!
В палату вступил рослый светловолосый литвин и земно поклонился Льву.
– Сядь! – указал взглядом на скамью напротив князь. – Стало быть, говоришь, двор твой пожёг Войшелг, и ты от него сбежал.
– Да, светлый князь. Я поспешил унести ноги, когда узнал, что схватили Скирмонта, Борзу и других.
– Теперь тебе нечего бояться, Маненвид. Войшелг уехал в монастырь, а мой брат Шварн – человек с мягким сердцем. Покайся в прежних грехах, дай клятву верности, выдай с головой пару заговорщиков – тем ты приблизишься к особе нового великого князя Литвы. Но сперва перетолкуй с князем Трайденом. Поблагодари его от меня за спасение верных моих людей. Слушай его советы, но потихоньку присматривай за ним. Я хочу знать, что Трайден за человек, каковы его чаяния и мысли.
Маненвид, смешно хлопая глазами, быстро кивал.
«Мразь, конечно! Подобострастная мразь!» – с отвращением подумал про него Лев, но ничем не выдал своих чувств. Наоборот, озирая нобиля, он одобрительно улыбнулся.
– Будешь передавать мне вести о ваших литовских делах. Через купцов, или сам шли гонца, – добавил Лев. – Нынче же ночью отъезжай в Кернов. И постарайся, чтоб ни едина живая душа тебя ни здесь, ни в Холме не видела. Ну, ступай.
По взмаху княжеской руки литвин мгновенно вскочил со скамьи и поспешил удалиться.
«Трусливая овца! – Лев скривил уста в злобной усмешке. – Зато такой не будет строить козни за спиной. Вот я его обласкал, дал денег на восстановление двора, теперь он будет мне лизать руку, как приблудная шелудивая собака. Но… такая собака легко может сменить хозяина».
Князь отпил из оловянной кружки глоток кваса. Смакуя его во рту, он вновь уставился в окно. Запутанная его игра продолжалась, всё новые и новые люди вольно и невольно втягивались в тугие узлы тайных противоборств. Одно ясно чувствовал Лев: наступала пора более решительных действий.
На востоке в темнеющем небе зажглась видимая уже не первую ночь хвостатая звезда. Мудрецы-монахи толковали, что звезда эта предвещает на земле великий мятеж, но Льву почему-то не было страшно. Наоборот, он верил, что эта грозная испускающая яркие тонкие лучи небесная пришелица – его звезда, она пророчит ему удачу и успех. Но до успеха было ещё очень далеко.
Лев вздохнул и решительно оторвал взор от окна.
Глава 20
Вокруг Кернова на многие вёрсты простирались густые дубовые леса и рощи. Замок был невелик; обведённый толстой стеной из морёного дуба, занимал он пологую вершину насыпной песчаной горы.
Княгине Юрате в Кернове сразу не понравилось. Привычная к многолюдью южнорусских городов, к обширным торжищам и широким рекам, она с сожалением и презрением отмечала, что родная её Литва – край малолюдный и дикий. Никого не было в Кернове, кроме стражей на стенах да семей воинов. Изредка показывались в городе жители из недалёких, запрятанных в глухих чащобах и на болотах деревень, жаловались на набеги ливонских рыцарей, рассказывали о своих сожжённых и разорённых домах, об угнанной скотине, об убитых или пленённых родичах. Выслушав их сетования, Шварн спешно собирал рать и бросался в лес, прокладывая себе пути сквозь густые заросли и болотистые низины, которые, по сути, были невидимыми бродами, известными немногим проводникам. Мосты через свои маленькие, узкие речки литвины прокладывали из камня прямо под водой, так что незнающие люди проезжали мимо, не замечая их. Когда же близко к Кернову подходили немецкие отряды, лесные лазутчики – кольгринды зажигали сигнальные огни, и тогда исчезали, пропадали и без того едва приметные дороги и вехи.
Шварн, одержав над рыцарями несколько побед в коротких стычках, воспарил соколом, ходил гордый и важный. Поведение сына сильно раздражало Юрату. Ещё более возмущала её сноха: Альдона откровенно радовалась тому, что оказалась в родном отцовском замке.
Молодая княгиня любила подолгу бывать на забороле. Поднявшись на самый верх круглой деревянной башни, откуда открывался дивный вид на рощи и леса, она подставляла лицо влажному ветру и с наслаждением вдыхала близкие душе запахи родной земли.
Она уже знала, что тяжела, что носит под сердцем ребёнка, но ни мужу, ни свекрови пока не говорила ничего. Только лучшей подружке Айгусте тихонько шепнула она на ушко эту новость. Первое время Альдона хмурилась, не ведая, радоваться ей или нет. Она не могла понять, от кого же забеременела. Неужели от того переветника, Варлаама, который строил козни против её брата?! Эта мысль повергала молодую княгиню в ужас. Долгие часы она молилась, простаивая на коленях перед иконой Спасителя, обливалась слезами, молила Господа о прощении за свой грех.
Нет, она не держала на Варлаама великого зла, он казался ей не столь уж и виноватым, но иметь от него сына или дочь она ни за что не хотела. Она упрямо старалась убедить сама себя, что зачала от мужа, что её будущий ребёнок – Шварнов. Но уверенности и спокойствия в душе у молодой княгини не прибавлялось.
Раздумчиво расхаживая по переходам княжеского замка, Альдона вспоминала прошлое, покойного отца, Миндовга, и мать, княгиню Марфу, которая едва не в открытую жила с одним немецким рыцарем, Сильвестром. Отец знал, но терпел, до поры до времени не обращая внимания на поведение супруги. Он даже принял латинскую веру, а потом, решив, что его час пробил, выгнал из Кернова католических попов, напал на немцев и искрошил их войско на озере Дурбе. Сильвестр тогда успел унести ноги в Ригу, а мать внезапно умерла. Незадолго перед этими событиями Альдону выдали замуж, потом в Литве был заговор, отца убили, и тогда Войшелг вышел из стен монастыря и начал свою месть.
Альдона помнила, как единожды случайно увидела свою мать в объятиях Сильвестра, как свет свечи в обширном покое, украшенном шпалерами, выхватил из темноты белую, бесстыдно обнажённую грудь матери, как раздавался в вечерней тишине её сладостный весёлый смех, как грубые большие руки наглого развратника Сильвестра ласкали упругое тело княгини. Тогда Альдона возненавидела мать, и даже к гробу её не подошла, не простилась с ней, а теперь вот внезапно подумала: а чем она-то, собственно, лучше покойной княгини Марфы – тоже изменила мужу, причём самым постыдным способом. Но никак не могла Альдона поставить в один ряд Сильвестра и Варлаама – настолько разные были они люди.
Холопка передала, что муж и свекровь ждут её в горнице. Спохватившись, Альдона заторопилась вниз по лестнице. Она решила, что как раз сейчас и скажет Шварну о будущем чаде.
В горнице царил полумрак. Кое-где на стенах горели зажжённые смоляные факелы. Перед грубо сколоченным деревянным столом, за которым сидел Шварн, стояли его ближние советники – молодой князь Трайден и нобиль Маненвид. Юрата, сложив руки на коленях, надменно поджав губы, с непроницаемым лицом восседала по левую руку от сына. За её креслом, покусывая широкие усы, застыл боярин Григорий Васильевич.
– Дак что ж, мать? Мыслишь, в Холм мне воротить? – спрашивал Шварн, ёрзая на скамье.
– Надобно тебе тамо быть, сын, – спокойным, твёрдым голосом ответила ему Юрата.
– Ты что скажешь, боярин? – повернулся Шварн к Григорию.
– Твоя мудрая мать, княже, боится новых козней князя Льва. Как бы не стал он сговариваться за нашими спинами…
Шварн гневно оборвал боярина:
– Рази не помнишь ты, как клялся Лев на кресте святом у гроба батюшки, что не пойдёт на меня войною, соуз имея с ляхами и уграми?!
– Не о ляхах, не о уграх толковню веду, светлый княже. Есть у нас враги пострашнее.
Шварн нахмурился.
Юрата, не выдержав, крикнула ему:
– Да о татарах, о них, нехристях окаянных, говорим! Нешто не разумеешь?!
– Лев… с татарами… – Шварн изумлённо, широко раскрытыми глазами уставился на мать. – Да нет, не посмеет он.
Юрата криво усмехнулась.
– Добр ты, сын, – сказала она. – Излиха добр. Вот добротою-то твоей и пользуются недруги твои.
– Вы что думаете? – спросил Шварн Трайдена с Маненвидом.
– Мы думаем так. Поезжай, князь, в Холм. Без тебя тут управимся. Немцам покуда не до нас. С Новгородом, с Псковом у них розмирье, – ответил ему Трайден, а лукавый Маненвид с ласковой улыбкой на круглом лице добавил:
– Да и ты, князь, напугал рыцарей немало. Боятся они твоего крепкого меча. Не посмеют больше нападать.
Юрата недовольно поморщилась. Нет, не по нраву был ей этот льстивый нобиль, чуяла она: хитрит Маненвид, держит он за спиной острый нож.
– Стало быть, воистину, надо мне ехать, – заключил со вздохом Шварн, ударяя ладонями по столу.
В горнице воцарилась тишина.
Альдона, до того молчавшая, поднялась со скамьи, вытянулась в струнку и с недоумением спросила:
– Вижу, всё вы решили. А меня, княгиню великую, вы спросили? Моё слово выслушали? Что, за куклу, за холопку безмолвную держите меня?!
– Ты ещё тут перечить старшим будешь, девчонка! – сквозь зубы злобно процедила Юрата.
– Да что ты, лапушка?! – вскочив, бросился успокаивать Альдону Шварн. – Почто гневаешь?! Али не ради блага твово на совет мы здесь собрались?!
– Тяжела я, Шварн, – потупив очи, тихо вымолвила Альдона. – Ребёнок у нас с тобой будет.
– Слава Господу! – Юрата перекрестилась и радостно заулыбалась. – Я-то уж думала, не дождусь внучат.
Не выдержав, Альдона разрыдалась. Шварн порывисто заключил её в объятия.
– Мне всё одно – в Холм, дак в Холм, – всхлипывая, сквозь слёзы шептала молодая княгиня. – Как порешил ты, так и будет. Я… Я всюду с тобою, ладо.
– Ну вот и славно, – сказала, усмехаясь, Юрата. – Боярин Григорий! Распорядись, чтоб возки приготовили. И кмети чтоб собирались, мечи, сабли точили. Дальняя у нас дорога.
Глава 21
Осенью Тихон, соскучившийся по купецкой вдове Матрёне, вырвался-таки из Перемышля в Холм. Варлаам, пользуясь, случаем, тоже отпросился у князя и отъехал во Владимир навестить отца и мать. Друзья простились возле ворот Холма, после чего Варлаам, подгоняя боднями коня, поспешил к берегу Буга.
Стоял октябрь, листва на деревьях, густо покрывавших волынские холмы, желтела и краснела, воздух был свеж и прозрачен, время от времени начинал накрапывать мелкий дождик, но тотчас же и прекращался. Солнце, борясь с хмурыми тучами, прорывалось сквозь серую пелену и согревало путника своим угасающим теплом. Путь был недолог, но Варлаам хотел успеть к Владимиру до заката солнца и потому, достигнув берега реки, погнал скакуна галопом.
После поездки в Литву он запрещал себе даже думать об Альдоне, но нет-нет да и жалили его сердце мысли об этой женщине, он вспоминал её полные презрения глаза в ночь, когда раскрыли заговор Скирмонта. Неужели она желала ему смерти?!
Невесёлые думы Варлаама прервал отчаянный крик, доносящийся с реки. Натянув поводья, отрок заставил коня круто остановиться.
Какой-то человек в мохнатой бараньей шапке барахтался в воде саженях в пятнадцати от берега.
«Здесь глубоко, омуты, – сообразил Варлаам. – Да и пловец, верно, не из лучших».
Спрыгнув наземь, отрок сорвал с плеч плащ, кафтан, стянул сапоги и стремглав бросился на помощь утопающему.
– Держись! – крикнул он и, пятная воду пенным крошевом, вразмашку поплыл к отчаянно вопящему, судорожно вскидывающему вверх лицо человеку.
«Татарин, кажись», – определил Варлаам, хватая незнакомца за край кожаной одежды.
– Ну, не дёргай, не рви рубаху! И не вопи! Дай обниму тебя за стан! Да не цепляй меня за шею! Не дави так, а то оба к Водяному в гости пожалуем!
Татарин, дрожа от холода и испуга, хрипел. Варлаам, стиснув зубы, тащил его к берегу. Вроде мелок, худ был татарин, а оказался нелёгок, отрок тяжело дышал и сквозь холодные брызги вглядывался вперёд. Далеко ли спасительная песчаная отмель, скоро ли кончится эта проклятая холодная вода?! Боялся Варлаам одного: как бы судорогой не свело ему члены!
Сильным течением их снесло вниз. Дул ветер, река волновалась, бросала в лицо водяные валы с пенящимися гребнями. Варлаам вздохнул с облегчением, когда нащупал ногами дно.
Встав, он медленно пошёл к берегу.
Татарин, шатаясь, плёлся за ним следом.
Взобравшись на песчаный взлобок, Варлаам подозвал свистом коня. Затем он собрал побольше хвороста и разжёг костёр.
Грелись, сушили одежду, татарин говорил на ломаном русском языке:
– Твоя моя жизнь спас! Твоя моя выручать. Я – теперь твоя брат, твоя – моя брат! Моя – сильный, богатый, моя – нойон!
– Как твоё имя? – спросил Варлаам, с некоторой насторожённостью посматривая на плоское, скуластое лицо татарина с редкой, короткой бородкой и узкими, вислыми усами. Глазки у нойона были маленькими, такими, что казалось, будто он всё время лукаво щурится.
– Маучи, – ответ заставил Варлаама вздрогнуть.
Маучи, или Могучей, как звали его на Руси, был наместником хана Золотой Орды в Киеве.
– Как же ты оказался тут один, без охраны? – изумлённо разведя руками, пробормотал отрок.
– Ходил на охоту. Нукеры остались. – Маучи указал грязным перстом за реку, в сторону густого букового леса. – Моя видит река, хотел переплыть. Конь упал, утонул. Моя тонуть. Твоя спасать.
– Ищут тебя, верно. Надо разжечь костёр повыше, посильнее, чтоб заметили твои люди. Соберём побольше хвороста, веток, листвы, – предложил Варлаам.
Маучи послушно последовал за ним на невысокий пологий холмик, нависающий над песчаным берегом Буга.
Варлаам с досадой подумал, что ему теперь не удастся добраться до Владимира до завтрашнего утра.
Вскоре над рекой запылал большой костёр. Высоко в темнеющее вечернее небо вознеслись языки пламени, посыпались искры, жёлтые отблески упали на рябящую под холмом воду.
Маучи стал рассказывать о себе, Варлаам слушал, время от времени бросая беспокойные взгляды за реку. Но там как будто было пока тихо.
– Моя ходил в поход с хан Бату, воевал кипчаков, мадьяр[123], брал Киев, Варадин. Много был я в походах. Копыта мой конь ходили… Полуночное море… – Он пощёлкал пальцами, вспоминая название.
– Верно, Ядранское море[124], в Далмации[125]. Доводилось и мне там бывать, – промолвил Варлаам.
«Господи, зачем, кого это я спас?! Мало того, что мунгал, дак ещё и вражина лютый, темник какой-нибудь или тысячник у Батыя был. Сколько он людей русских, да и не только русских, сгубил, а я! – думал с отчаянием отрок. – Ну дак и что же с того?! Ведь я оказал помощь страждущему, поступил, как всякий добрый христианин. Разве мог я по-иному содеять?! Что, проехал бы мимо: пропадай, мол, поганый татарин, в омуте бужском?! Нет, прав Тихон. Одно дело – честный бой, там мы – враги, иное дело – такая вот беда. В ней все равны, все должны друг дружке помогать».
Он назвал своё имя, немного сказал о себе, помянул об учёбе в Падуе, о князе Льве. Маучи понимающе кивал и добродушно улыбался.
– Твоя молод, моя старше, немного, но – старше. Много видел, много воевал, – сказал он.
– У тебя, достопочтимый Маучи, сабля, вижу, есть, кинжал на боку. Ты их на ночь не снимай, вдруг какие лихие люди нападут. Дадим им отпор. А заутре, если твоих нукеров не дождёмся, во Владимир поедем. Отец, мать у меня там.
– Твоя правильно говорит, – согласился татарин.
– А покуда сторожу вокруг костра будем нести по очереди. Сперва я, ты, верно, больше моего устал. Охота, да потом купание это в воде. Ложись, спи покуда.
Маучи не успел ответить. Снизу раздался шум, плеск воды, гортанные крики, ржание коней.
– Нукеры! – обрадовался нойон.
Приложив ладони ко рту, он крикнул что-то на своём, непонятном Варлааму языке. Через несколько мгновений к костру подлетел отряд вооружённых копьями и саблями татар в кожаных и булатных доспехах и лубяных обрских шлемах. Все они были на конях.
Маучи торопливо объяснил им, что произошло. Затем он обратился к Варлааму:
– Твоя – мой брат, моя – твой брат. У нас – одна кровь.
Он надрезал на руке кожу и подал Варлааму нож. Отрок, усмехнувшись, сделал то же. Потом они соединили надрезанные места, на которых выступили капли крови. Нукеры шумно и радостно приветствовали их братание. Затем Маучи сказал так:
– Моя конь – твоя конь. Я дарю тебе, брат, свой лучший конь, а ты дашь мне свой.
По его знаку один из нукеров подвёл к Варлааму стройного солового иноходца. Отрок с улыбкой залюбовался красивым долгогривым жеребцом.
Взамен он отдал Маучи своего саврасого коня.
– Моя едет в Холм, твоя – в Ульдемир, – со вздохом промолвил Маучи. – Даю тебе двух моих нукеров. Проводят тебя до Ульдемир. Простимся сейчас, брат. Будешь Киев – приходи.
– Да, брат, – ответил ему ошеломлённый Варлаам. – А ты, если будешь в Перемышле, тоже мимо не проезжай.
Они обнялись, маленький Маучи крепко стиснул Варлаама в своих объятиях. Варлаам с изумлением заметил, как по грязной щеке нойона покатилась слеза.
На том побратимы расстались. Маучи и его спутники исчезли в ночной тьме. Варлаам постелил войлочную попону и лёг возле костра. Нукеры с копьями наперевес, стараясь не потревожить его, молча и неслышно обходили холм.
«Это надо же! Стать братом врага, татарина!» – Варлаам изумлённо покачал головой и вдруг подумал: что почувствует и что скажет Альдона, если когда узнает о сегодняшнем событии. Он представил себе её полное презрения лицо, её твёрдый наморщенный носик и тихо рассмеялся, сам не зная чему.
Глава 22
В Перемышле, когда спустя несколько дней Варлаам воротился из Владимира, всё было по-прежнему. По крепости и вокруг неё разъезжали татарские всадники во главе с баскаком Милеем, собирали дань, беззастенчиво обирали крестьян, и без того бедствовавших. Многие людины[126] бросали свои дома и бежали в горы, сбиваясь там в разбойничьи шайки и чиня пакости на дорогах. Лев, скрипя зубами, терпел. Во всех бедах своих, в том числе и в бесчинстве татар, винил он одного человека – Войшелга.