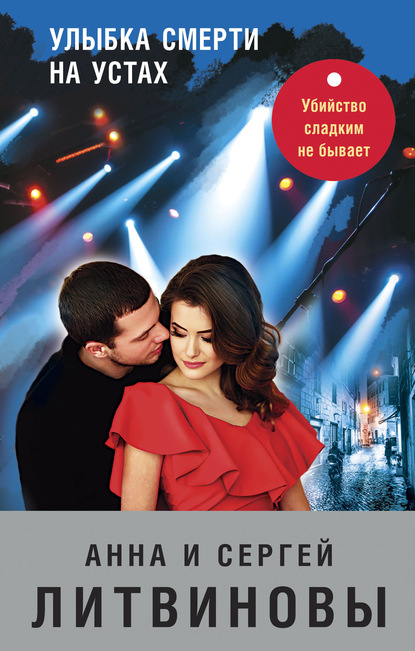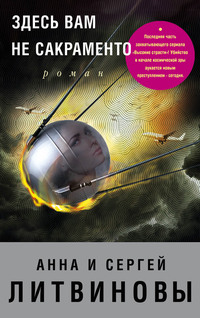Полная версия
Грехи отцов отпустят дети
Чтобы не куролесить по усадьбе по подъездной дороге, он бросил машину у ворот и вошел на участок пешком, через калитку. Его внимание привлек оставленный кем-то у беседки велосипед. Он подошел ближе и остановился. Из беседки доносились голоса.
Павел Петрович узнал их. Он замер. Заросли жасмина и сирени делали его невидимым для говорящих.
– Есть тут некоторые павлины-типусы, от которых меня, право слово, подташнивает, – неопределенно заметил Евгений.
– Вы моего деверя имеете в виду? Павла Петровича?
– Хотя бы даже и его. На редкость противная особь. Индюк.
– А у вас острый язычок. Вот интересно, а что вы думаете о его брате и моем муже, Николае Петровиче?
– Ну, во-первых, он, насколько я понимаю, не муж вам? Вы пока не венчаны? Не расписаны?
– Тогда скажите, что вы думаете о моемсожителеНиколае Петровиче?
– А что о нем думать? Простой и добрый барин. Слуга царю, отец солдатам.
– А что вы в таком случае думаете обо мне? – лукаво смеясь, вопросила Фенечка. – Считаете небось расчетливой тварью, что захомутала старичка и теперь выходит за него ради денег?
– Да что вы! Ни в коем разе! О вас я думаю так: любовь зла, полюбишь и козла.
– Вы хотите тем самым сказать, что Николай Петрович меня любит? Или что я его? Кто из нас козел, короче?
– Ну, уж никак не вы. Вы – милая юная козочка.
– Вот как? Ну а вы? Вы-то любите хоть что-нибудь? Или кого-нибудь?
– Никак нет-с!
– А нашу соседку Елену Сергеевну Одинцову?
– Я бы мог полюбить ее только затем, чтобы доставить неудовольствие вашему деверю, прекраснейшему Павлу Петровичу.
– О! Так вы тоже заметили, что он за нею волочится?
– Хм. Фрайтфулли токинг5, она мне сама поведала, что между ними некогда имел место роман.
– О! Вы достигли с нашей соседкой, как я гляжу, глубокой степени откровенности!
Весь этот диалог, непосредственно касающийся его самого, Павел Петрович слушал, замерев на месте и не в силах пошевелиться, чтобы не выдать себя. Пот выступил на его челе.
– Ну а если говорить обо мне, – продолжала провоцировать молодого человека Фенечка. – За что бы вы, к примеру, могли полюбить меня?
– Хм. Николай Петрович – отец моего друга, да и дядька он хороший, хотя и, как положено художнику, не слишком далекий. Злить его мне совершенно не хочется. Поэтому кого-кого, а вас я бы, пожалуй, никак не смог полюбить.
– Фу. Противный.
– …Разве что мог бы влюбиться только в ваши глазки. И еще, пожалуй, в ваши ланиты. И в ваши перси – белоснежные! И в ваш стан – лебединый! И в ваши уста – сахарные! – Евгений намеренно стилизовал свою речь под объяснения двухвековой давности, что демонстрировало его хорошую начитанность и как бы снижало страстность его слов. Но действия говорили сами за себя: Евгений подходил к Фенечке все ближе и наконец, положив обе сильных руки ей на талию, привлек ее к себе. Малыш продолжал самозабвенно спать. Евгений запечатлел на губах девушки страстный поцелуй, она попыталась оттолкнуть молодого человека, но потом ответила на него.
Только тут Павел Петрович вышел из изумленного шокового состояния и обнаружил себя, громко закашлявшись.
Фенечка отпрянула от Евгения.
Перешагнув через брошенный велосипед, в беседку ступил Павел Петрович.
Фенечка вскрикнула и рефлекторно схватила на руки Сашеньку.
Тот, разбуженный и испуганный, заплакал.
Молодая мать, прижав его к себе, а другой рукой толкая коляску, опрометью выскочила из беседки.
Павел Петрович оказался один на один с Евгением.
Вне себя от ярости, он проговорил:
– Я всегда знал, что вы, милостивый государь, настоящий подлец. Но теперь ваше поведение переходит все границы! Вы злоупотребляете нашим гостеприимством! Вы оскорбляете меня! Вы оскорбляете моего брата! Да вас мало выпороть плетьми! На конюшне!
Молодой человек побледнел, но усмехнулся.
– А вы попробуйте.
Кирсанов-старший немного сбавил тон, но продолжал разоряться:
– Да в былые времена я бы вызвал вас к барьеру! На поединок!..
Евгений холодно ухмыльнулся.
– А чем былые времена отличаются от нынешних? Желаете со мной драться? Извольте.
– Постыдились бы! Вам тридцати нет, а мне пятьдесят!
– Если желаете, давайте устроим поединок. Как говорится, пуля рассудит.
– Вы что, меня вызываете?
– Нет, но, по-моему, меня, напротив, вызываете вы. Или вы уже передумали?
– Да, хорошая идея! Драться! И не по-быдлячецки, на кулаках. Стреляться так стреляться! Ради бога! Как положено – я пришлю к вам секунданта!
Павел Петрович в сердцах плюнул под ноги Евгению, развернулся и, сжимая кулаки, с бешено колотящимся сердцем зашагал к дому.
Вечером, когда все легли, к Евгению, в его комнату на третьем этаже, пришел прислуживающий в доме Глеб и, понизив голос и таинственно оглядываясь по сторонам, огласил условия поединка, предлагаемые Павлом Петровичем: стреляться завтра, с рассветом, в пять утра, в Матвеевской роще, расположенной в трех километрах от усадьбы – там в намеченное раннее время не бывает никого народу.
В усадьбе, в сейфах, издавна хранятся пистолеты: один – трофейный «вальтер», другой – «ТТ». Они еще с прошлой войны принадлежали деду, Николаю Петровичу Кирсанову-старшему, который привез их с фронта. Оба нигде не зарегистрированы. Тем не менее оба пистолета в полном порядке, пристреляны, регулярно чистятся и смазываются. Оружие современное, нарезное, поэтому барьеры предлагается расположить на двадцати пяти шагах, а количество выстрелов ограничить двумя. Предлагается бросить жребий перед самым поединком, кому какой конкретно пистолет достанется. А чтобы избежать в случае самого неблагоприятного исхода полицейского и судебного преследования, перед схваткой каждый из дуэлянтов напишет последнее послание, где объяснит, что решил покончить с собой. Расписки эти сдаются перед поединком секунданту, а при смерти кого-то из соперников соответствующей бумаге дается ход, а оставшаяся записка уничтожается путем сожжения. Если и тот и другой останутся живы – сожгут обе бумажки.
– Ви сгодни? – спросил Глеб. – То есть, я маю, вы согласны?
– Да-да, условия, по-моему, исчерпывающие, и я не против, – рассеянно отвечал Евгений.
– Ви доберетеся сами завтра до Матвеевской рощи? Або вас пидвезти?
– О, нет, благодарю. Роща эта ведь есть в навигаторе?
– Гадаю, так.
– Тогда до завтра. Надеюсь, в пять утра уже будет светло.
Глеб вышел, а Евгений рассеянно засвистал. «Что за пошлая оперетка? – думал он. – И неужели все может кончиться трагедией? Полной гибелью всерьез? А ведь и впрямь – Кирсанов-старший ненавидит меня. Для него будет удовольствием всадить мне пулю в ляжку, а еще лучше (для него) – в висок… Может, позвонить, попрощаться на всякий случай с мамочкой моей приемной?.. Или зайти к Елене Сергеевне? Пусть утешит? Или к Фенечке? Или сказать последнее прости другу Аркадию? Фу, фу, страшная, невыносимая пошлость!..»
Николай Петрович Кирсанов
За два дня до убийства– Мамочка приехала, – улыбнулся сквозь сон Николай Петрович Кирсанов и потянулся в своей утренней кровати. Фенечки уже не было рядом, но измятая постель еще, казалось, хранила ее тепло и запах.
Но откуда же такой сон? Как будто из детства. Как будто осуществилось детское мечтание.
Мамочки вечно не было дома. А если приезжала, то всегда неожиданно. И почти всегда ночью.
Или поздним вечером. Или ранним утром.
Во всяком случае, она все время возникала, когда Николенька спал. И всегда хватала его, только что проснувшегося, обнимала и тискала. И дарила подарки. И от нее всякий раз пахло мамой, как он привык, – но и почти всегда чем-то новым. То поездом и угольной пылью. То алкоголем. То красками. Или табаком.
Но откуда же сейчас этот сон? Он взрослый человек и почти даже старый, и давно отлетели детские годы, когда он так нуждался в маме и хотел быть рядом с нею – а она все была где-то далеко и все не приезжала и не приезжала, а если появлялась, то всегда неожиданно, когда он переставал даже ждать.
Постоянно врасплох и всякий раз ненадолго.
Дед называл ее с горькой усмешечкой «мать-кукушка» – и был прав по сути. Вечно мама устраивала свои дела, творческие и личные. Творческие даже в большей степени, чем личные. Хотя и «личного» в ее жизни тоже хватало. Даже странно, как получилось, что у них с братом один отец.
Отца Кирсанов помнил плохо. Вернее, не помнил совсем. Сохранились какие-то тусклые картинки.
Вот мужчина его кормит манной кашей. Почему именно этот мужчина, непонятно. Почему не бабушка? Не дед? Почему не мама, в конце концов? Возможно (догадывался он уже гораздо позже), это был один из тех коротких периодов, когда Антонина Николаевна хотела доказать кому-то, деду с бабкой прежде всего, и, главное, себе самой, что она не «мать-ехидна», а настоящая, заботливая, любящая мамаша. Да, наверное, те самые времена. И вот мужчина в майке – как носили тогда, в семидесятые: белые, без рукавов, поддевали под рубахи – заставляет его есть кашу.
– Не хочу, она невкусная, – капризничает маленький Николенька.
– Да что ты выдумываешь, прекрасная каша! – начинает сердиться мужчина в майке.
– Она горькая!
– Замечательная вещь, из свежего молока и манки, мама с утра сварила! Ешь! – злится мужчина.
– Не буду! Невкусная! Гадость!
– Не смей называть еду гадостью!
Потом дяденька все-таки пробует кашу – и выплевывает ее сам.
– И впрямь горькая… – говорит растерянно. – Может, молоко скисло? Ну, ладно, брат, извини. Придется тогда пожарить тебе яичницу.
Вот одно крохотное воспоминание. Наверное, это и был отец. Во всяком случае, мама требовала, чтобы Николенька называл его папой.
Хотя непонятно, где во время того инцидента находился Павлуша. Или мамочка возвращала любовь сыновей дискретно, поочередно? Типа, с двумя одним махом ей не справиться? И сегодня у нее гостит Николай, а завтра Павлик?
Да, мама вечно где-то пребывала: пленэры, поездки, студии, экспедиции, командировки.
А потом Николенька как-то незаметно и быстро вырос и уже перестал в ней нуждаться. Да и она наконец пожала свой первый успех и уехала – теперь очень далеко и надолго. Навсегда. Англия, Америка, даже Австралия с Новой Зеландией.
И все равно, когда мама прилетала на родину, совсем нечасто, обычно случался праздник. Привозила кучу вещей и гостинцев. И возникало ощущение, что она богатая.
А он, к тому времени, к концу восьмидесятых, ставший подростком, тырил у нее из многочисленных блоков сигареты «Ротманс» и «Мальборо» – ах как они восхитительно пахли по сравнению с нашенскими «Явой» и «Космосом»! А потом он уже вырос настолько, что мамочка легально стала привозить ему сигареты, и баночное пиво, и даже виски «Джонни Уокер» с красной этикеткой. А потом перестройка неожиданно закончилась, развалился единый могучий Советский Союз, начались капиталистические преобразования в свободной России, и все эти лакомства – и сигареты, и пиво в банках, и виски – начали свободно продаваться в железных ларьках с зарешеченными витринками, а он сам женился, а мама стала приезжать все реже. Потом какая-то странная грызня с Марией Михайловной, в девичестве Огузковой, первой женой, и нежелание принять у себя в Неваде на каникулах маленького Аркашу, и странные телефонные звонки глубокой ночью, нетвердым голосом…
Жизнь пролетела, ему впору нянчить внуков, а в памяти еще остался приступ неожиданной, нечаянной радости: «Мамочка приехала!»
Но откуда же оно, это ощущение, вдруг появилось сейчас?
Николай Петрович встал с постели и прислушался. С первого этажа, из малой гостиной-кухни, доносятся голоса.Женскиеголоса. И это странно. Дома должна быть одна Фенечка – с сыном, маленьким Сашенькой, разумеется. Что, она перетирает с Ниной детали меню или принципы уборки?
Накинув халат, Кирсанов сбежал по лестнице. И в самом деле!
За столом гостиной, совмещенной с кухней, сидела мамочка! Старая-престарая, худая, костистая, изборожденная морщинами глубиною в Гран-Каньон – но в белых нитяных перчатках (скрывающих, как он помнил, древние руки с глубокими венами и костистыми узловатыми пальцами), в затейливом пестрейшем тюрбане то ли от «Эрме», то ли от «Шанель», маскирующем редеющие и выжженные краской волосы, и дизайнерской же хламиде расцветки «пожар в джунглях» или «вырви глаз», упрятывающей старое жилистое тело. И голос ее звучал столь же молодо, напористо, без малейших старушечьих нот – как раздавался сорок или сорок пять лет назад в кухне старого кирсановского дома, а маленький Николенька сквозь сон неожиданно его слышал.
Напротив мамаши располагалась Фенечка, а рядом с нею – какой-то мужлан типично иностранного вида, смуглокожий, курчавый, похожий на испанца или мексиканца и лет на тридцать матери моложе.
– Мамочка, как ты здесь?! – искренне обрадовался Николай Петрович – еще близки были нахлынувшие на него сразу после пробуждения воспоминания. – Что-то случилось? – вдруг испугался он. Почему-то вдруг подумалось о первой жене Марии (которую мать терпеть не могла).
– А ты полагаешь, – хрипловатым своим, прокуренным голосом проговорила матерь, – я пропущу юбилей своего сына?
– Ах да! Павлушке ведь пятьдесят! Так что ж ты не у него?
– Но он ведь у нас работает, – в словах маменьки Кирсанову почудилась укоризна, непонятно только, в адрес кого – старшего ли брата, который по причине службы не в силах принять мать по-человечески, то ли его самого, который в присутствие не ходит, ведет рассеянную жизнь свободного художника и дрыхнет до половины одиннадцатого.
– А мы уже познакомились с твоей Фенечкой. И я, в свою очередь, хочу тебе представить.
Это Мигель – впрочем, он и на Майкла откликается. Учти, он по-русски ни бум-бум. Но ты, как я знаю, в английском тоже не преуспеваешь, не говоря уже об испанском. Так что общайтесь на языке жестов или «моя-твоя не понимай».
Курчавый смуглый малый привстал из-за стола, улыбнулся во все свои тридцать две искусственные коронки и с чувством пожал Николаю Петровичу руку. Приглядевшись, Кирсанов понял, что гостю все-таки за пятьдесят. «Но все равно, мамашка-то какова! Огонь! Ей-то самой сколько? Она сорок первого года рождения – значит, семьдесят семь. Да, огонь!»
Фенечка выглядела радушной.
То было ее первое столкновение с будущей свекровью, до этого они были лично незнакомы, говорили только пару раз по телефону и скайпу. Она, видимо, помнила рассказы о неладах Марии, первой жены своего мужа, с Антониной Николаевной и хотела избежать ее ошибок. Хотя кто она ей, если разобраться, та Антонина Николаевна с ее постоянным проживанием в штате Невада!
Маленький Сашенька увлеченно занимался в манеже игрушками. Игрушки были совершенно новые, ранее Николаем Петровичем не виданные – никак матерь раскошелилась, проявила чадолюбие, не замеченное ранее, пока рос первый внук Аркаша.
– А почему ты без звонка? – спросил Кирсанов. – Я бы вас встретил.
– Ради бога! В российской столице, как мне сказали, наконец наладился сервис такси. И впрямь! Даже «гетт» действует и «убер», с ума сойти.
– А где вы решили остановиться? У нас?
– Ишь! Забеспокоился! Не волнуйся, мой дорогой. Мы ведь знаем, что ты гораздо в меньшей степени обеспечен жилой площадью в сравнении с братом. Все московские метры проклятая Машка отхапала! Вдобавок ведь юбилей не у тебя, а у Павлуши. Надеюсь, твой брат окажет нам гостеприимство, и мы после празднования переедем в столичную квартиру Павла Петровича. Нам тоже будет гораздо удобней посещать столичные театры и выставки. У нас ведь обширная культурная программа, знаешь ли. – И тут же перевела свою реплику на английский для спутника.
– У нас даже здесь полно места, – принужденно улыбаясь, проговорила Фенечка. – Правда, сейчас Аркадий гостит. И друг его. – Николая Петровича покоробила и эта принужденная улыбка, и слово «гостит» в отношении к его сыну. – Однако две спальни все равно еще остаются свободными.
Снова короткий перевод: «Нас приглашают остаться в этом доме» – и сердечно любезные поклоны со стороны Мигеля-Майкла.
Николай Петрович сделал себе кофе и тост, а когда присоединился к завтракающим, мамаша бухнула:
– А что коллекция? Покажете ли вы ее наконец? У Кирсанова остановилось сердце.
– Какая такая коллекция? – ненатурально улыбаясь, промолвил он.
– Та самая, покойного деда.
– Кто тебе сказал?
И Фенечка тоже недоуменно переводила взгляд с него на мать.
Мать только всепонимающе усмехнулась и развела руками.
– Я, право, не понимаю, о чем ты, – продолжал Николай Петрович. – Что за коллекцию ты имеешь в виду?
– Ох, Николай! Имей в виду, что в искусстве вранья ты не слишком усовершенствовался в сравнении с девятилетним возрастом, когда стер из дневника двойку по арифметике. Даже странно, что тебе так долго удавалось морочить голову твоей Марии, пока ты за ее спиной крутил с Фенечкой! Или Машка обо всем догадывалась и предпочитала до поры молчать? Ну ладно, раз ты и по поводу коллекции – как рыба об лед, переменим тему. Хотя можно и поговорить. Но наверное, в присутствии Павла это будет более правильно. Он ведь, как ни крути, тоже наследник. Посмотрим, будет ли старшенький, в свою очередь, делать изумленное лицо: «Мама, я не понимаю, о чем ты говоришь?!» – и Антонина Николаевна расхохоталась.
Антонина Николаевна Стожарова-Кирсанова
Это враки, что с течением времени желания утихают, а чувства усмиряются. Нет, спорить не будем, интенсивность каждого отдельного чувства, пожалуй, снижается. Зато вот самих желаний – их становится больше. Если брать пример на бытовом уровне, совсем недавно она впервые в жизни попробовала плод под названием «аннона». И что же? Ей теперь желается съесть не только персик, грушу или, скажем, манго. Но вот теперь – и ее, аннону.
Всю жизнь Антонина Николаевна стремилась следовать за своими желаниями, потрафлять им. Потому столько успела. Столько увидела, сделала, совершила. Прожила, если вдуматься, не одну, а несколько жизней. С разными мужчинами, в разных странах. Прочувствовала и испытала многое.
Но ведь и дальше хочется!
Хочется жить, путешествовать, любить. Есть прекрасный пример: Лени Рифеншталь. Была великим режиссером и любимицей Рейха. Да и после войны все нацисты посыпали голову пеплом – а она ударилась оземь и обратилась путешественницей, богачкой, аквалангисткой, фото-графиней, утехой молодых любовников.
Правда, Лени – гениальный, как говорят, режиссер, а она, Тоня, никогда всерьез о себе не думала, что она художница.
Но тусоваться в той среде ей нравилось. И нравилось, когда хвалили. А еще приятно было, что она «нонконформист», и приятно было думать, что в Советском Союзе ее не выставляют и не покупают не потому, что она не талантлива, а потому, что бунтарь, абстракционист и отказывается следовать глупым установлениям соцреализма.
Хотя в какой-то из своих жизней – кушать ведь тоже что-то надо – приходилось рисовать обложки научно-популярных книг, и иллюстрации к журналу «Химия и жизнь», и мультики для «Союзмультфильма», и детские книги. И даже в подцензурном искусстве, которое она слегка презирала, все равно ей нравилось, когда хвалят ее острый карандаш и уверенный штрих.
Но когда в стране забушевала перестройка, и подпольное советское искусство вдруг стало сверхпопулярным на Западе, и все они там вспыхнули – и Белютин, и Юл Соостер, и Кабаков, и Кибиров, и Рабин, и Комар с Меламидом, – и ей тоже достались причитающиеся ей «пятнадцать минут славы» (как совершенно верно заметил другой художник, великий Энди Уорхолл). Но даже тогда, когда о ней – да на первой полосе! – написала «Нью-Йорк таймс», Антонина Николаевна все равно чувствовала себя отчасти как Хлестаков в уездном городе: все они меня немного не за ту персону принимают. И еще: вот хорошо, что так-таки и не нашелся мальчик, который в ее адрес крикнул: «А король-то голый!» Однако мальчик – мальчиком, а вот время… Просто ее работы с течением времени стала поглощать, сама собой, река Лета, заносить песок вечности.
А не хочется. К тому же у этой неверной девки, славы, имеется уверенный, надежный заменитель – деньги.
Это только при советской власти деньги ничего не значили. Имело значение, с кем ты знаком.
С кем тусуешься. С кем связан. Кто у тебя в друзьях. Кто любовник.
И как жаль, о, как бесконечно жаль, что время нельзя обратить вспять, и она уже не та юная, крепкая, задорная Тоня, как много-много лет назад! Эх, был бы нынешний опыт – она тогдашнюю свою молодость, свежесть и красоту конвертировала бы куда как успешней, чем случилось в реальности.
Вспомнилось: шестьдесят второй, что ли, год. Холодное-холодное лето. Льет и льет. А она не замечает – выпускница Строгановки, да еще подающая большие надежды. Но чем простаивать перед холстом, мучительно морща лоб, что написать и в какой манере, ей гораздо больше нравитсятусоваться… Нет, тогда еще не говорили тусоваться, а как? Кажется, корешиться… Так вот, ей гораздо больше нравилось корешиться, отдавая предпочтение обществу взрослых, умных, знаменитых. Как однажды у кого-то в мастерской – кажется, у Неизвестного? – все вились вокруг тогдашних звезд: Аксенова, Вознесенского. Кажется, отмечали книжку последнего, «Треугольную грушу». Автор что-то читал нараспев. «Ах, Мерлин, Мерлин, героиня самоубийства и героина». А Тоня в то же время заприметила парнишку лет тридцати, худенького, щуплого, с усиками, он непрерывно курил. «Кто таков?» – спросила исподволь. «А ты не знаешь? Это же Тарковский Андрей, выпускник ВГИКа, режиссер, у него вот только сейчас первый фильм вышел, «Иваново детство». Видела?»
– Нет. А про что?
– Про войну.
– Ой, про войну я не люблю.
– Да ты что! Фильм гениальный, обязательно сходи! Его на фестиваль в Венецию собираются везти.
– И Тарковский этот в Венецию поедет?
– А как же без него!
И хоть и поглядывал на нее тогда через стол этот паренек весьма заинтересованно, и посмотрела она три дня спустя тот самый фильм в кинотеатре «Факел» (да, мощно и ярко, хотя и тяжело, трагично) – но момент для встречи был безнадежно упущен, и больше они никогда не встретились.
Хотя были в ее жизни другие. И тоже таланты, красавцы, поэты. Иначе как бы она, двадцатидвухлетняя, попала на выставку в Манеж – ту самую, теперь легендарную, образца декабря шестьдесят третьего! Да, притулилась – с двумя своими картинами, честно говоря, весьма и весьма ученическими, которые и от социалистического реализма отстали, и к «новой реальности»6 не прибились. Зато Тоня лично в том Манеже присутствовала, и хоть за спинами многих, но видела быструю проходку «первого лица», Хрущева Никиты Сергеевича, а рядом с ним и Косыгина, и Суслова, и Шелепина. И слышала державный рев первого секретаря ЦК: «Да вы художники или педерасты?! Корова хвостом лучше нарисует, чем вы!!!» И еще – его же крик: «Да! В искусстве я сталинист!» И хоть понимала тогда Тоня, что ни талантом, ни возможностями не выросла до столь высоченного уровня, зато какими горячими и веселыми были в ту пору ночки! С возлюбленным тогдашним, мэтром, который казался почти стариком в свои сорок четыре и который продвинул ее, Тоню, и в свою студию, и в Манеж.
Ох, как же она сейчас понимает Фенечку! Конечно, рядом с умным, обеспеченным и состоявшимся комфортней и легче, чем с каким-нибудь юным нищебродом.
Жаль, конечно, что тогда у мэтра довольно быстро новая фаворитка появилась и не сумела Антонина до победного конца свою партию доиграть. Хотя… Ну, осталась бы она с ним. И какой кураж? Просидела бы в итоге всю жизнь с престарелым нытиком. И не случилось бы вскоре огневого романа с юным «таганковцем» – тогда только театр открылся, а она, как возлюбленная и музаодного из, сидит в зале на Таганке в первых рядах, когда играют «Десять дней одного года» и «Берегите ваши лица». Ах, как все было весело и лихо – зря только раздарила тогда им, актерам, те наброски, что наделала на посиделках после спектакля: Высоцкого, Золотухина, Любимова. Как ей тогда шептал Володя: «Да у тебя, Тонька, рука, как у Модильяни!» Сохранила бы наброски – теперь бы обогатилась. Хотя бы не за счет своего имени, а из-за всемирной славы моделей.
Обогатилась бы – да! Но с коллекцией покойного деда не сравнить. Если, конечно, правду ей Динка нашептала.
А если и правду сказала – как к ней, коллекции, подберешься? Вон какую морду кирпичом Николай сделал – типа знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Прохиндей. А голосок-то дрожит.
Нет, никаких особенных материнских чувств она по отношению к сынам не испытывала.
Ни тогда, в раннем их детстве, ни тем более сейчас.
В юные годы слишком сильно она от них уставала. Слишком быстро они ей надоедали. Что такое – целый день одно и то же! Покормил, уложил, пеленки постирал, в ванночке искупал. А завтра – все по новой. Тощища и нуднятина!