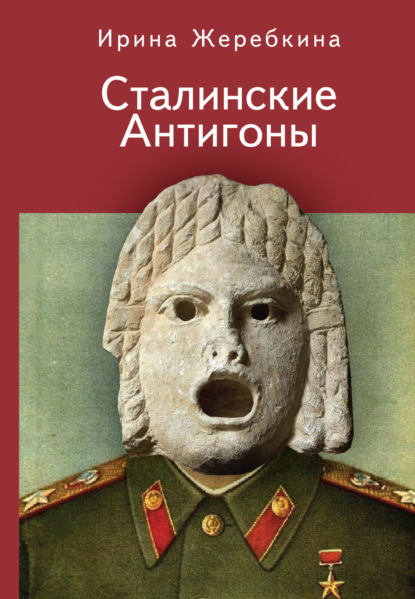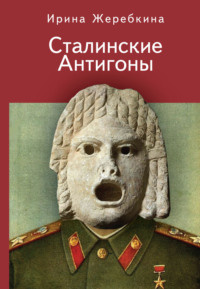Полная версия
Страсть. Женская сексуальность в России в эпоху модернизма
Одновременно в западноевропейской культуре появляется и другая медицинская практика интерпретации истерии – когда мужчина-врач находится не на дистанции, а как бы внутри переживаемой женщиной травмы, в то время как женщина-пациентка сама участвует в акте своей собственной интерпретации. Сюда относится изобретение лечения женской истерии с помощью нарратива, а не гипноза в психоанализе, когда «разговорный метод» был предложен самой пациенткой – знаменитой Анной О., которую старший коллега Фрейда Брейер лечил с 1880 по 1882 год[9]. Вместо эффектных психиатрических спектаклей, которые устраивал в своей клинике Шарко, Анна О. сама переводит свои невротические симптомы в нарративную форму, вовлекая в процедуру переживания и врача в такой степени, что Брейер, обнаружив себя в ситуации двусмысленной близости с пациенткой, вынужден был прервать лечение. Основной особенностью репрезентации женского в этой новой гендерной гносеологической стратегии является то, что женщина как бы обретает свой собственный язык и говорит наконец-то сама и от своего собственного имени, а другой/мужчина (врач/учитель/писатель/судья) лишь интерпретирует/рационализирует её речь. Таким образом, общим для обеих стратегий интерпретации женской субъективности является то, что истерия – как симптом эксцессивной и несимволизируемой, в отличие от мужской, женской сексуальности – постулируется в этот период в качестве основной характеристики женской субъективности, а её лучшими интерпретаторами выступают мужчины, задача которых в конечном итоге состоит в том, чтобы концептуализировать, то есть «нормализовать» сопротивляющийся интерпретации феномен женского, исходя из «мужской» субъект-позиции. Основным отличием двух вышеназванных стратегий является отношение к языку: если в первом случае предполагается, что женщина лишена языка, то во втором случае она как бы обретает язык, который в то же время нуждается в рационализирующей интерпретации мужским субъектом.
Базисная гносеологическая стратегия русской культурной традиции в изучении и интерпретации женской истерической субъективности на рубеже веков на первый взгляд во многом совпадает с западной. В ней также можно выделить два подхода к познанию женского. Первый – на основе отстраненного дистанционного наблюдения, в котором ведущими экспертами, на дистанции наблюдающими женскую субъективность, выступают «великие русские писатели» – Достоевский, Толстой и другие, которым принадлежит, начиная с Бедной Лизы Карамзина и пушкинского Евгения Онегина, «честь» открытия и исследования «загадочной русской женской души» (вспомним в этом контексте известный штамп Пушкина «Татьяна, русская душою»). Второй – на основе так называемого «включенного наблюдения».
Парадоксально, но данную модель познания женского в России представляет, например, знаменитый Григорий Распутин, который известен не только тем, что роковым образом вмешивался в политику предреволюционной России, но и тем, что был известным целителем и массовым образом излечивал истерических женщин (в том числе больных падучей, кликуш и т. п.). Распутин, по свидетельствам его дочери, в 1910-е годы почти ежедневно собирал в своем доме на Гороховой, 64 многочисленный женский кружок («В столовой разместилось многочисленное исключительно дамское общество. Казалось, были представлены все сословия. Собольи боа аристократок соседствовали со скромными суконными платьями мещанок. Стол сервирован просто. Пили чай. После чаепития обыкновенно пели что-нибудь божественное. Посуду со стола прибирали по очереди. Каждая – в свой день. И мыли тоже по очереди. Я и сейчас вижу холеные руки аристократок и сияние бриллиантов в грязной воде…»[10]), где терапия осуществлялась самими женщинами через проговаривание и обсуждение ими собственных травматических историй.[11] Обычными темами этих обсуждений были семья, дети, адюльтер, несчастная любовь и т. п. («Большинство из них – женщины, – пишет Матрена Распутина. – Причем женщины, пребывающие в том состоянии, когда душа ищет опоры, а надорванное сердце – утешения».[12]) Распутин при этом выполнял функцию того, кто включался в процедуру коллективного женского признания буквальным телесным способом, т. е. посредством осуществления сексуального акта или его имитации, как бы устраняя тем самым границу между мужским и женским началом и вбирая в свое тело женские страдания и болезни, избавляя от них женщин. Особенностью первой гносеологической стратегии, во многом сходной с психоаналитической западной, является то, что женщина в ней лишена собственного языка: за неё говорят другие/мужчины («великие русские писатели»), ведь все знаменитые истерички Достоевского – Настасья Филипповна, Аглая, Грушенька или Катерина Ивановна на самом деле говорят языком, вложенным в их уста самим писателем. Особенностью второй гносеологической стратегии в интерпретации женского – опять же по аналогии со стратегией западного психоанализа – является то, что женщины в кружке Распутина общаются друг другом на собственном языке и на близкие им темы, дают друг другу советы и принимают совместно обговоренные решения в целях терапии, а Распутин лишь изредка вставляет реплики.
В то же время при определенном сходстве обеих стратегий в дознании женского – русской и западноевропейской – между ними имеется важное различие, касающееся практик насилия, применяемых к женскому субъекту в целях его изучения: если в западноевропейских практиках познания/лечения женской истерии – при всей их артикулированной Фуко дисциплинарной жестокости – насилие ориентировано на технологии символического надзора, образцовым исполнителем которого является фигура молчащего аналитика (Фрейда или Лакана, например), то для российских практик познания и лечения женской истерический субъективности в качестве наиболее эффективного средства предлагается насилие, осуществляемое в форме прямого насилия – вплоть до применения такой брутальной процедуры как изнасилование. Например, один из самых известных случаев лечения женской истерии Распутиным – история излечения его преданной соратницы, бывшей молодой послушницы Акилины которую Распутин вылечил от безумия. Основным методом этого излечения было изнасилование её Распутиным, в результате которого Акилина из неспособного к членораздельной речи животного, сидящего в келье монастыря в груде собственных экскрементов, превращается, по свидетельству дочери Распутина Матрены, в наделенную «ясным сознанием, чистой душой и способностью к самопожертвованию» преданную помощницу Распутина – то есть обретает все «истинно женские» для традиционных культур характеристики («Вся её фигура как-то преображалась, – вспоминает дочь Распутина Матрена. – Из зверя она на глазах превращалась в женщину. Несчастная даже пыталась стыдливо прикрываться, натягивая лохмотья то на грудь, то на колени. Постепенно девушка совсем успокоилась. Казалось, невидимая рука сняла с неё груз ненависти и греха».[13]) Известно, что это не единственный случай подобного «исцеления» Распутиным женщины, причем в дискурсе русской культуры на рубеже ХIX–XX веков он не квалифицировался как акт насилия – ведь и убийство самого Распутина родственником царской семьи князем Феликсом Юсуповым до сих пор оценивается в этом дискурсе не в терминах уголовного преступления, а в гуманистических терминах спасения – освобождения несчастной России от злого рока распутинских преступлений. Парадоксальным образом убийцы Распутина приобретают по отношению к своей жертве те же коннотации спасителей, что и сам Распутин по отношению к своим пациенткам-женщинам…
Итак, женская истерия играла в русской культуре на рубеже веков двойственную роль: с одной стороны, она репрезентировала те специфические характеристики женской субъективности, которые трангрессивно выходили за пределы конституирования женского как социально признаваемого и поощряемого; с другой стороны, она понимается в качестве такой особой формы субъективности, познание которой является исключительно значимым для раскрытия аутентичного опыта субъективности в этот период в России.
Любовь или игра, или что такое «страсть»
Парадоксальным образом позиция Распутина в русских культурных стратегиях концептуализации женского фактически совпадает с идеологией Достоевского, культивирующей «уникальность» русской женской субъективности, которая, по мнению Достоевского, способна породить такую онтологию избытка (т. е. «страсти»), которая не поддается объяснению в терминах западной рациональной культурной логики, базирующейся на буржуазном меркантилизме.
Во-первых, в дискурсе «большой» русской литературы понятие страсти связывается не с функцией удовольствия, которую Фрейд анализирует в связи с механизмом либидинального удовлетворения, а со структурой трансгрессивного, объектно не ориентированного желания (по ту сторону принципа удовольствия), являющегося ведущей темой лакановского психоанализа в интерпретации Славоя Жижека. «Страсть – прежде всего тайна, – в унисон теоретикам психоанализа пишет лидер русского символизма Валерий Брюсов – Любовь – чувство в ряду других чувств, возвышенных и низких… Страсть не знает своего родословия, у неё нет подобных… Страсть в самой своей сущности загадка; корни её за миром людей, вне земного, нашего. Когда страсть владеет нами, мы близко от тех вечных граней, которыми обойдена наша “голубая тюрьма”, наша сферическая, плывущая во времени, вселенная. Страсть – та точка, где земной мир прикасается к иным бытиям, всегда закрытая, но дверь в них».[14] Характерно, что Достоевский в письме к Аполлинарии Сусловой яростно осуждает западный меркантильный, мещанский рационализм, не знающий иной страсти, кроме страсти наживы, на примере дурного обслуживания в гостинице в Висбадене и противопоставляет ему свою игру на рулетке как воплощение русской не поддающейся символизации страсти.[15] Не случайно Брюсов связывал страсть как аффект с ситуацией страдания: поскольку «страсть» никогда не может быть удовлетворена, то страдание является наиболее выразительной и необходимой характеристикой страсти.
Во-вторых, Достоевский посредством понятия страсти выделяет такую сущностную особенность «русской женской души», как способность к трансгрессивному действию. В противовес эмансипаторным моделям женской субъективности, популяризировавшимся в западном либеральном дискурсе второй половины XIX века в терминах прав человека, в литературном дискурсе Достоевского эмансипация женской субъективности связана не с либеральной идеологией борьбы женщин за свои права, но с её способностью осуществлять трансгрессивное действие нарушения патриархатных норм, репрезентированное, в частности, в практиках русского женского революционного терроризма. Все героини-истерички Достоевского трансгрессивны: Грушенька в Братьях Карамазовых, соблазняя своим иррациональным поведением всех троих братьев, разрушает их жизни и провоцирует отцеубийство Федора Карамазова; Настасья Филипповна в Идиоте организует неразрешимый конфликт героев, завершающийся её убийством, Сонечка Мармеладова в Преступлении и наказании становится проституткой, будучи одержима высокой миссией спасения не просто своей семьи от нищеты, но и всего мира от несправедливости. Можно предположить, что в русской литературе во многом благодаря Достоевскому задается также отличающаяся от западной конфигурация женской вины: если, например, у Флобера в романе Госпожа Бовари Эмма Бовари губит себя как основную причину «страсти», то русская Катерина Измайлова в Леди Макбет Мценского уезда Николая Лескова убивает не себя, но своего мужа – как внешнее препятствие для реализации своей неудержимой любовной страсти. Другими словами, критерий вины не включается в русском литературном дискурсе в измерение женской страсти – например, не виновны ни обвиняемая в убийстве купца Смелькова Катюша Маслова в романе Воскресение Толстого, ни Матрена в совершенном с её ведома убийстве Пети Дарьяльского в Серебряном голубе Андрея Белого и т. п.
Одновременно с признанием измерения «страсти» в структуре женской субъективности в русском литературном дискурсе эпохи модернизма осуществляется демонизация женской истерии и фигуры женщины-истерички, характерным примером которой является возникший в русской предреволюционной культуре миф о последней русской императрице Александре Федоровне: истеричке, сосредоточенной на семье, муже и больном ребенке – наследнике престола царевиче Алексее, русским массовым сознанием того времени приписываются не только традиционные признаки истерии (нервные болезни императрицы, ложная беременность, постоянная смена психического ритма от отчаяния до высокомерия и наоборот, избыточная набожность и т. п.), но и трансгрессивное действие – грех прелюбодеяния императрицы с мужиком Распутиным, вменяемый не только ей, но одновременно и её несовершеннолетним княжнам-дочерям! В этом контексте можно также уточнить, что отличие позиций Достоевского и Фрейда по вопросу о понимании женской истерии состоит в том, что если у Фрейда присутствует установка на излечение женской истерии (маркирующая её в негативных терминах – терминах болезни), то Достоевский понимает её как норму реализации не только «уникальной» русской женской субъективности, но и самой России, недоступную – вследствие запрета на трансгрессивное действие – рациональному буржуазному Западу.
В то же время позиция Достоевского в репрезентации русской женской субъективности в терминах «страсти» амбивалентна: с одной стороны, он повлиял на формирование канона «уникальной»/истерической женской субъективности в России, конституирующегося с помощью аффекта не направленной объектно «страсти» как jouissance féminine, с другой стороны, – строго регламентировал допустимые формы её реализации, произведя при этом сегрегацию концепта страсти по гендерному критерию, когда мужская страсть оказывается более социально признаваемой по сравнению с женской. Мужская страсть у Достоевского – это страсть к игре в рулетку, свойственная и самому Достоевскому, и его литературному альтер-эго – Алексею Ивановичу из романа Игрок. Для такой страсти Достоевский находит вполне рациональные и даже прагматичные объяснения, фактически нормализуя её: ведь в жизни Достоевского действительно бывали случаи, когда выигранными в рулетку деньгами он поддерживал брата, племянника и больную жену Марью Дмитриевну.
Амбивалентность структуры женской субъективности у Достоевского представлена в его интерпретации образа Аполлинарии Сусловой – женщины, которая была для него актуальным воплощением женской русской «страсти». С одной стороны, Достоевский приписывает Аполлинарии избыточное, не знающее границ jouissance féminine (этим он объясняет самому себе постоянно растущие материальные расходы и унизительные просьбы о деньгах у брата Михаила, у Герцена, у Полонского и других во время его заграничного путешествия с Аполлинарией. «… Итак, со вчерашнего дня я не обедаю и питаюсь только чаем. Да и чай подают прескверный, без машины, платье и сапоги не чистят, на мой зов нейдут и все слуги обходятся со мной с невыразимым, самым немецким презрением. И потому если Герцен не пришлет, то я жду больших неприятностей, а именно: могут захватить мои вещи и меня выгнать и еще того хуже».[16]). С другой стороны, внезапно возникшую в Париже любовь молодой и красивой Аполлинарии к испанскому студенту Сальвадору Достоевский редуцирует исключительно к опыту страдания, вписывая понятие женского в так называемую онтологию нехватки. Можно сказать, что Достоевский испытывает любовь к Аполлинарии только в той степени, в какой он представляет её субъективность конституируемой измерением нехватки.
В результате Достоевский разрабатывает близкое к психоанализу представление о женской страсти как, с одной стороны, реализации женского наслаждения, в принципе недоступного мужчине, а, с другой стороны, как определяемой конститутивной нехваткой и влечением к смерти, лишающем его героинь возможности существования в рамках jouissance féminine. Например, Настасья Филипповна в романе Достоевского Идиот представлена, с одной стороны, как личность, способная совершать экстремальные трансгрессивные действия, на которые в принципе не способны мужчины, и поэтому обладает особым наслаждением, им недоступным и непонятным, позже в феминистской теории названного «женским»; однако, с другой стороны, она может существовать в романе только как фигура мужского фантазма, а не как реальная женщина, на что указывает характер её убийства Рогожиным, словно стремящимся таким способом воспрепятствовать её jouissance féminine. Показательно, что, тело Настасьи Филипповны после её убийства описывается Достоевским как лишенное ясных очертаний и безликое, что ещё более придает женской фигуре форму их общего, одного на двоих героев (Рогожина и князя Мышкина) мужского фантазма: «– Рогожин! Где Настасья Филипповна? – прошептал вдруг князь и встал, дрожа всеми членами. Поднялся и Рогожин. – Там, – шепнул он, кивнув головой на занавеску…Князь шагнул еще ближе, шаг, другой, и остановился. Он стоял и всматривался минуту или две; оба, во все время, у кровати ничего не выговорили; у князя билось сердце так, что, казалось, слышно было в комнате, при мертвом молчании комнаты. Но он уже пригляделся, так что мог различать свою постель; на ней кто-то спал, совершенно неподвижным сном; не слышно было ни малейшего шелеста, ни малейшего дыхания. Спавший был закрыт с головой белою простыней, но члены как-то неясно обозначились; видно только было, по возвышению, что лежит протянувшись человек».[17]
Что может противопоставить мужской субъект женской страсти и женскому наслаждению, механизм которого он стремится изучить и описать? В случае самого Достоевкого – это страсть как игра (ассоциируемая с мужским началом), оцениваемая им по параметрам трансгрессии как более интенсивная, чем страсть как любовь (ассоциируемая с женским).
Об этом свидетельствует известный эпизод из жизни самого Достоевского в истории его любовных отношений с Аполлинарией, когда он, вырвавшись из Петербурга, от долгов и обязательств перед больной женой, нетерпеливо спешит в Париж на встречу с ожидающей его молодой любовницей, однако вдруг неожиданно сходит с поезда в Висбадене, где на целых четыре дня задерживается – словно в тумане – в игорном доме. Потом, когда он добрался наконец до Парижа, Аполллинария и сообщила ему новость о том, что полюбила другого («ты приехал немножко поздно»). Только с этого момента начались подлинные любовные муки Достоевского, легшие в основу страданий его позднейших романных героев-мужчин. Но, тем не менее, и в своей любовной трагедии во время совместного путешествия по Италии с Аполлинарией, когда он был лишен права дотронуться хотя бы до её туфель, Достоевский продолжает играть. Проигрывается в прах, заставляет Аполлинарию жить впроголодь, она даже закладывает свои ценности (брошь и часы) – и он опять играет и проигрывает: «Если ты в Париж доехала и каким-нибудь образом можешь добыть что-нибудь от своих друзей и знакомых, то пришли мне не 150 гульденов, а сколько хочешь. Если б 150 гульденов, то я бы разделался с этими свиньями и переехал в другой отель в ожидании денег…!».[18] И даже Аполлинария, не прощающая, по его словам, никому никаких слабостей, прощает ему эту страсть…
Дора: русский вариант
Можно заметить, что подход Достоевского к проблеме женской субъективности во многом совпадает и с подходом Лакана, который, с одной стороны, определил женское наслаждение (jouissance féminine) как нефаллическое (более того, задача обоснования существования женского наслаждения как нефаллического, т. е. не обусловленного трансцендентальным означающим Фаллоса, сыграло впоследствии важную эмансипаторную роль в философии феминизма[19]), а, с другой стороны, включил его в фаллогоцентристскую модель интерпретации желания. Не случайно одновременно с возникновением психоанализа, редуцирующего женскую субъективность к структуре истерической симптоматики, в западноевропейской культуре возникает также и решительное женское сопротивление репрессивным психоаналитическим техникам и процедурам – в частности, в лице одной из наиболее известных «восставших» фрейдовских пациенток Доры.
Русская история также знает своих героинь, сопротивлявшихся репрессивным приемам рационального дознания женской субъективности. Именно такой восставшей героиней можно считать Аполлинарию Суслову, которая, в отличие от фрейдовской Доры, отвергла не просто нанятого для её лечения состоятельным отцом врача (Фрейда), с которым её не связывали никакие близкие, любовные отношения, а, бросила, будучи социально незащищенной и неопытной, своего знаменитого любовника Достоевского, мечтающего о браке с ней, и – в отличие от обреченной и гибнущей романной героини Настасьи Филипповны – не умерла от отчаяния и прожила достаточно долгую жизнь (78 лет), не только не жалея о разрыве с «великим русским писателем Ф. М. Достоевским», но, что до сих пор кажется возмутительным для почитателей его творчества, вообще не считая Достоевского «великим писателем», а его литературу, посвященную женщинам, заслуживающей внимания. И если Дора, по свидетельству Фрейда, вышла в итоге замуж за любимого молодого человека (т. е. «излечилась», в терминах психоанализа), то Суслова – в соответствии с феминистской стратегией симптомальной борьбы[20] – бросила впоследствии еще одного знатока проблем семьи и женской сексуальности в России, своего мужа, русского философа В. В. Розанова, который претендовал даже на более глубокое понимание природы женской субъективности, чем его кумир Достоевский. Более того, хотя ни великий русский писатель Достоевский, ни выдающийся русский философ Розанов так и не признали литературные способности и права Аполлинарии на её собственный язык, сама Аполлинария Суслова – в отличие от молчащей и оперирующей лишь телесным языком симптома фрейдовской Доры – отвоевала это право, стала писательницей (написала несколько повестей) и оставила потомкам свой скандально знаменитый Дневник.
В результате фигуру Аполлинарии Сусловой в русской культуре можно считать не менее значимой, чем фигуру Доры в западной: за драматизмом отношений несчастных любовников открывается механизм того, как женская субъективность одновременно вписывается и не вписывается в культурные схемы её патриархатной интерпретации, которые предопределил для неё великий изобретатель канона женского в России Федор Михайлович Достоевский.
Не случайно сестры Аполлинария и Надежда Сусловы вошли в невидимую историю женского освободительного движения и России: Надежда – как первая женщина-врач в России, исключенная за левизну из Военно-хирургической академии, но получившая медицинскую степень в Швейцарии,[21] Аполлинария – как участница радикальных революционных кружков, находящаяся под полицейским надзором нигилистка «в синих очках и с постриженными волосами»,[22] отмеченная в библиографическом словаре Деятели революционного движения в России (1928).[23] Примечательно, что главным политическим интересом обеих сестер в революционном движении был именно «женский вопрос». «Только одна идея из идей века действительно захватывает её целиком, становится её собственной идеей, определяя собою в известной степени все своеобразие истории её жизни, – это вопрос об эмансипации женщины»,[24] – пишет исследователь творчества Достоевского А. С. Долинин, опубликовавший Дневник Сусловой. Примечательно, что первая повесть двадцатилетней Аполлинарии Сусловой Покуда, опубликованная в 1861 году в журнале братьев Достоевских Время, посвящена эмансипированной молодой русской женщине Зинаиде и её трудной судьбе. Соответственно и Достоевский, по словам его дочери, «может быть назван первым русским феминистом», так как огромное внимание в своем Дневнике уделяет именно женскому вопросу: «Я многого жду от русской женщины»,[25] – писал он; он надеялся, по словам дочери, что русская женщина «впоследствии, став когда-нибудь совершенно свободной, будет играть большую роль в своей стране».[26]
Чего же на самом деле так ждал от «русской женщины», которую он представлял в качестве инфернальных героинь своих романов, жизнь которых проходила на грани самоубийства, Федор Михайлович Достоевский? И в чем же состояла загадка этой «новой» женщины Аполлинарии Сусловой, главной и трагической любви в его жизни, а позже сыгравшей роковую роль в жизни Василия Розанова, одновременно являвшейся выразительницей идей феминизма в России и в то же время ставшей прототипом большинства «истерических», «инфернальных» женских образов в творчестве обоих знаменитых мужчин?
«У вас есть все то, чему нельзя научиться»: парадоксы jouissance féminine в русской культуре XIX века (Аполлинария Суслова и Мария Башкирцева)
В качестве главной черты Аполлинарии Сусловой и Марии Башкирцевой как фигур женской «страсти» в русской культуре XIX века знавшие их отмечали потрясающую силу самодостаточности, которой они выделялись среди своего окружения и которая так травмировала влюбленных в Суслову Достоевского и Розанова, а также многочисленных поклонников красавицы-аристократки Марии Башкирцевой. У Сусловой её женская «страсть» как реализация самодостаточности проявляется в нетипичном для русской культуры XIX века феминизме и интенсивных («роковых») любовных стратегиях на протяжении всей жизни, у Башкирцевой – в поразительном для богатой аристократки[27] стремлении к реализации в художественном творчестве.