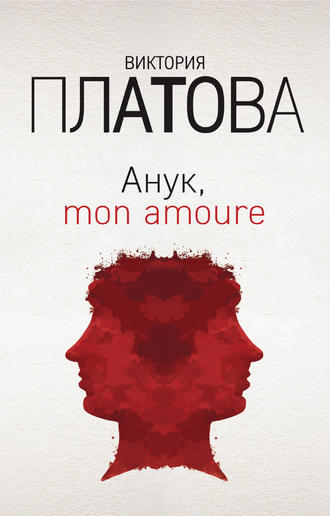
Полная версия
Анук, mon amour…

Виктория Платова
Анук, mon amoure
© Платова В., 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
* * *Все события, происходящие в романе, вымышлены, любое сходство с реально существующими людьми – случайно.
АвторКнига первая. Разлученные
Птица поет в моей головеИ мне повторяет, что я люблю,И мне повторяет, что я любим,Птица с мотивом нудным.Я убью ее завтра утром.Жак ПреверПролог
…Диллинджер мертв.
Ничего особенного в этом нет, мертв и мертв, голубоглазый.
Замызганная кровью мостовая у кинотеатра «Байограф» – прямо под афишей «Манхэттенской трагедии» – романтичнее финала для гангстера и придумать невозможно. С таким финалом, того и гляди, сам попадешь на афишу: редко кому удается вытянуть джокер напоследок – целую лужу крови, сходную очертаниями со штатом Айдахо. Айдахо, да… Потом на смену Айдахо пришел Вайоминг – и все из-за желающих смочить носовые платки в сувенирной крови Диллинджера. Желающих было – не пропихнуться, целый вагон чикагских дурачков с заусенцами на нетерпеливых пальцах: еще бы, знаменитый грабитель банков, враг общества number one. Последние пятеро, едва поспевшие к луже, – последние пятеро общими усилиями трансформировали Айдахо-Вайоминг в Индиану. Индиана, да… Индиана, родной Диллинджеров штатец, привет тебе!.. Привет тебе от жен и подружек чикагских дурачков – кровь Диллинджера оказалась такой же густой, как кровь Христа, – разве они могли отказать себе в причащении?.. Конечно, это была далеко не единственная лужа крови в истории человечества, и гангстер был не единственным, но до чего же лихо он заламывал шляпу!
Голубоглазый…
Именно такие – голубоглазые, с рассыпающимися, как песочное тесто, мягкими волосами и целеустремленными подбородками, которыми только сваи заколачивать, – именно такие всегда нравились Анук. Им она тоже нравилась. Да что там нравилась – они с ума по ней сходили, по моей Анук. По девочке, от которой можно было ожидать чего угодно. Чего угодно – за исключением нижнего белья. Ну не носила она нижнее белье, что уж тут поделаешь… И кольца были ей противопоказаны, за исключением одного; и книги были ей противопоказаны, за исключением одной. И духи ей были противопоказаны, за исключением одних. Которые я так и не придумал…
Жизнь ей тоже была противопоказана, что уж тут поделаешь… Не «вообще жизнь», разумеется, а та, которой живет большинство. Я тоже живу жизнью большинства – Анук так и не смогла изменить меня. Я – единственный, кого она не смогла изменить.
Я, да еще – Диллинджер.
Джон Герберт Диллинджер, пристреленный как собака у кинотеатра «Байограф» за несколько десятилетий до рождения Анук. Если бы звезды встали иначе и Диллинджер и Анук встретились бы…
Если бы они встретились, о Бонни и Клайде никто бы и не вспомнил.
Не то чтобы Анук знала толк в банковской системе безопасности и могла без всяких рефлексий выпустить пулю в лоб зазевавшемуся стражу закона – нет. Вряд ли она вообще когда-нибудь держала в руках пистолет, а если и держала – то ей и в голову бы не пришло снять его с предохранителя. Просто Анук всегда была Анук – рассеянной девочкой, под ноги которой хотелось бросить весь мир. Не факт, что она заметила бы это. Скорее всего – не заметила бы. Но отдать ей лучшее, на что ты способен, даже если это «лучшее» – преступление… У Диллинджера получилось бы наверняка. У него получилось бы – посвятить Анук какое-нибудь хорошо обставленное, увешанное гирляндами и пахнущее рождественской елкой убийство. Не факт, что она заметила бы это. Скорее всего – не заметила бы. Но разве в этом суть, если дело касается Анук? Суть состоит совсем в другом, и она так и норовит крючьями вцепиться тебе в горло: либо ты выбираешь Анук, либо ты выбираешь все остальное. Все остальное – это пробежки по утрам, пиво к вечеру, бильярд, боулинг, биатлон, Бали и Биарриц в качестве презента от фирмы за выслугу лет; светские вечеринки, на которых тебя по давно заведенной традиции непременно обольют соусом карри. И с которых ты – по давно заведенной традиции – непременно уползешь с силиконовым бабцом под мышкой. Весь остаток ночи бабец будет преувеличенно громко стонать под тобой, стараясь попасть в рваный ритм «Розовой пантеры» Манчини и в твой собственный рваный ритм. Как правило, это получается: прагматичный северный бабец (по давно заведенной традиции он по-настоящему заинтересован в твоей скромной персоне) может сымитировать все, что угодно, – от темперамента chica latina[1] до множественного оргазма. Но лучше всего у бабца получается утренний кофе в постель и невинный вопрос, заданный еще более невинным голосом: «Что тебе приготовить на ужин, сла-адик?» На то, чтобы выкурить бабца из квартиры, уходит такая туча времени, что побриться ты уже не успеваешь.
Но успеваешь подумать об Анук.
Я всегда думаю об Анук, даже когда не думаю о ней.
Что было бы, если бы мы не встретились? И на моем месте оказался бы Диллинджер, завсегдатай банков, тюрем и первых рядов в кинотеатрах. Наверняка они бы там и познакомились – в киношке, – наверняка. Под сенью ассирийских глаз Рудольфо Валентино, под сенью египетских бровей Авы Гарднер, под сенью техасского рта Кларка Гейбла. И Диллинджер сразу бы втрескался в Анук, в ее прерывистое дыхание. И преподнес бы ей на блюдечке лучшее из своих сорока пяти вооруженных ограблений.
Она того стоит, Анук, моя девочка.
Что было бы, если бы мы не встретились?
Наверняка вся моя жизнь сложилась бы по-другому – наверняка. И я не стал бы участником странных и загадочных событий, – без Анук они просто не могли бы произойти; так же, как весна никогда не сменила бы зиму, так же, как день никогда не сменил бы ночь, – в отсутствие Анук.
Что было бы, если бы мы не встретились?..
Но мы встретились. В животе нашей с ней матери, которая и матерью-то побыть не успела: так, шестнадцатилетняя девчонка, умершая при родах. Теперь-то я думаю, что именно Анук сожрала ее изнутри: Анук всегда была невыносима мысль, что она кому-то обязана. Даже своим появлением на свет.
Вряд ли хоть кто-то знал о нашем отце; вряд ли хоть кто-то вообще был заинтересован в нашем рождении. Поначалу мы с Анук были постыдной тайной, потом – постыдной правдой, а потом нас все-таки выудили из материнского чрева: для этого пришлось делать кесарево. Так мы и появились – за широко распахнутыми, взломанными нехитрым медицинским инструментом воротами из плоти. Теперь-то я думаю, что именно Анук мы обязаны тем, что нас не утопили, как щенков в ведерке, – ведь затылки наши оказались сросшимися. Анук увидели первой – младенца с фиалковыми глазами. «Фиалковыми» – не самое точное определение. Такой цвет почти не встречается в природе, разве что – в самом сердце грозового неба, в самом сердце неспокойного моря, в самом сердце старинных фресок. Анук и сама была похожа на фреску, и так же, как от фрески, от нее веяло вечностью и тайной. А в местности, где мы родились, не очень-то любят связываться с тайнами и уж тем более – с вечностью. Себе дороже.
Теперь-то я думаю, что, если бы не Анук, не ее фиалковые глаза, мы никогда бы не узнали, что такое Дом. Но отказаться от ее глаз было невозможно, ради них пришлось терпеть и меня, ничем не примечательного сиамского братца с вытянутым мягким черепом и пегим подшерстком.
Довесок к тайне и вечности.
Наши затылки разъединили на пятый день пребывания в Доме. Самым обыкновенным ножом – так гласит семейное предание. Впрочем, нож был не совсем обыкновенным. Он принадлежал деду, а до этого – деду деда, а до этого… До этого он всплывал в Дамаске и Константинополе, им потрошили неверных, чистили рыбу и резали хлеб, – и сталь его никогда не тупилась, и рисунок на рукояти не тускнел от времени: сверчки и раковины, сверчки и раковины. Им ничего не стоило освободить глаза Анук от моего подшерстка. Кровь не могли остановить в течение получаса – так гласит семейное предание. После того как сверчки и раковины прошлись по нашим затылкам, я заплакал. А Анук улыбнулась сморщенным младенческим ртом. Впервые.
В память о первой улыбке Анук у меня остался небольшой шрам. Точно такой же шрам пригрелся змеей под волосами Анук. Эти шрамы, зеркально повторяющие друг друга, связывают нас до сих пор. Они – единственное, что нас связывает. Анук никогда не любила обременять себя связями, почему я, сиамский братец, должен быть исключением? Она так и сказала мне однажды, моя Анук: «То, что мы перекантовались девять месяцев в чьем-то животе, еще не повод для близких отношений, Гай». Так и сказала. И сунула в рот большой палец. По детской привычке, которой столько же лет, сколько нашим именам.
Гай и Анук.
Анук и Гай.
Мы получили их от деда, в тот самый день, когда сверчки и раковины отделили нас друг от друга. Навсегда. Теперь-то я думаю, что он не особенно ломал голову над тем, как нас назвать, хотя… Анук – единственное сочетание букв, которое идет фиалковым глазам. От деда же мы унаследовали фамилию – Кута́рба. Анук – для того, чтобы сразу же забыть о ней, а я – для того, чтобы постоянно о ней помнить. Гай Кутарба или Ги Кутарба́, как называла меня моя первая женщина, которой я обязан карьерой и раскрученным до тошноты брендом. Парфюмерная линия «Guy Cutarba», Анук умерла бы со смеху. Моя первая женщина тоже вызывала у нее ироническую улыбку, и уже одно это можно было считать достижением: обычно Анук никак не реагировала на женщин. Она отказывала им в праве на существование. Тем более – сорокалетним, тем более – преуспевающим, а Мари-Кристин была именно такой: сорокалетней и преуспевающей, ни единого кольца на пальцах и девственные мочки ушей, не замутненные жемчугом. Модный дом «Sauvat & Moustaki», где Мари-Кристин принадлежала первая из двух фамилий. «Шлюха & Педик», именно так звучал вольный перевод с французского в исполнении Анук. Впрочем, переводов было несколько, они постоянно варьировались и пребывали в рабской зависимости от ее настроения: «Грымза & Араб», «Надеть & Умереть», «Лучше голой», «Радость бедуина» и даже «Я охреневаю, сэконд-хэнд».
«Сэконд-хэнд» относилось к Мари-Кристин.
Она никогда не выбирала выражений, моя девочка, что уж тут поделаешь. Но это было единственным, чего она не выбирала. В остальном выбор был за ней. Она могла получить что угодно, стоило ей только ткнуть фиалковым взглядом в это самое «что угодно»: вид на жительство в Северной Корее, гравюры Дюрера, лунный грунт, визитку святого Петра, идущую в комплекте с ключами от царствия небесного. И говорящего скворца. И ручную игуану. А о такой мелочи, как мужчины, и говорить не приходится. Но фишка состояла в том, что и получать Анук не любила, – она предпочитала красть. Просто так, из любви к чистому искусству. И было совсем неважно, что перед ней – вещь или человек, – Анук возбуждал сам факт кражи. И чем бессмысленней была кража, тем упоительнее она казалась.
Я хорошо помню ее первый, по-настоящему удачный опыт: нам по шесть лет и мы только что похоронили стрекозу; дед спит в дальней комнате Дома, по виноградным листьям ползет солнечный луч, и бороться с искушением накрыть его ладонью – невозможно.
– Не трогай. – Глаза Анук зажмурены (в память о стрекозе), но я точно знаю, что она наблюдает за мной.
– Это почему? – Мне нравится дразнить Анук, от этого по спине пробегает холодок.
– Потому. – Анук наконец-то открывает глаза и выплевывает монету, которую до сих пор держала за щекой. – Он мой.
– Еще чего, – холодок натыкается на шрам на затылке и останавливается: похоже, он решил здесь заночевать.
– Солнце тоже мое, – она по-прежнему не смотрит на меня, сосредоточившись на монете.
Монета и вправду замечательная: ослепительно-желтая, с дыркой посередине и корабликом сбоку, Анук стянула ее у деда. Я смертельно завидую Анук, я бы тоже засунул за щеку чудный отчеканенный кораблик, но кораблики всегда бросают якорь в гавани по имени Анук.
– Солнце тоже мое, – упрямо повторяет Анук.
– Дура, солнце – для всех. Дура.
– А вот и нет, – теперь Анук пытается разглядеть меня сквозь дырку в монете. – Вот и нет. Я забираю его себе. И завтра ты его не увидишь.
– Ха-ха. Дура дурацкая.
В следующую секунду я вцепляюсь Анук в волосы, и мы начинаем кататься по земле, давя недозревшие ягоды винограда и невыспавшихся сверчков (точь-в-точь таких же, какие сидят на рукояти дедова ножа).
Монета безнадежно утеряна.
Так ей и надо, – Анук, моей девочке.
Побороть Анук ничего не стоит, тем более что она больше не сопротивляется. На правах победителя я прижимаю ее к земле, устраиваюсь на ее легких костях и… Упираюсь подбородком ей в губы. От губ Анук кисловато тянет железом, мертвой стрекозой и днем, который мы провели на винограднике. А прямо надо мной качаются глаза Анук. И только теперь становится ясно, почему Анук не сопротивлялась. Только теперь становится ясно, что ее глаза – повсюду, что ее глаза – ловушка, самый настоящий капкан, и я попался, попался. Помощи ждать неоткуда, остается лишь тихонько подвывать, баюкая ушибленную Анук душу.
– Ха-ха, – победно произносит Анук, высвобождая перепачканные землей губы из-под моего перепачканного землей подбородка. – Завтра ты его не увидишь, солнце. Спорим на мою монету, что не увидишь?
Я молчу, тем более что монета безнадежно утеряна.
Судя по всему, Анук не очень-то грустит по ней, остаток вечера она проводит с жестяной коробкой из-под чая, которую совсем недавно нашла на чердаке; у Анук удивительная способность доставать из ниоткуда самые удивительные вещи на свете. По бокам коробки порхают не виданные нами птицы (Анук утверждает, что это – лирохвосты, но разве можно верить Анук?); а облупленную крышку украшает самая настоящая карта с розой ветров в левом верхнем углу. На карте есть все, что нравится Анук: горы, пустыня и тонкие нити рек. Для океана места уже не хватило, и это по-настоящему огорчает Анук. Но не настолько, чтобы забыть о споре на винограднике.
– Помни, что я тебе сказала, – перед сном шепчет мне она. И сует в рот большой палец.
Мы засыпаем одновременно (мы всегда засыпаем одновременно, соединив шрамы на затылках) – и просыпаемся в завтра. В котором действительно нет солнца.
Только дождь.
Дождь не прекращается весь остаток лета. Из-за него не вызревают виноград и персики, гниют табачные листья и морщится кожа на руках. Из-за него Дом наполнен отяжелевшими насекомыми, а в саду плодятся змеи. Мы ходим в вечно влажных свитерах, но мне и в голову не приходит возненавидеть Анук: она наконец-то открыла мне тайну коробки с лирохвостами. Там, на самом дне, перекатываются чаинки, их совсем немного, но для тайны и нужно немного, так говорит Анук. Она ставит передо мной миску с горячей водой, жестом фокусника вынимает из жестянки небольшой обломок чайного листа и, что-то шепнув ему, бросает в воду.
– Смотри, что будет, – торжественно объявляет Анук.
Все последующее заставляет мое шестилетнее сердце биться быстрее: чайный лист разбухает в воде и превращается в… старика на лошади. Я явственно вижу узкую бороду старика и такие же узкие глаза, и полы халата, которые скрывают поводья; в лошадиный хвост вплетены ленты и колокольчики, я готов поклясться, что слышу, как они позвякивают. Тихо и нежно.
Весь остаток лета посвящен чудесным картинкам из чая. Звери, названий которых мы не знаем; цветы, которые можно увидеть только во сне; фигурки людей, которых даже во сне не увидишь. В особо удачные дни, когда дождь льет сильнее, а затянутое тучами небо почти касается верхушки старой айвы, в нашей с Анук миске возникают целые сюжеты. Смысл их неясен, и иногда просто пугающ. Настолько пугающ, что мне хочется самым предательским образом бежать от них подальше, бежать что есть сил, уткнуться в колени деда и затихнуть, замереть, заснуть. Но такие сюжеты особенно нравятся Анук. Она может сидеть над ними часами. Губы ее при этом шевелятся, а глаза всегда полуприкрыты, Анук как будто пытается что-то запомнить. Что-то такое, что недоступно ее пониманию сейчас, но обязательно станет понятным потом.
Потом, когда кончится дождь.
Но дождь все идет; он идет так долго, что я начинаю распознавать страшные чайные откровения за несколько секунд до того, как они всплывают в толще воды.
Запах. Все дело в запахе.
Безобидные диковинные звери, роскошные цветы, пагоды и многомачтовые галеоны не пахнут ничем. Другое дело – связанные бечевой и залитые воском запястья рук, обломок стрелы в горле или груда вспоротых животов – то ли рыбьих, то ли человеческих. Вот они-то и шибают в нос. Запахи всегда разные, и некоторые из них я даже могу определить: ваниль, мускат, акация, смородина, перебродившее вино, цветки граната… Эти запахи я знал всегда, этими запахами пронизан Дом, сад и виноградник, но в сочетании с чайными картинками они приобретают совершенно новый смысл. Я делюсь своим открытием с Анук, но в ответ получаю лишь снисходительную улыбку.
Анук догадалась обо всем с самого начала.
Но о том, что заключено в самом последнем чайном листе, еще не догадываемся ни я, ни она. Анук вытягивает его из жестянки в самый последний день августа, и именно теперь, по прошествии стольких лет, именно теперь, когда я оказался втянут в эту странную, леденящую душу историю, – именно теперь я осознаю, что выбор Анук был не случайным. Что рукой ее водило Провидение, а прошлое и будущее свиты в кольцо, которое покоится на безымянном пальце настоящего. И что все было предопределено уже тогда, когда Анук возвратила из чердачного небытия жестянку с чаем. А может, и раньше, когда появилась на свет наша мать… или отец, мы так ничего и не узнали о нем. А может, и раньше, когда у ванили, акации и цветков граната еще не было имен…
Имя же, которое прорастает из последнего чайного листа, тоже ничего не говорит нам: мы и читать-то толком не умеем, а буквы, покачивающиеся в воде, и вовсе нам не знакомы. Впрочем, ни в одном имени не бывает такого количества букв, даже «Анук и Гай», сложенные вместе, выглядят куцевато.
«ARSMORIENDI»
Они и сейчас стоят передо мной, эти буквы, так похожие цветом на глаза Анук. Я не запоминал их специально, нет; я не смог бы их запомнить, если бы и хотел, – они просто вошли в меня и растворились во мне, скрылись во мраке. В тех тайниках души, в которые решаешься заглянуть лишь изредка и, подергав запертую дверь, облегченно вздыхаешь. Но запах, идущий от этой двери, до сих пор преследует меня. Я искал его всю жизнь – слишком уж необычным он был, слишком неотвязным. Я искал его всю жизнь – но так и не приблизился к нему. Один-единственный раз я заговорил о нем с Анук, и ответом мне было молчание. Но молчание не сбило меня с толку. Меня, сиамского братца; теперь я точно знал, что и она – ищет. Она начала искать этот запах раньше меня, вернее, она никогда и не прекращала его искать. В ее обычной манере – ничего не делая для этого.
Анук никогда ничего не делала.
Она ничего не сделала и тогда, когда «ARSMORIENDI» впервые явилось нам; она лишь раздула ноздри, только и всего. Но я чувствовал, что Анук очарована: по-другому, чем я, но очарована. И я уже знал, что последует за этим, – Анук захочет владеть «Arsmoriendi» и запахом, идущим от него, безраздельно.
Так и произошло.
– Уходи, – сказала мне Анук. – Уходи. Это мое.
В другое время я бы не ушел ни за что, в другое время я бы вцепился ей в волосы и подмял под себя, – в другое время, но только не сейчас. Для борьбы за обладание пророчеством мне не хватило бесстрашия.
А Анук – она всегда отличалась бесстрашием, моя девочка.
Как бы то ни было, я ушел. Я позорно бежал с чердака, волоча за собой шлейф запаха, который ищу до сих пор. Я так и не смог определить его компоненты. Был ли он цветочным? Нет. Был ли он фруктовым? Вряд ли. То есть и те и другие ноты в нем, безусловно, присутствовали – не более. Но доминантой выступало нечто иное. Теперь, по прошествии стольких лет, я бы назвал это голосом неведомой мне плоти. Она неведома мне и до сих пор. И все попытки найти ее оказались тщетными.
Но тогда, в самый последний день августа, я не задумывался над этим. Чувство опасности и скрытой угрозы поглотило меня и напрочь лишило сил. Сидя на ступеньках деревянной лестницы и уткнувшись лбом в перила, я вдруг понял: наш общий с Анук мир исчез, распался, растворился в миске с горячей водой без остатка, оказался разрушенным до основания. И отныне нам никогда не придется засыпать одновременно, соединив шрамы на затылках. И отныне нам никогда не придется видеть одинаковые сны. И отныне мы никогда не будем вместе. Рядом – но не вместе.
Так впоследствии и произошло. В тот вечер я заснул, не дождавшись Анук. Впервые. Она все еще оставалась на чердаке, а подняться за ней мне снова не хватило бесстрашия. Коробка с лирохвостами исчезла – во всяком случае, я ее больше не видел, а Анук никогда не напоминала мне о ней.
К тому же Анук наконец-то вернула солнце. Утром следующего дня оно как ни в чем не бывало повисло над виноградником. Оно сделало все, чтобы я поскорее выбросил из головы и лирохвостов, и розу ветров, и чайные знамения.
И я выбросил.
Это произошло не сразу – ведь весь мой детский мир был сосредоточен в Анук, я даже приятелей не сумел завести: не очень-то нас жаловали в округе, сиамских щенков. Поначалу я все еще ходил за Анук, стараясь хоть чем-то заинтересовать ее; напрасный труд, ведь мое воображение и рядом не стояло с воображением Анук; бесплодной пустыней – вот чем было мое воображение. Бесплодной пустыней, которая упирается лбом в забор цветущего сада.
О, она умела охранять свой сад, – Анук, моя девочка.
Поначалу я все еще ходил за Анук, а она… Она всеми силами старалась избавиться от меня. Она полюбила одиночество, она нуждалась в нем гораздо больше, чем во мне. Ни разу после бегства с чердака под молчаливое улюлюканье «Arsmoriendi» – ни разу после – мне не удалось увидеть, как просыпается Анук. Это до лирохвостов мы открывали глаза одновременно, теперь же все изменилось: ее подушка все еще хранила тепло, но сама Анук выскальзывала из нашей комнаты за несколько секунд до того, как начинали подрагивать мои ресницы. Или за несколько минут, что не имело принципиального значения. Как не имела значения чашка с молоком на кухне – недопитая Анук. Как не имела значения не прикрытая ею дверь. Уже тогда она научилась ускользать.
Ускользать было ее естественным состоянием.
Идти по ее следам – стало моим естественным состоянием. Я всегда шел по ее следам, зная, что не настигну Анук, – но какие откровения являлись мне на этом пути!..
Первым стала бойня.
Теперь-то я думаю, что никогда не узнал бы ее тайн, если бы Анук сама не хотела этого. В конце концов, мы были близнецами, как бы Анук ни открещивалась от нашего родства; и какая-то часть в ней все равно принадлежала мне. Эта часть заставляла меня вздрагивать от боли, когда Анук расшибала себе колени, эта часть заставляла меня температурить, когда Анук простужалась. Эта часть сажала красное пятно на мою ладонь, стоило Анук обжечь свою. Эта часть нашептывала мне непредсказуемые, как траектория птицы в небе, маршруты Анук. Она же привела меня на бойню.
Бойня была запретным местом: даже ландшафт, ее окружавший, разительно отличался от всех прочих ландшафтов нашего с Анук детства: никакого буйства зелени, никакого засилья птичьих гнезд, и хвоста от ящерицы обнаружить невозможно. Чахлый кустарник и огромные каменные валуны, – именно они обрамляли приземистый ангар и несколько пристроек. И ангар, и пристройки были сложены из таких же валунов, и отсвечивали красным: за долгие годы существования бойни кровь животных пропитала почву и намертво приклеила камни друг к другу. Она же окрасила воду в маленьком ручье, протекавшем неподалеку.
До осени, последовавшей за «Arsmoriendi», мы ни разу не бывали там, хотя дед нашего деда проработал на бойне всю жизнь – так гласило семейное предание. И отец деда, и сам дед – до того как женился на бабке, да и потом тоже. Мы ни разу не бывали там – нам вполне хватало дохлых стрекоз, разбившихся стрижей и воспоминаний о шестнадцатилетней девчонке, которая так и не успела побыть нашей матерью. Но той осенью все оказалось иначе. Анук больше не устраивали воспоминания, ей нужны были ощущения.
А мне нужна была Анук, моя девочка.
…Сломанная ветка (ее задела Анук), вывороченный с дороги камешек (его коснулся грубый ботинок Анук), сбитые верхушки болиголо́ва (Анук всегда была к нему беспощадна) – идти за Анук, угадывать ее за всеми этими ветками, камешками и мятым болиголовом – удовольствие не из последних. Это похоже на охоту с заранее известным финалом: ты обязательно угодишь в силки ее фиалковых глаз. Я следую за Анук неотступно, стараясь не попасться раньше времени.
И – попадаюсь.
Анук сидит на самом ближнем к бойне валуне, прижав колени к подбородку. Я вижу узкую ложбинку на ее затылке и острые лопатки – такие острые, что кажется – они вот-вот порвут свитер.












