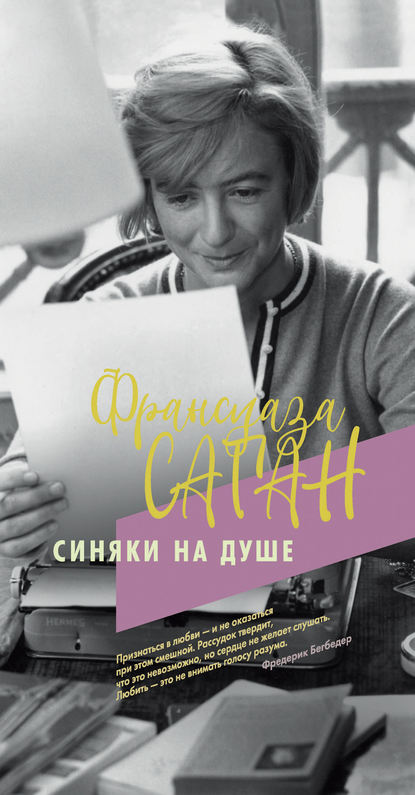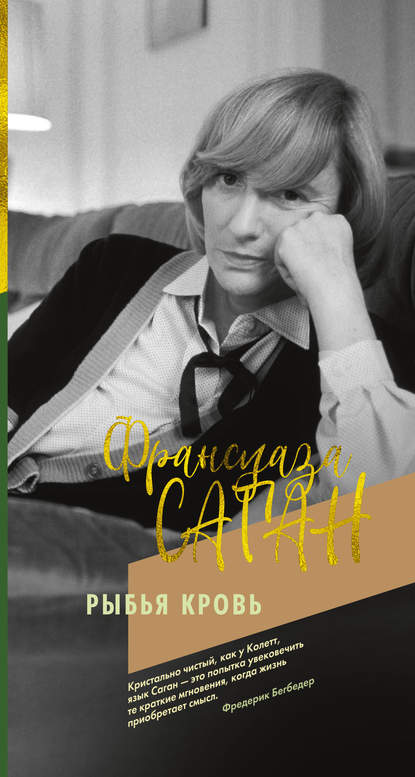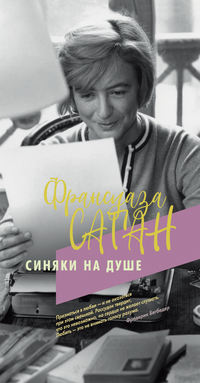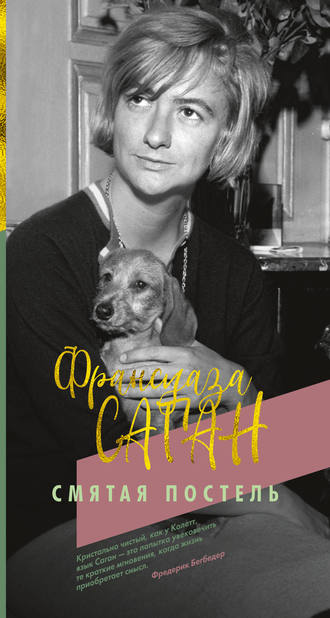
Полная версия
Смятая постель
Эдуар вздохнул. Он сидел в маленькой, жалкой, но очаровательной квартире безработного бабника-холостяка. Жаловался, рассказывал о своих чувствах – вещь, которой никогда раньше не занимался или, во всяком случае, не занимался давно, а именно больше пяти лет, потому что в течение пяти лет, после Беатрис, он никого не любил.
– Может, я и дурак, – сказал он медленно и вяло, – но теперь мне все безразлично. Есть в этой истории нечто такое, чего ты не понимаешь, Николя: с того момента, как появилась Беатрис, мне было настолько все равно, может это меня уничтожить или нет, что я стал неуязвим. И потому для меня не имеет значения, что тысячи людей будут презирать меня с того момента, как Беатрис меня поцелует.
– Но среди этих тысяч есть люди и умнее, и достойнее, и чувствительнее Беатрис, так ведь?
Николя начинал раздражаться.
– Пусть они такими и остаются, – сказал Эдуар. – Я ничего не могу с этим поделать. Я люблю эту женщину, которая так красива и, может быть, действительно так дурна, как ты говоришь, но только рядом с ней я чувствую, что живу.
Николя воздел руки к потолку и засмеялся.
– Замечательно, мой дорогой, тогда страдай! Люби и страдай – что еще ты хочешь от меня услышать?.. Может, это пригодится для твоей пьесы.
– Кстати, о моей пьесе, – ошеломленно начал Эдуар, – у меня же есть идея!..
И вдруг умолк, как будто допустил святотатство. Он может говорить о пьесе, когда его бросила Беатрис!
– Чего я не могу понять, – тут же спохватился Эдуар, – это конец ее письма.
Он вынул его из бумажника, перечитал постскриптум и поднял на Николя вопрошающий взгляд.
– Она говорит, что слишком глупа для меня – это любопытно – и что, может быть, мешает мне писать.
Николя улыбнулся:
– Проблески честности или, скорее, скромности я наблюдаю у нее впервые.
– Ты считаешь, она действительно так думает? – спросил Эдуар. – По-твоему, она и в самом деле может испортить мне жизнь?
И неожиданно, потому что именно это предположение избавило его от горечи и чуть ли не сделало счастливым, Эдуару показалось, что ему открылась истина; он понял, что произошло на самом деле: Беатрис, красивая, нежная и безумная Беатрис на самом деле считает себя недостойной его в интеллектуальном смысле и для нее это на самом деле важно; наверное, у нее разрывалось сердце, когда она уезжала утром из Лилля.
– Послушай, – сказал Николя, – она ведь не Дама с камелиями! Беатрис полностью лишена жертвенности – предупреждаю тебя…
Но Эдуар уже вскочил на ноги, торжествующий и потрясенный.
– Как подумаю, – сказал он, – как подумаю, что я ничего не понял! Вчера вечером, когда Беатрис вернулась, она застала меня за работой и, видимо, подумала… Бог мой, она сумасшедшая! – сказал он. – Она чудесная, но сумасшедшая…
Он уже был у дверей, он летел к Беатрис, он жаждал утешить ее, успокоить и повиниться перед ней. Объятый запоздалой признательностью, он повернулся к Николя.
– До свидания, Николя, – сказал он, – и спасибо тебе.
– Не за что, – ответил Николя, улыбнувшись. Потом он видел в окно, как Эдуар бегом пересекает улицу, бросается в машину и уезжает навстречу своей судьбе. Он напоминал одного из тех ночных мотыльков, которые бессильно падают в темноте, но, стоит им увидеть свет лампы, устремляются к ней, чтобы погибнуть, всякий раз все с тем же упоением. И Николя пожал плечами.
И вот, уже на пути к Рубе, «Мюнхенское пиво» так и плыло в руки Эдуара и Беатрис, а залитые солнцем самолеты подскакивали от нетерпения, стремясь отвезти их на золотистые пляжи, и Эдуар напевал. Он не знал, что в тот самый день Беатрис, поверив в то, что написала, и забыв, что назвала себя назойливой только потому, что Эдуар надоел ей, и объявила себя глупой только потому, что он тяготил ее, с болью в сердце, но искренне отказалась от роли вдохновительницы и наставницы; решив ограничиться ролью чувственной актрисы, Беатрис уступила порыву и провела два часа в постели актера, выступающего в амплуа героя-любовника.
* * *Он приехал к ней рано утром, позвонил и сразу же поднялся. Беатрис еще не вставала с постели, вид у нее был усталый. Агостини, герой-любовник, в жизни оказался любовником никудышным, а у Беатрис, если ей не удавалось получить наслаждение, всегда появлялись круги под глазами, если же она достигала его, у нее был отдохнувший, почти детский вид. Эдуар, однако, тотчас приписал круги под глазами горьким сожалениям. Сам он после адского дня, дороги туда и обратно, таблеток выглядел растерянным, был плохо выбрит и казался бестелесным в болтавшемся на нем бархатном пиджаке. Беатрис, которая уже вышла из роли куртизанки, спросила себя, как она могла предпочесть какого-то мерзкого актеришку соблазнительному, усталому и трогательному молодому человеку, который стоит перед ней. Как она могла заставить его страдать? И как могла обмануть? Что касается последних двух вопросов, то она так часто и так напрасно задавала их себе в прошлом, поскольку не могла произнести этого вслух, что уже давно перестала искать на них ответы. Она протянула руки к Эдуару, и он бросился к ней. Вдохнул знакомый запах, тепло ее кожи, услышал тихий голос и почувствовал, что наконец-то он опять дома. «С ума сойду, честное слово, с ума сойду от счастья», – думал он, а Беатрис, слыша, как колотится у него сердце, встревожилась.
– Успокойся, – сказала она, – ты весь дрожишь… Откуда ты явился так рано?
– Из Парижа. С утра, в Лилле, я был так зол, когда проснулся, так зол, что взял и вернулся. Потом перечитал письмо и поехал. Как только я понял…
– Понял что?
Беатрис уже немного забыла, о чем писала в том письме. Оно казалось ей очень искусным и очень трогательным (и некоторую часть дня – очень справедливым). Теперь, когда она стала вспоминать его после печального эпизода с Агостини, ей ничего не оставалось, как отвергнуть написанное. Нет, она не из тех доступных женщин, которых легко удовлетворить. У нее есть свои требования, как в области интеллектуальной, так и в области сердечной. Короче, почувствовав себя обделенной, Беатрис ощутила, что в ней жива душа. Эдуар, который был не в курсе всех этих ее нравственных или, по крайней мере, умственных метаний, продолжал речь:
– Ты сумасшедшая, Беатрис. Прежде всего, ты умна и во многом умнее меня. Ты помогаешь мне писать, помогаешь жить. Я ничего не смог бы сделать без тебя, да и не захочу ничего делать, понимаешь?
Он поднял голову, посмотрел на нее, он казался невероятно искренним. Беатрис улыбнулась: конечно, она нужна ему сейчас, потому что он любит ее, и, конечно, она помешает ему писать, если однажды заставит его страдать. Разумеется, потом он придет в себя. А пока Эдуар – как ребенок. Она положила руку ему на лоб, потом провела пальцем по его бровям, скулам, щеке, обвела очертания рта. Закрыла глаза. Конечно, он – ребенок, но еще и любовник, к тому же прекрасный любовник. Это-то она помнила очень хорошо.
– Разденься, – сказала она.
– Сейчас, – ответил Эдуар, – сейчас.
Он был растерян. Он приехал, чтобы поговорить о недоразумении, о непонимании, о чувствах, а взгляд Беатрис, который, по его представлению, должен бы быть затравленным, влажным от слез, стал вдруг непроницаемым, животным, отстраненным, полным желания. Что изменилось за день? День ужасного безумия, и все эти долгие километры – они были нужны лишь для того, чтобы привести Эдуара к единственному для него источнику жизни, ее губам – верхняя закругленная, нижняя прямая, – над которыми сейчас появилась слабая испарина. «Моя судьба, – подумал он, – моя судьба…» Усталость и спад нервного напряжения усилили его желание. Он дрожал, стоя у кровати. Беатрис закрыла глаза, и он склонился над ней.
Позже она говорила ему: «Молчи, молчи», хотя он ничего не говорил. Еще позже она укусила его в шею, а еще позже перевернулась на живот и сказала:
– Ты наконец понял, что, если я пишу нечто не слишком приятное для себя, как в том постскриптуме, это потому, что я так думаю.
Но она вовсе не собиралась обсуждать сейчас все эти вопросы и тут же уснула, обхватив голову рукой, будто защищаясь от холода или взрыва гранаты.
Глава 7
Утро было серо-голубым, полным запахов, уличного шума и удивительных переливов света, словно создала его фантазия какого-то одного человека – Пруста, например. Кто-то там, наверху, управлял гигантской и бесхитростной машиной мира, подгонял друг к другу с умением, пылкостью и искусством истинного художника тучи и ветер, гудки автобусов и запах лилий. Для Эдуара, который не верил в Бога, такое ощущение гармонии было доказательством существования Искусства. Он лежал в постели один, закрыв глаза от счастья. Ему было странно, что его жизнь – жизнь, которая шла как бы рядом и которую он всегда видел в профиль, вдруг остановилась, повернулась к нему лицом и неожиданно призналась: «Ну да, я существую, и существует Искусство, красота, гармония, а тебе предназначено описать их, перевести на язык людей и убедить всех, что они существуют». Ощущение огромного счастья, смешанного с бессилием, охватило Эдуара. Ему хотелось возблагодарить небо за возможность писать и в то же время переломать все карандаши. Хотелось никого не любить и чтобы его больше не любили, хотелось стать как можно умнее и восприимчивее и оставаться таковым – внимательным, жадным, готовым все заметить, все понять и переложить на слова. Сначала – для себя, затем – для других. Конечно, переложение для других будет в какой-то мере фальшивым, потому что слова, собранные воедино, всегда предают. Но он, соединив эти слова на лад по своему произволу, обретет в них свою истину.
Больше того, он уже знал, что разница между тем, что ему хотелось бы высказать, и тем, что у него в конце концов получалось (как бы он ни старался эту разницу уменьшить), и есть его стиль, его голос и, может быть, его талант. Слова были его господами, и они же были его слугами. Он чувствовал, что зачастую в жизни он был для других всего лишь огорчительным или огорченным партнером в плохой реалистической пьесе, где все мы, живущие, вынуждены играть, серьезно или поверхностно, в зависимости от того, какой выдался день. Он знал, что, общаясь с людьми, он всего лишь невнятно бормочет, постоянно ошибается и попадает впросак, а потом досадует на себя за свои ошибки. Но потом, чуть позже, стоило ему остаться у себя в комнате с чистым листом бумаги наедине, как кони его воображения пускались в галоп под звуки невидимых скрипок. И разве важно, что кони ненастоящие, а скрипки иной раз звучали фальшиво? Они влекли его за собой, и жизнь вновь становилась подлинной, наполнялась смыслом и токами крови. И тогда, будто в толщу вод, он бросался в воду, он погружался в темные глубины своего сознания, похожий на моряка-подводника, неистового и невидящего. На поверхности оставались только его тело, голова, руки, лежащие на столе. И еще его взгляд, если бы ему помешали, взгляд, не отражающий ничего, кроме того, что он видит в перископ своего воображения, того, что никто другой не сможет увидеть вместо него. Он один расшифрует запутанные, темные знаки, которые его рука, будто рука телеграфиста в состоянии каталепсии, начертает на бумаге.
Потом, конечно, ему вновь придется воссоединиться со своим телом, руками, взглядом. Воссоединиться с другими людьми и, как они говорят, опять «окунуться в жизнь». И вот в этот миг, когда он почувствует, что вновь выплывает на поверхность, хотя все еще охвачен грезами, увидит себя вынырнувшим после глубокого погружения на пустынную и бесцветную поверхность реальной жизни, единственный остров среди ужасающего океана реальной жизни будет называться Беатрис; по крайней мере, единственный, где он может высадиться; потому что подле нее, отдаваясь любви так же, как он отдавался писательству, он грезил, а значит жил. Все остальное время он пребывал в своей оболочке и своем времени, на которое взирал со страхом и искренней доброжелательностью, так что все это ясно чувствовали, но причину определяли неверно. «Ты все еще со своими персонажами, да? – спрашивали они. – В своих историях?» И снисходительно улыбались. Эдуар, радуясь такому благородному оправданию, охотно соглашался. На самом деле он думал о своих героях только тогда, когда работал. Обычно в голове у него крутился какой-то путаный нескладный фильм, мешанина, слепленная из обрывков стихов, музыкальных фраз, неудачных реплик и безвыходных положений, которые нравились ему своей безвыходностью. Беатрис в них всегда играла главную роль. Он не мечтал о том, что спасет ее из пламени и усадит к себе на колени, безумно влюбленную в него. Никогда. Сама по себе реальность была теперь так ослепительна, что, несмотря на все сомнения и страхи, он не желал ничего прибавлять к ней ни на йоту. Он не хотел, чтобы эта реальность менялась – напротив, желал, чтобы она длилась без конца. Пусть будет ни лучше, ни хуже, ибо, что ни говори, не может быть ничего лучше Беатрис в его объятиях и ничего хуже той же Беатрис, покидающей их, вырывающейся из них. И то и другое происходило по десять раз за день: упоение, затем обвал. Он дрожал при мысли, что в этот прекрасный хаос ворвется нечто чуждое, падение затормозится, а путаница упрочится. Он хотел, чтобы внутри безумного волчка, которым стала его страсть, ничто не менялось. Ни она, ни он.
Между тем в Париж пришла весна. Беатрис должна была вернуться на следующий день, гастроли закончились, а он был здесь, у нее дома, читал у открытого окна и был совершенно счастлив. Более того, он знал, что совершенно счастлив. Он мог еще понежиться в ее постели или встать, забраться в гамак и почитать газету. В маленьком садике, примыкавшем к ее квартире на первом этаже, Беатрис повесила два гамака и поставила металлический столик, который был столь же мрачен зимой, как романтичен летом. Эдуар обожал этот уголок. Еще он мог позвонить своему другу Николя и пойти с ним пообедать туда, где его будут расспрашивать о Беатрис – теперь, где бы он ни появлялся, его расспрашивали о Беатрис, и это наполняло его радостью, – или встретиться с Куртом в театре и посидеть на одной из тех ожесточенных и кропотливых репетиций, секрет которых был известен только Курту. Он мог и поработать, но, стоило ему подумать о работе, тысячи нитей привязывали его вдруг к кровати, как старика: лень, сомнения, страх, бессилие, покорность, головокружение; ему нужно было перепрыгнуть через все эти пылающие обручи, как собачонке в цирке, чтобы добраться до своего героя, Фредерика. «Хорошо вам, пишете что хотите, вы свободны». О да, иногда он и им желал такой же свободы! Свободы получать от самого себя пощечины, потому что дело не ладилось, хоть плачь!
Вошла горничная Беатрис, тихая Катрин, прозванная Кати. Она питала слабость к Эдуару. Кати знала всех любовников Беатрис на протяжении десяти лет и привыкла оценивать их прежде всего по их обходительности и щедрости. Очевидная чувствительность Эдуара умиляла ее, и, поскольку она предвидела скорый разрыв, она обращалась с ним как сестра милосердия. Увидев эту опрятно одетую шестидесятилетнюю женщину у своей кровати в первом часу дня, Эдуар смутился. И выбрал самый суровый из своих планов: он пойдет повидается с Куртом и всерьез потолкует с ним о своей пьесе. Увидеть отражение Фредерика в глазах другого, ощутить, что Фредерик существует уже помимо автора, что он не призрак, – это успокоит Эдуара и даст ему силы продолжать работу. Кроме Курта, он ни с кем не мог поговорить о Фредерике. Эдуар чувствовал, что Беатрис ничего не поймет в его герое, что она из другого теста и сотворена по-иному, и был в отчаянии, как будто обязан был представить друг другу обожаемую любовницу и враждебно настроенного брата. Он чувствовал, что Фредерик не нравился бы Беатрис, и, что более любопытно, не был уверен, что Беатрис понравилась бы Фредерику. Возможность их встречи в маленькой гостиной, например, приводила его в ужас и смятение. Эдуар понял, что бредит, посмеялся над собой и встал.
Зрительный зал был маленький, темный, а на пустой сцене всклокоченные актер и актриса, видимо, чего-то ждали. В первом ряду, в темноте, сидел Курт ван Эрк и тоже чего-то ждал. Эдуар положил руку ему на плечо и молча сел рядом. Он знал этот прием Курта: главное – тишина. Позволить актерам поразмышлять, дать возможность подумать. Иногда, правда, у Эдуара возникала мысль, что актеры используют такие паузы, чтобы подумать о чем-то совсем другом, и еще одна, кощунственная, что о другом думает и сам Курт. Тем не менее он знал, что лучше не нарушать эту тишину, и подумал было, что его присутствие неуместно. Курт репетировал пьесу одного довольно заумного чешского автора, пьесу, которую Эдуар читал и перечитывал с трудом, хотя находил в ней определенные достоинства, и ему было интересно посмотреть, что же Курт сумеет с ней сделать. «То, что тебе непонятно, чего тебе не видно, то я и ставлю, – по обыкновению, говорил Курт. – Для меня важно только то, что между строк». Сам Эдуар склонялся к мысли, что как раз строчки-то самое важное и есть, но он знал, что подобное представление несколько примитивно, как ему не раз объясняли.
Но в общем, ему было все равно. Как только написанные им слова обретали живую интонацию, устраивавшую его, а образ получал физический облик, он был доволен. Ему казалось, что все зависит от актеров, от их таланта, а режиссер только уточняет кое-что в ролях, указывает актерам, как входить и выходить, и объясняет непонятное, если это необходимо. Но об этом Эдуар больше не заикался, боясь прослыть эгоистом, слепцом и ретроградом – как назвал его разъяренный Курт. (Их взаимная искренняя привязанность им самим казалась порой необъяснимой.) Через две минуты Эдуар откровенно заскучал. На улице было так весело, солнце светило так ярко. Что он здесь делает, в темноте, среди этих людей, впавших в прострацию? Курт, наверное, почувствовал его настроение и встал.
– Начали, – сказал он.
Актеры заняли свои места, и девушка, маленькая блондинка с усталым лицом, повернулась к партнеру.
– Куда ты хочешь уехать? – спросила она. – У тебя нет билета, нет ничего. Билета нет не только в жизнь, но даже на автобус!..
Всклокоченный молодой человек явно рассердился:
– Это правда, билета у меня нет и никогда не было, я вообще человек без билета…
– Стоп!
Голос Курта звучал повелительно:
– Подожди, Жан-Жак. Когда ты говоришь, что у тебя нет билета в жизнь, ты понимаешь, почему его нет? Твой герой – шизофреник или просто слабовольный человек, как тебе кажется? Ты думал об этом? А ты, Арманда, когда говоришь, что у него нет билета, сочувствуешь ему или упрекаешь?
– Не знаю, – сказала та, кого он назвал Армандой, – скажи лучше сам…
– Ну а ты-то как считаешь? – допытывался Курт.
Она посмотрела на партнера, потом на Курта и вяло пожала плечами.
– Ладно, подумайте еще и постарайтесь все-таки понять, – заключил Курт, – может быть, стоит перечитать текст… Я вернусь через десять минут.
Он повел Эдуара в бистро напротив. И стал ворчать:
– Мыслимое ли дело? Десять читок! Потом, я двадцать раз объяснил им, что к чему, мы репетируем уже целую неделю, и вот результат…
– Малышка смотрится неплохо… – промямлил Эдуар из чистой вежливости.
– Что у тебя? – перебил его Курт. – Давай о главном. Как твоя пьеса?
Но у Эдуара вдруг пропало всякое желание говорить о Фредерике. Луч солнца осветил кафе, заискрился в кружке с пивом в руках у сидящего возле стойки толстяка, ободрил приунывших пьянчуг, заиграл на блестящих столах и ручках. Фредерик жил в теплой глубине авторского сознания, Фредерику не нужен был еще кто-то, чтобы жить. Сердце Эдуара на секунду наполнилось гордостью, чувством собственности и тайны.
– Продвигается, – сказал он, – продвигается.
И приложил палец к губам – жест, который, как он знал, не позволит Курту, в соответствии с неписаными законами общения, настаивать. Слава богу, что существует высокопарная до комичности условность, именуемая «тайной творчества», за которой с высокомерным и стыдливым видом могли укрыться даже такие скромные авторы, как он, Эдуар.
– Я и не настаиваю, – сказал Курт. – Что ж, тогда (и он сдержал или сделал вид, что сдержал легкий зевок) как твои амурные дела?
– Хорошо, – ответил Эдуар в том же легком тоне. – Все хорошо.
– Если тебе нечего мне сказать ни о работе, ни о личной жизни, о чем ты собирался говорить? – с легким упреком спросил Курт.
– Я зашел повидать тебя, – ответил Эдуар невинно, – и совсем не хотел тебе мешать.
Воцарилась тишина, и они посмотрели друг на друга. Эдуар в который уже раз рассеянно отметил про себя, что у Курта очень низкие брови, волевой подбородок, голубые глаза и квадратные ладони, «руки рабочего», как он любил говорить. И что он кажется раздраженным.
– Я проходил мимо, – повторил он, – и поскольку дел у меня нет…
– Но мы-то, мы репетируем, – сказал Курт.
– Пожалуйста, прости меня, – сказал Эдуар, поднимаясь.
Курт взял его за рукав и заставил снова сесть.
– Я не сержусь, – сказал он и протянул Эдуару руку, – все о’кей! Я рад, что ты зашел. Но мне нужно с тобой поговорить. (Тут он выдержал очень длинную паузу, как в своих мизансценах.) Твоя Беатрис – пустое место. Как актриса она еще куда ни шло, но для тебя, тебя она пустое место.
– Но… – сказал, опешив, Эдуар, – мне лучше знать…
– Нет, – ответил Курт, – ты еще ребенок и не знаешь ровно ничего. Скажи, к примеру, что ты делал целых три месяца? Ты что-нибудь написал?
– Да, одну сцену, – ответил Эдуар, – но я часто думал о пьесе, уверяю тебя.
– Между двумя свиданиями, не так ли? Когда мадам Беатрис Вальмон оставляла тебя на время? А как хорошо начиналась работа над этой пьесой! Пора бы ей уже и закончиться, но из-за какой-то бабы…
Эдуар словно окаменел. Если Курт и дружил с мальчишкой, то теперь он не хочет понять, что благодаря Беатрис мальчишка стал взрослым. И еще ему был неприятен фальшивый и грубый тон Курта: Эдуар терпеть не мог разговоров о бабах, о славных малых и о крутых мужиках.
– Ты понимаешь, что значит работать? – повторил Курт.
– Понимаю, – спокойно ответил Эдуар. Встал и вышел.
Он шагал большими шагами по улице, стараясь успокоиться и перестать злиться. Ноги сами несли его к дому. Дому, где его ждал беспорядок, платья Беатрис, ее духи, ее постель, их гамаки и чистые листы бумаги. Он никому не позволит встать между ним и этим домом. И все-таки ему было немного грустно. Курт как-никак был одним из лучших его друзей, вместе с… С кем еще вместе, собственно? Он шел и перебирал в памяти имена тех, с кем проводил время, делился переживаниями, мыслями, порой делил постель. Пытался отыскать в памяти лицо, голос хоть одного человека в огромной человеческой комедии своего прошлого. Но видел только безымянных статистов. Крылатый путник в перенаселенной пустыне, он спалил все зеленые огни, все пешеходные дорожки, которые некогда чтил. Единственное движение, чьи правила он отныне будет чтить, – это ток его собственной крови. Да, он знал, что значит работать, и мог бы объяснить это Курту. Работать – совсем не значит заставлять бестолковых козлов отпущения мямлить текст, написанный другими. Эдуар как раз и понимает, что значит работать. И как только Беатрис вернется, он познакомит ее с Фредериком.
Глава 8
Сразу же по приезде, после торопливых объятий, Беатрис заспешила из дома: она рвалась на улицы Парижа с неистовостью провинциалки или изгнанницы, хотя в отъезде была каких-то два месяца. Она заявила, что ей совершенно нечего надеть, и Эдуару пришлось выбирать: или еще один одинокий день в гамаке, или странствия с Беатрис по магазинам. К пяти часам вечера, совершенно разбитый, он бессильно опустился на маленький табурет в салоне мод, где Беатрис в десятый раз примеряла платье. Он чувствовал себя здесь лишним, устарелым и немного смешным – «волокита 900-х годов», иронизировал он про себя. Беатрис искоса поглядывала на него, ища одобрения собственному вкусу, но, убедившись, что за любым платьем он видит только ее завораживающую наготу, перестала обращать на него внимание. Любовь к нарядам мало-помалу стала для Беатрис естественной и настоятельной необходимостью, – впрочем, все ее желания становились необходимостью; она сердилась и ворчала на снующих без отдыха продавщиц. Сейчас она понукала молоденькую продавщицу, что подкалывала ей подол, – рыжеволосая девушка, поначалу исполненная достоинства и уверенная в себе, быстро растерялась от повелительного и капризного тона своей клиентки.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.