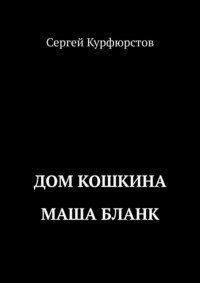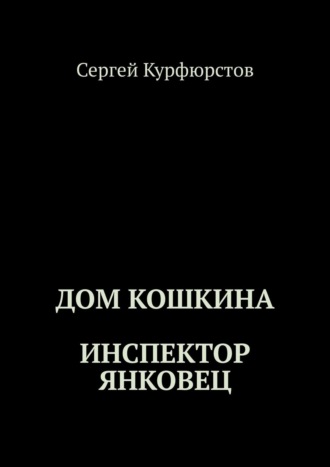
Полная версия
Дом Кошкина: Инспектор Янковец

Дом Кошкина: Инспектор Янковец
Сергей Курфюрстов
© Сергей Курфюрстов, 2021
ISBN 978-5-4483-8957-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава первая
Воронье… Черное-пречерное. Сытое и важное. Не спеша расходится. Небольшими группками. Хозяевами себя чувствуют. Сколько же их тут собралось? Тысяча? Больше? Столько полицаев в одном проклятом месте! В глазах темно от черной формы. Со всей области слетелись на это свое полицейское заседание. Словно вороны на свалку костомольного… и как мне Степана среди них найти? Мать велела деньги передать. В долг. До получки. Банкет ему подавай! Послезаседательный. Придется на дороге стоять и высматривать. Все равно он в сторону управы пойдет. Может, сам меня и заметит.
Прижавшись спиной к забору, я внимательно всматривался в лица проходивших мимо меня полицаев в надежде разглядеть среди них Степана. Было около семи часов вечера, и дневное тепло последних дней лета медленно уходило, уступая место вечерней приятной прохладе. Странно. Кажется, не я один кого-то жду. В черноте полицейских мундиров бельмом на глазу выделялся светло-серый форменный китель немецкого солдата, видимо, тоже кого-то поджидавшего, стоя у калитки метрах в двадцати от меня. Откуда он здесь взялся? Еще минуту назад его там не было. И что, вообще, он там делает? Стоит, курит и так же, как и я, внимательно всматривается в лица проходящих мимо людей. Один рядовой немецкий солдат в этой безликой полицейской массе. Вот только не похож он на рядового. Тех я видел. Молодые, крепкие, нагло улыбаются, будто победа уже у них в кармане, – а этот староват. На вид лет тридцать. Скорее фельдфебельская форма ему бы подошла. Нет… Что-то в нем не так. Пистолет-пулемет? Точно! Он висит у него на груди! Рядовые так не носят. У них оружие старое, с боковым магазином, – на грудь не повесишь. А у новеньких шмайссеров рожок снизу, но я их только у офицеров видел. Его и на груди, и на боку носить можно. Это определенно не рядовой. Но кто? И что здесь делает?
– Украинский вопрос может быть решен только при содействии германских властей и тогда, когда для этого созреют необходимые условия, – за моей спиной, твердо выражая непреклонную уверенность в собственной правоте, какой-то незнакомец четко выговаривал заученные фразы громким хорошо поставленным голосом.
Я оглянулся. В компании нескольких полицаев и двух штатских, внимательно вслушиваясь в слова одного из них, в нескольких шагах от меня подбоченясь стоял Степан. Наблюдая за немецким солдатом, я задумался и совершенно не заметил их приближения.
– Итак, как я уже говорил на сегодняшнем собрании, – поглаживая расчесанные на идеальный пробор коротко стриженые волосы, продолжал высокий человек средних лет, – мы абсолютно убеждены, что как только Германия покончит с Черчиллем и Сталиным, тогда и будет решен вопрос о самостоятельности Украины.
Подчеркивая выразительность речи, его усы «щёточкой» при каждом слове заметно шевелились, а круглые очки добавляли проникновенной серьезности выражению лица. Второй штатский, безусловно соглашаясь, покивал головой и, подняв указательный палец вверх, наставительно добавил:
– А имея собственное государство, украинский народ станет полноправным хозяином своей судьбы, навеки избавившись от тотального порабощения и жестокой эксплуатации со стороны других государственных наций!
Я осторожно подошел к Степану и дернул его за рукав. Он обернулся, обнял меня за плечи и прижал к себе.
– Это, Николай Орестович, племянник мой, – представил меня Степан, – тоже от советской власти премного настрадался.
Что он несет… этот дядя Степан? С чего это я настрадался? Это Кошкин нам горе в дом принес. Но Кошкин – это еще не вся Советская власть. Ладно, помолчу. Все равно меня не послушают.
– Тебя как зовут? – спросил Николай Орестович.
– Коля, – ответил я.
– Тезки, – он усмехнулся холодной задумчивой улыбкой и, обращаясь к присутствующим, призывным голосом произнес, – вот для этих хлопцев и добываем мы вольную Украину!
Потрепав меня по волосам, штатские распрощались со Степаном и его сослуживцами и отправились по Большой Бердичевской в сторону городской управы.
– Кто это? – спросил я.
– Это же сам пан Сциборский!1 Выдающийся, надо заметить, руководитель, – Степан с восхищением долго смотрел вслед Николаю Орестовичу, явно гордясь тем, что такой известный человек уделил ему немного своего внимания.
О чем-то оживленно беседуя, Сциборский и его товарищ шли вдоль покосившихся заборов, ограждавших старые облезлые хатки, отделенные друг от друга кривыми улочками шириной в запряженную телегу.
Они почти поравнялись с немецким солдатом, когда из глубины одного из переулков вынырнул какой-то человек и торопливо последовал за ними. Человек, как человек. Мало ли людей по улицам ходит? Может, еще один почитатель руководящих талантов пана Сциборского. Черт с ними. Надо поручение матери выполнять. Я засунул руку в карман, намереваясь достать предназначенные Степану деньги, как два неожиданно раздавшихся выстрела заставили меня вздрогнуть. Я поднял глаза. Друг Сциборского лежал на земле лицом вниз. Вокруг его головы, быстро увеличиваясь, растекалась лужица крови. Сам Сциборский лежал на спине, тщетно пытаясь приподняться. Голова его была цела, но изорванное раной лицо было совершенно обезображено.
Находившийся в трех шагах от места покушения немецкий рядовой отскочил от забора и, не раздумывая, выстрелил в нападавшего. Убийца пошатнулся и, падая, выронил пистолет. Перевернувшись на бок, он протянул руку к солдату и что-то прокричал. Что именно? – в толчее и суматохе расслышать было невозможно. Второй выстрел заставил его замолчать. Совладав с первой оторопью, Степан с сослуживцами бросился к месту убийства, на ходу вынимая оружие из кобуры. Я мчался за ним.
– Затвор! Немец не передернул затвор! – на бегу кричал я, – он передернул его раньше, будто знал, что так произойдет!
Сциборский был еще жив. Звук первого выстрела заставил его обернуться, и пуля, угодив в лицо, прошила насквозь обе щеки, обнажив челюсть с выбитыми выстрелом обломками зубов. Его соратник был мертв. Нападавший тоже.
– Машину, скорее машину! Его нужно доставить в больницу! – кричали люди со всех сторон.
Я оглянулся, пытаясь отыскать глазами немецкого солдата, но тот был уже далеко: – почти поравнялся с установленной напротив памятника Пушкину гипсовой статуей девушки с веслом. Русского поэта немцы почему-то пока не тронули, а вот «девушку с веслом» решили расстрелять. Теперь вместо ног из статуи уродливо торчала железная арматура конструкции.
– Немец уходит, – шепнул я Степану.
– Проследи за ним, – взбудоражено выкрикнул он, – только осторожно. Издалека. Близко не подходи.
Я рванул за солдатом. Тот шел быстро, нагло расталкивая привлеченных звуками выстрелов и бегущих навстречу полицаев, торопившихся поскорей оказаться на месте происшествия. Гражданские, наоборот, старались убежать как можно дальше, чтоб не попасться под руку немецким патрулям и не оказаться в горьком положении заложников. По дороге, сопровождаемые испуганными взглядами людей, на большой скорости промчались два легковых автомобиля. Немец остановился, посмотрел им вслед и криво усмехнулся. Затем, бегло оглядев суетящихся прохожих и, видимо, не заметив ничего подозрительного, быстро зашагал в сторону управы. Прячась за спинами людей, я последовал за ним.
Свернув с Бердичевской на Михайловскую, немец перешел на другую сторону улицы и смешался с толпившимися у продуктового магазина людьми. Просочившись сквозь них, он повторил маневр и, оказавшись по правую сторону дороги, остановился, снял с головы каску и резко оглянулся. Его взгляд встретился с моим. Цепко и холодно. До замирания в душе. Его зрачки. Я снова их вижу. С такого расстояния это, конечно же, невозможно, но я точно знаю, какие они у него. Маленькие, непростительно маленькие, безжалостные и бездушные, насмешливо-презрительные, с жестокой ненавистью пронзающие меня насквозь, бесчеловечно-изуверские зрачки. Теперь, без каски, я его узнал. Унтерштурмфюрер СС, убивший на моих глазах беременную девушку в Богунском лесу и в шутку приказавший Степану меня расстрелять. Это был он.
На секунду опешив, я все же совладал с собой и нырнул в подворотню. Проскочив дворами лекторий, ноги вынесли меня на Киевскую и, перебежав ее, я укрылся в скверике напротив бывшего военкомата. Теперь тут располагалось гестапо.
Липа и росшие вокруг кусты защитили от посторонних глаз, дав возможность отдышаться и подумать. Значит, я был прав. Это не рядовой солдат. И был он там не случайно. Немец знал, что ему придется стрелять, и потому передернул затвор заранее. Он выстрелил в убийцу, – и это вроде бы правильно, – но зачем он его добил? И почему не дождался своих? Зачем сбежал? Если бы это был простой рядовой – тогда понятно. Был в самоволке и сбежал от ненужных объяснений. А может, это и было рассчитано на то, чтоб все так подумали? Может быть…
Я еще раз оглядел противоположную сторону дороги. Перекрытый шлагбаумом и охраняемый двумя солдатами въезд во двор гестапо просматривался хорошо. Столовая для немецких офицеров тоже. Ни там, ни тут никакого движения. Было около половины девятого вечера, и с наступлением темноты город начал понемногу пустеть. Выходит, немца я упустил, но теперь хотя бы знаю, что это не был простой солдат. Куда он мог пойти? Прямо? Там одни жилые дома. Маленькие и невзрачные. Вряд ли офицера расквартировали бы там. Направо по Киевской? Возможно. Там дома побогаче. Что там еще? Почта? – в такое время она закрыта. Бордель? – недавно открытое по указанию военной администрации заведение для немецких солдат и офицеров? Точно! Ведь там можно переодеться! И тогда, – все! Был солдат, и нет его!
Значит, можно уходить. Ждать дольше бессмысленно. А за борделем нужно понаблюдать. Здание знакомое. Двухэтажное. До революции там купеческий доходный дом был. Для богатых постояльцев. А потом гостиница для колхозников. Окна выходят во двор, и на улицу. Двери тоже. Жиличек, по словам Женьки, всего четыре. Голландки. Добровольно приперлись поддержать дух немецких солдат, – курвы идейные! Но к ним только офицеров подпускают. А солдатам обещали угнанных латышек привезти. Не хотят свою пёсью арийскую кровь местными женщинами осквернять. Брезгуют, гады!
На улице стемнело. Вот-вот комендантский час, и надо торопиться. Домой минут сорок топать. Успею. Человека, идущего по тротуару, вперед пропущу и за ним пристроюсь. Запоздалый прохожий, одетый в гражданский костюм и с надвинутой на глаза шляпой, торопливо прошагал мимо меня. В темноте его лицо не было видно, но походка… Черт! Вся та же марширующая походка! Идет, коленки кузнечиком выбрасывает, носок тянет, левую руку к себе прижимает, будто оружие придерживает; правой размахивает. Он или нет? Может, кто-то другой? Мало ли вояк сейчас развелось. Я дал ему уйти метров на тридцать вперед и осторожно последовал за ним. На углу Театральной он повернул, и уличный фонарь на секунду осветил его лицо. Он! Точно он! Значит, переоделся и теперь думает, – все? Концы в воду? Не получится! Я добежал до перекрестка, прильнул к стене крайнего дома и, спустившись на корточки, осторожно выглянул из-за угла. Немец, пройдя немного вперед, зашел во двор между двух трехэтажных домов, окнами выходивших на Преображенский собор, и скрылся из виду. Бежать за ним? Нельзя! Вдруг он меня заметил и в засаде караулит? Я побежал назад к скверику, сзади обогнул угловой дом и заскочил во двор со стороны Киевской улицы. В дальнем подъезде негромко хлопнула дверь, и через несколько минут в окнах третьего этажа зажегся свет. Вот ты и попался, фашист!
Довольный собой, я помчался домой. Теперь будет, что Степану рассказать. Да и ему тоже. Что со Сциборским? Выжил ли? Если немцы устроили на него покушение, может он не такой уж и враг. Или все-таки враг? Как же во всем этом разобраться?
Степан сидел у нас дома, с беспокойством ожидая моего возвращения. Мать разогревала еду, зная, что самое позднее к десяти часам, я должен быть дома; Маша помогала с посудой. На столе стояла непочатая бутылка водки и две рюмки.
– Ну, наконец-то! – не сговариваясь и почти хором; всплеснув руками, выкрикнули все трое, невольно вызвав у меня довольную ухмылку и, даже, слегка развеселив.
– Что с Николаем Орестовичем? – спросил я Степана.
Тот скривил печально-жалобную мину, растеряно развел руками и, тяжело вздохнув, сообщил:
– Умер. Пока довезли, кровью истек. Часа три мучился.
– И что теперь будет? Кто его убил? Что люди говорят? – я засыпал Степана вопросами, оставляя узнанное мной на потом.
– Беда будет, – покачал головой Степан, – у убийцы документик при себе нашли. В Берлине выданный. И не кем-нибудь, а Украинским доверительным фондом. «Бандеровцем» он оказался. Теперь народ Бандеру судить требует. И помощника его, Стецько, тоже. Братоубийственная война случится может. Украинец на украинца пойдет. Вот, что люди говорят.
– Так, как же его судить? Когда он там, в Галиции!
– Требуют, чтоб заочно. И непременно со смертным приговором. Разгневаны люди. Всех «бандеровцев» повесить хотят. Как бы у нас тут вторая гражданская война не началась! Этого только не хватало, – Степан озадаченно почесал затылок и нервно постучал пальцами по столу.
– А люди Бандеры что говорят? – снова спросил я.
– Так клянутся, что не они это. Говорят, незачем им было Сциборского и Сеныка убивать. Наоборот. Примирения искать хотели. А теперь… какое уж тут примирение.
– А что вы с «бандеровцами» не поделили? – спросила мать. – Вроде и те, и другие за самостоятельность Украины выступают. Отчего ж вам между собой ссориться?
– Мы, «мельниковцы», как говорит… эх, – печально махнул рукой Степан, – как говорил пан Сциборский, движение умеренное и консервативное. За мирную самостоятельность. Так, чтоб без крови. А «бандеровцы», – им бойню подавай! Непримиримая вооруженная борьба против всех несогласных. Такой у них девиз. Так нельзя! Хватит Украине юшкой кровавой умываться! Наше руководство уже к немцам обратилось, чтоб они этих «бандеровских» душегубов наказали, как следует.
– Получается, германские власти одних украинцев будут наказывать по просьбе других украинцев? Хитро придумано. Сначала всех натравили на евреев, потом украинцев поссорили с поляками, а теперь украинцы просят оккупантов наказать других украинцев. А немцы вроде как чистенькие остаются. И что ты на это скажешь, дядя Степан? – ехидно спросил я.
– Не знаю, – растеряно пробормотал он.
– Ты, наверное, курить хочешь, – шепнул я, – пойдем во двор, расскажу чего.
Во дворе Степан достал из кармана папиросу, подкурил и, жадно затянувшись, вопросительно мотнул головой.
– Чего рассказать-то хотел?
– Проследил я за немцем. До самого дома проследил, – начал я, – так вот: никакой это не солдат. Офицером эсэсовским оказался. Да еще и знакомцем нашим. Он, когда каску снял, я сразу его узнал.
– Ну? И кто такой? – в нетерпении перебил Степан.
– Унтерштурмфюрер из Богунского леса. Тот, что девушку беременную убил и меня расстрелять тебе приказал! Помнишь его?
– Неужели он? Помню, конечно. И девушку помню. Считай, благодаря ей ты живой остался.
– Как так? – удивился я.
– Немец, когда в нее пулю выпустил, я невольно на звук выстрела обернулся. Тут-то я тебя и заметил. Если б не обернулся, – все! – угнали бы тебя в яму со всеми!
Неожиданно нахлынувшая боль сковала грудь, и защемило в сердце. Я тщетно пытался вдохнуть хотя бы маленький глоточек воздуха, но сжавшиеся в комок легкие отказывались его принимать. Лицо, плечи, кожа тела вновь занялись испепеляющим огнем, сжигающим меня дотла. В золу, в угли… до пепла самых крохотных костей… Голова закружилась, земля зашаталась под ногами, и я судорожно вцепился в спасительные руки Степана. Все, как тогда.
– Что с тобой, Коля? – испуганно вскрикнул он, подхватывая меня своей сильной рукой.
– Не знаю… кровь. Я чувствую в себе ее кровь. Мне кажется, она сжигает меня изнутри и от этого становится больно дышать. Такое было со мной… уже несколько раз…
– Давай-ка на бревнышко присядем, – Степан аккуратно усадил меня на деревянную колоду и, обняв за плечи, сел рядом со мной, – это пройдет, Коля. Со временем обязательно пройдет. У меня похожее было. Я, когда в восемнадцатом году солдатика того немецкого заколол, – про которого баба Галя рассказывала, – так у меня потом по ночам руки судорогой в кулаки схватывались. Будто все тот проклятый штык держу. Меня и к доктору водили. Так он сказал: все это от детского психастического переживания. Как неокрепшая душа очерствеет чуток, – так оно и пройдет.
– А если я не хочу, чтобы душа черствела? – немного успокоившись, спросил я.
– А ничего страшного в этом нет, – уверенно продолжил Степан, – страшно, когда душа жестокой становится. Тогда беда. Знал я таких, – не исправишь. А очерствевшая… так она завсегда оттаять может. У меня эти судороги были аж пока на Оксане, жене моей покойной, не женился. А как женился, так душа помягчела и болезнь эта психастическая совсем ушла.
– А обязательно было его убивать? Солдата того… – повернувшись к Степану, я попытался заглянуть ему в глаза.
– Нам конь его был нужен. До смерти нужен, – внезапно помрачнев, ответил он, – без мяса того коня, мы бы зиму не пережили. Все бы померли. И баба Галя, и Валюша… матушка твоя. А немец добровольно ни за что б его не отдал! Они тогда в ноябре восемнадцатого года к Ровно отступали. От «красных» драпали. Тут я этого хромого коня и приглядел. Километров десять за ними крался. Все выжидал, когда же немец с этим хромым конем от своих отстанет. Метель была… Несильная. Так, вьюжило. Он в лесочке остановился… нужду справить, тут я его и застиг. Штыком. Коня забрал и назад. Страху натерпелся, – не приведи Господь! Мне ж тогда четырнадцать было. Как тебе сейчас. Но от этого жизнь зависела. И не только моя. Понимаешь?
– Угу. Наверное, так было надо…
Немного помолчав, Степан вновь задумчиво посмотрел на меня и, размышляя, подытожил:
– Значит, что у нас получается? Немецкий рядовой на деле оказался эсэсовским офицером. Это раз. Он знал о покушении и заранее приготовился стрелять. Это два. И в-третьих, нападавшего могли взять живым и допросить, но гитлеровец его добил. Типа: концы в воду. И вдобавок, чуть ли на блюдечке, из кармана убийцы появляется документ, ясно указывающий на его связь с «бандеровцами». Подстава это, Коля. Самая, что ни на есть, наглая подстава. Но зачем?
– Говорил я тебе, Степан, – зачем. Немцы сначала, по вашей же просьбе, «бандеровцев» перебьют, а потом еще один такой трюк провернут и за вас возьмутся. Когда вы им больше нужны не будете.
– Ну, это мы еще посмотрим, – грозно рявкнул Степан, – разберемся, что тут к чему.
– Что предпринять-то думаешь?
– Значит, так, Коля. Ты с хлопцами своими в это дело не лезь. Это вам не полицаев пустоголовых отравой поить. Тут серьезные и опасные люди замешаны. Я уже жалею, что послал тебя за ним проследить. Кто же знал, что он офицером окажется? К тому же эсэсовским. А расследование я сам проведу. Я же все-таки криминальоберассистент. Добрэ?
Я кивнул.
– Ну, тогда пошли в дом, ужин стынет.
– Постой, Степан, – остановил я его, – тот эсэсовец…
– Что с ним?
– Я хочу его убить…
– Вот как? – с печальной жалостью взглянул на меня Степан. – Убить, значит? Ну-ну… Что тебе сказать? Изменился ты, Коля. Очень изменился. Смотрю на тебя: вроде мальчишка, как мальчишка. Но вот глаза… уже совсем не детские… Огонь недобрый в них горит. За девушку отомстить хочешь? Понимаю. Но выкинь это из головы. Пока, во всяком случае. Тут по-взрослому решать надо. СС организация серьезная. Шутки с ними плохи.
– Что значит по-взрослому?
– По-взрослому – это по уму. Вам полицаев в речке утопить разок повезло, – так думаете, теперь всегда везти будет? На везение рассчитывать глупо. Что самое главное на войне?
– Победить?
– Нет, Коля, – выжить! Мертвые не побеждают. А вот сможешь в живых остаться – тогда, глядишь, и победить сумеешь. Ты хлопец смышленый. Так что сначала думай и только потом делай. И со мной советоваться не забывай. Первым в пекло не лезь. А то твоя еврейская принцесса без молодого козака останется! – толкнув меня локтем в бок, Степан благодушно ухмыльнулся и, обрывая разговор, властно скомандовал. – А теперь, – всё! Ужинать пошли. Надеюсь, ты меня понял.
Взяв за руку, он помог мне подняться с колоды и, легонько подтолкнув вперед, потянул за собой в дом, откуда доносился приятный запах готовящейся еды…
Глава вторая
– Степан прав. Не нужно вмешиваться, – заключил Генка, внимательно выслушав мою версию убийства пана Сциборского, – зачем нам «бандеровцев» защищать? Они против Советской власти выступают! А значит, – такие же враги, как и немцы!
– Именно так! – гневно добавила Маша. – Даже, если они тут не замешаны, ими столько невинной крови пролито, что тысячу раз осудить мало!
– Я не спорю. Просто до правды докопаться хотелось…
– А не надо для «бандеровцев» правду искать! Свою они растеряли, а нашу не заслужили! Пусть их теперь немцы как собак бешеных бьют – я только порадуюсь, – возмущенно выкрикивал Генка, после каждого слова выпуская изо рта холодный пар.
С первым днем осени начались затяжные дожди, лившиеся не переставая, вот уже второй день подряд. Лето кончилось так внезапно, что изнеженное августовской жарой тело, еще не привыкнув к перемене погоды, жестоко страдало от ночных холодов. Сидя на кровати и укутавшись в тонкое одеяло, я наблюдал, как Маша ловко вывязывает из клубка собачью шерсть, сотворяя нечто, что, по ее словам, должно превратиться в теплую зимнюю жилетку.
Можно, конечно, печь затопить, но дров осталось почти ничего, и будут ли они – неизвестно. Вырубку деревьев немцы запретили, а весь уголь на грузовом трамвае доставлялся с вокзала прямо на электростанцию. Людям не выдавали. Пришлось хворост на Русском кладбище собирать. Промокли с Генкой насквозь. Но выбора не было. Сегодня уже б не досталось. Местные выгребли все. Даже листья.
– Что-то Казик долго не идет. Он точно к десяти обещал? – спросил я у Генки.
– Таков был уговор. Может, от дождя где-то прячется, – ответил он, взглянув на настенные часы.
Половина второго. За окном послышался негромкий шорох мягко подкатившего автомобиля, и через несколько минут в дверь постучали. Коротко, отрывисто, в два раза. Тук-тук, пауза, тук-тук-тук. Мать. Удар ногой. Предупреждает: не одна.
Маша, схватив перину и вязание, мигом скрылась в своей потайной комнатке; Генка задвинул шкаф; я поспешил к двери.
– Уф! Ноги промочила, – спасаясь от холодных капель дождя, мать, стряхнув зонтик, быстро заскочила в дом.
Вслед за ней напролом ввалился Женька и, насмешливо оглядев накинутое на мои плечи одеяло, безапелляционно заявил:
– Хватит мёрзнуть, братцы. Поехали похороны смотреть!
– А ты зачем ногой в дверь стукнула? – спросил я мать.
– В машине немец сидит. Водитель. Мало ли… вдруг в дом запросится? Не дай Бог, Машу увидит, – пояснила она, вынимая из шифоньера черный траурный платок, – работникам управы велели в Преображенский собор явиться. Там Сциборского и Сеныка хоронят. Герр Пройсс предоставил авто́. Так что, если хотите, – поехали тоже. Только второй зонтик возьмите.
– Поехали, поехали, – бодро поддакнул Женька, – на улице теплей, чем в доме. И транспорт уже под окнами стоит.
– Нам бы Казика дождаться, – неуверенно ответил я, – он обещал прийти к десяти. А сейчас почти два.
– Думаю, он со Степаном. Твой дядя где-то краску вчера достал. Зеленую. Забор хотел покрасить. А тут дождь. Может, у Доминики заночевал, – предположила мать, – наверное, они уже возле церкви. Степан похороны не пропустит.
Пока мы с Генкой собирались, Женька, постучав пальцами по шкафу, позвал Машу и через стенку с ней немного поболтал; мать надела новый, купленный еще до войны и почти неношеный плащ из серого габардина; и наконец, по одному выскочив на улицу и забравшись в машину, мы покатили в церковь, молча прислушиваясь к звукам барабанившего по откидной брезентовой крыше неугомонного дождя.
Смешиваясь с шумом капели, со стороны Преображенского собора послышался мягкий колокольный перезвон. Богослужение, разрешенное немецкими властями и ознаменованное крестным ходом, возобновилось всего несколько дней назад, и церковные колокола после двадцатилетнего молчания запели вновь, создавая новую, ранее мне незнакомую мелодию, умиротворяющую своей спокойственной монотонностью. Такую я не слышал никогда.
Несмотря на непрекращающийся дождь, все пространство вокруг церкви было заполнено собравшимися на похоронную процессию траурно одетыми людьми. Тела уже были опущены в выкопанную возле входа в собор могилу, и длинная вереница выстроившихся в скорбную очередь мужчин и женщин, прощаясь с усопшими, ползла вдоль нее, наполняя горсть за горстью мокрой землей.