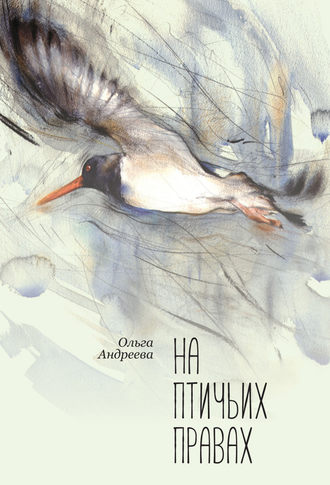
Полная версия
На птичьих правах
«Это февральский Ростов. Это Кафка…»
Это февральский Ростов. Это Кафка.Серое мутное жидкое небо.Город бессилен, контакт оборвалсяоста и веста, и севера с югом.Мерзко, но цельно зияет подсказкав грязных бинтах ноздреватого снега:всё завершится сведённым балансом —жадность и страх уничтожат друг друга.Не соскользнуть бы в иллюзию. Скользко.Под сапогом мостовая в движеньекобры шипучей. Портовые краныкромку заката изрезали в раны.Тот, кто взошёл на Голгофу – нискольконе нарушает закон притяженья.Можно об этом поспорить с Ньютономзапанибродским этаким тоном.Почерк врача неразборчив – подделайвсё, от анамнеза до эпикриза:может, дозиметры и не зашкалят,только повсюду – приметы распада.Выпить цикуту? Уйти в декаденты?В партию «Яблоко?» В творческий кризис?Я ухожу – я нашла, что искала —в сказочный город под коркой граната.2. «Не проклюй мне висок – он ещё пригодится…»
«На изгибе весны, на суставе грозы с потепленьем…»
Я люблю одинокий человеческий голос, истерзанный любовью.
Федерико Гарсиа ЛоркаНа изгибе весны, на суставе грозы с потепленьем,с набуханием почек, паническим ростом травы,разветвленьем суждений о жизни и воцерковленьемвсех агностиков – к Пасхе, с прощеньем чужой нелюбви,во младенчестве млечном и солнечном Вербной недели,сквозь десант одуванчиков в каждый очнувшийся дворпрорастает отчаянно глупое счастье апреля,просто так, от души, нашей злой правоте не в укор.Как на скалах цветы – не для нас распускают созвездьяв раннем марте, под снегом, на северных склонах, во мхах —да кому мы нужны с нашей правдой, и болью, и жестью,вечной просьбой бессмертия и паранойей греха —в царской щедрости мокрого парка. Так что ж мы, уроды,сами сбыться мешаем своим нерассказанным снам?Под раскаты грозы пубертатного времени годав мир, любовью истерзанный, всё ещё входит весна.«Твои диктанты всё короче…»
Твои диктанты всё короче —Ты больше стал мне доверять?А может, меньше? Между прочим,я разучилась повторятьслова молитвы. Паранойятерзает эпигонов всласть,те, кто спасён в ковчеге Ноя,хотят ещё куда попасть,да забывают от азарта,о том, что человек не зверь,что золотому миллиардуне уберечься от потерь,что голодающие детинам не простят своей судьбы,и много есть чего на свете,что не вмещают наши лбы —упрямые от страха смертии робкие от страха жить.Не для меня планета вертитТвои цветные витражи,В мозгу искажены масштабы —пыталась верить, не любя,а без задания генштабатак сложно познавать себя,не отвратит Твой гневный окрикот эйфории, от нытья,и я сама себе апокриф,сама себе епитимья,сложнее пуританских правилнескромное Твоё кино,порой Твой юмор аморален —но что поделаешь – смешно.«И кризис, и холодная зима…»
И кризис, и холодная зима —но есть БГ. Семь бед – за все отвечу.Наушники не стоит вынимать —без них так страшно. Нелогичен вечер,негармоничен – этот лязг и визгнедружественный, слякоть, оригамидвумерных ёлок, плоских, грузовикнаполнивших рядами, штабелями,и радио в маршрутке. Стёб да стёбкругом. И кризис бродит по Европе.Бьёт склянку колокол. И музыка растётв наушниках. Свободна от оброкапроизнести, не применяя ямбтот монолог, что сам в меня вселился.Мороз крепчал – надёжный старый штамп,мороз крепчал – и Чехов веселился.Её материал – сплошной бетон,а ты в него вгрызаешься зубами,пока не разглядишь, что небосклонне над тобой уже, а под ногами,вокруг, везде… И призраки мостоввстают в тумане. Встречных глаз унынье.Звезда над филармонией. Ростов —сверхперенаселённая пустыня.По мне звонит в кармане телефон.Спасибо. Доживём до новых вёсен.Я принимаю, узнаю, и звонмобильника приветствует – прорвёмся.«Воскресение. Чайно-ореховый омут…»
Ты можешь подвести коня к реке, но ты не можешь заставить его пить.
Восточная мудростьВоскресение. Чайно-ореховый омутглаз напротив. Как редко играем мы с ней!Наши шахматы можно назвать по-другому,потому что Алёнка жалеет коней —и своих, и моих. Отдаёт, не колеблясь,и красавца ферзя, и тупую ладью,но четыре лошадки, изящных, как лебеди,неизменно должны оставаться в строю.От волненья у пешки затылок искусан,в каждой партии странные строим миры.Я иду вслед за ней в этом важном искусстве,я учусь выходить за пределы игры.Надо выдержать паузу, выдержать спинуи подробно прожить откровения дня.Эта партия сыграна наполовину.В ферзи я не хочу. Отыграю коня.Торжество справедливости – странная помесьпустоты и досады – сквозь пальцы улов.Выхожу на спираль – если вовремя вспомню,что великий квадрат не имеет углов[1].Ни корон, ни дворцов, ни слонов, ни пехоты,перейду чёрно-белых границ череду,распущу свою армию за поворотоми коня вороного к реке поведу.Новый Афон, пещера
Там солнце рыщет спаниелем рыжим,но непрямоугольные мирыи первобытный хаос неподвижнывнутри курчавой Иверской горы,лишь факельных огней протуберанцы.Не обернусь, но знаю наизусть —такой организацией пространстватеперь я никогда не надышусь.Под трещинами каменного небанеровный серый грубый известняк,зелёные отметки наводнений,подземные овраги – и сквозняктам, где неверной левой я ступалана твой ребристый серебристый спуск,в колонию кальцитовых кристаллов,не раскрывая створок, как моллюск,от рукокрылых прячась в нишах скользких,в меандрах холодея на ходу.Мне скажет Персефона – ты не бойся,иди, не так уж страшно здесь, в аду.В энергию застывших водопадов,в холодный бунт мерцающих озёр,клыков известняковых эскападыты обратишь свой страх и свой позор.Прошу – «Приятель, убери свой Nikon» —уже одной из местных Персефон, —как в храме – ну нельзя на фоне ликов! —так здесь – нельзя, здесь сам ты – только фон!Нет воли разозлиться, крикнуть – «тише!»,их болтовня пуста – да неспроста.Они галдят – чтобы себя не слышать —и всё же их спасает красота,по капле, не спеша, как сталактитырастут в веках – так в нас растёт душаВселенной, так тысячелетья слитыв спартанский твой космический ландшафт.А поклониться каменной Медузелишь избранным дано – так за алтарьне каждого пускают. Разве – музыпо кружевным полам, да пара стайнетопырей. А в карстовых глазницахзвучит орган. Не поросли бы мхом!И как бы мне в сердцах не разразитьсянаивно-назидательным стихом…«Этот город накроет волной…»
Этот город накроет волной.Мы – не сможем… Да, в сущности, кто мы —перед вольной летящей стенойпобледневшие нервные гномы?Наши статуи, парки, дворцы,балюстрады и автомобили…И коня-то уже под уздцыне удержим. Давно позабыли,как вставать на защиту страны,усмирять и врага, и стихию,наши мысли больны и странны —графоманской строкой на стихире.Бедный город, как в грязных бинтах,в липком рыхлом подтаявшем снеге,протекающем в тонких местах…По такому ль надменный Онегинвозвращался домой из гостей?Разве столько отчаянья в чаеежеутреннем – было в начале?На глазах изумлённых детейпод дурацкий закадровый смехпроворонили землю, разини.Жаль, когда-то подумать за всехне успел Доменико Трезини.Охта-центры, спустившись с высот,ищут новый оффшор торопливо,и уже нас ничто не спасёт —даже дамба в Финском заливе,слишком поздно. Очнувшись от сна,прозревает последний тупица —раз в столетье приходит волна,от которой нельзя откупиться.Я молчу. Я молчу и молюсь.Я молчу, и молюсь, и надеюсь.Но уже обживает моллюскдень Помпеи в последнем музее,но уже доедает слизнякчистотел вдоль железной дороги…Да, сейчас у меня депрессняк,так что ты меня лучше не трогай.Да помилует праведный судсоль и суть его нежной психеи.Этот город, пожалуй, спасут.Только мы – всё равно не успеем.«Жить можно, если нет альтернатив…»
Жить можно, если нет альтернатив,с их жалостью к себе и пышным бредом.Скажи, когда сбиваешься с пути —я здесь живу. Не ждите, не уеду.Вдруг, ни с чего, поймёшь как дважды два —тебя приговорили к вечной жизни —когда плывёт по Горького трамвай —одинадцатипалубным круизным…А в небе лето – аж до глубины,до донышка, до самого седьмого —акацией пропитано. Длинныпериоды его, прочны основы,оно в себе уверено – плывётгондолой ладной по Канале Грандеи плавит мёд шестиугольных сотдля шестикрылых, и поля лавандыполощет в струях, окунает в знойи отражает в колыханье света.Так подними мне веки! Я давноне видела зимы, весны и летаи осени. Послушай, осени,взгляни – и научи дышать, как надо!…Свой крест – свой балансир – начнёшь ценить,пройдя две трети этого каната.В клоаке лета, в транспортном адустрочить себе же смс неловко,оформить то, что ты имел в виду,в простую форму. Формулу. Формовкастихий в слова и строки допоздна —и смежить веки в неге новой сутры.И выскользнуть из мягких лапок снак ребёнку народившегося утра.«Истеричный порыв сочинять в электричке…»
Истеричный порыв сочинять в электричке,свой глоточек свободы испить до конца,внутривенно, по капле, ни йоты сырцане пролить-проворонить, чатланские спичкине истратить бездарно. Побегипо ошибке – а значит, для муки,тянут почки, укрытые снегом,как ребёнок – озябшие руки.На замке подсознание, ключик утерян,не дано удержать себя в рамках судьбы —лишь бы с ритма не сбиться. А поезд отмериттвой полёт и гордыню, смиренье и быт.Я вдохну дым чужой сигареты.Частью флоры – без ягод и листьев —встрепенётся ушедшее лето —опылится само, окрылится,и взлетит – несмышлёным огнём скоротечным.Но шлагбаум – как огненный меч – неспроста.Но в узоры сплетаются бренность и вечность,жизнь и смерть, жар и лёд, и во всём – красота.Этот калейдоскоп ирреален —под изорванным в пух покрывалом —вечно старые камни развалин,вечно юные камни обвалов.Это раньше поэтов манила бездомность,а сегодня отвратно бездомны бомжи,этот жалкий обмылок, гниющий обломокбогоданной бессмертной погибшей души.Страшный след, необузданный, тёмный,катастрофы, потери, протеста,и в психушке с Иваном Бездомнымдля него не находится места.Не соткать ровной ткани самой Афродите —чудо-зёрна от плевел нельзя отделить.Кудри рыжего дыма растают в зените,на немытом стекле проступает delete.Но в зигзаги невидимой нитьюмягко вписана кем-то кривая.Поезд мчится. И музыка Шниткеразрушает мне мозг, развивая.«Диктат языка начинается с табула расы…»
Диктат языка начинается с табула расыи школьной привычки обгрызть то, что держишь в руках,с невнятной, крылатой, едва оперившейся фразы, —стряхнув твои вздохи, эпитеты, блёстки и стразы,лучом неподкупным и строгим ложится строка.Симфония звуков, оттенков и запахов лета,тебе одному предназначенный смайлик луны…На лживый вопрос не бывает правдивых ответов,и снова вернётся с жужжащим нытьём рикошетаунылая правда твоей ницшеанской страны.В глубинах фрактальной мозаики листьев каштанапроступит на миг – что сумею, в себе сохраню,увижу, где хуже – да видимо, там и останусь.Сбегу – мир не выдаст однажды открытую тайну,она не случайно доверена мне – и огню.Но сколько ни лей эталонную мёртвую воду,ничто не срастётся – и дальше пойдём налегке.Ни Чёрная речка, ни Припять, ни Калка, ни Волганас не научили – что ж толку в той музыке колкой,тревожным рефреном пружинящей в каждой строке?Порталы закрыты, здесь каждый в своей параллели,– но слабенький звон несквозной переклички имён…Со скрипом немазаным тронется жизни телега,востребован стих некрещёным моим поколеньем,как тонкая ниточка рвущейся связи времён…Диктует язык – и уже раскрываются створкимоллюска души – ну, дыши, будь живее, чем ртуть,и выпусти джинна пружину из тесной подкорки, —я знаю, как надо, я здесь ничего не испорчу!…Забудь о свободе. Придумай другую мечту.Откуда свобода у тех, в чьём роду крепостные?Дурная генетика в нас – и бессильны волхвы.Безмолвствуют гроздья акации предгрозовые,всё тише пасутся стада на просторах России,планета Саракш разместилась внутри головы.Язычество многим даётся само, от природы,а для христианства не вызрели свет да любовь.Подняться над собственным опытом робкие пробы —и есть твой полёт, твоё поле, твой вектор – за строгийдиктат языка, и что это случилось с тобой.Ушедшему лету и новому фонтану на набережной
Слабо? О том, как мириады… нет, много, ладно, миллионы — лианы, радуги, дриады, в твоём сознанье воспалённом — здесь, наяву, потрогать можно и не обжечься – но – не примут в свой светлый танец весь промокший будь даже балериной-примой —смешно и думать. Просто внемли, благоговей, вбирай, наполни все капилляры, жилы, нервы. …вольны – дискретны — снова волны…О том, что не фонтан – умеешь, а тут – фонтан! И ты бессилен взгляд оторвать гипноз важнее нет ничего вот разве синью пунцовой вглубь чернеет небо чего ж ещё? – вода струится сливается, дробится в небыль и возвращается сторицей как те слова… сто леопардов, лиловых золотых зелёных —их ловят дети – прыгать, падать, глотать осколки брызг солёных спеши, пиши его с натуры насколько хватит ямбов, красок, его сложнейшей партитурыне исчерпать речёвкой страстной, и этот хор – его кантаты, их бесконечное кипенье — вода – пылающие кудри, о, детвора на карусели вот так смеётся, пенье статуй, огня, занявшегося пеной, всем водопадом перламутра в тебя впадает воскресеньеАлександру Соболеву
Искандер, эти рекитесны и горьки для того,кто привык родниковой водойутолять свою жажду.Как ручьи ни чисты,кто вступил в эту реку однажды —не отмоется,нет иорданской волны. Бисер твойрассыпается, не успеваешь сыграть, ни догнать,ну их к чёрту, такие игрушки.Немало народуне заметили сами,когда же лишились огняв благородном стремлениивыйти на вольную воду.Только там, за буйками,всего лишь трясёт и тошнит,ничего больше нет.Те, кто плавает в мелкой посуде,застолбили фарватер,развесили всюду огни,незаконнорождённых (как Фет) даже слушать не будут.Постоянно рублю каждый сук, на котором сижу,и пытаюсь взлететь,отвергая позор притяженья.Получается изредка —неосторожным движеньемприоткрыть над собойчьей-то воли бездонную жуть.Эту чашу медовуюпёрышком не исчерпать,все, кто был,лишь притронулиськ терпкому лунному краю.Для Сизифа камней неподъёмных повсюду хватает,и нетленной солёной колонной висит снегопад.В каждой осени —новый обет избежавших клише.В каждом омуте —тихие черти волшебной свободы.Камень, брошенный в воду,всегда попадает в мишень,в самый центр кругов,с трепыханьем по левому борту.«А снег так и не выпал. Он кружил…»
А снег так и не выпал. Он кружилнад городом в сомненье и смятенье,носился над землёй неверной тенью,но не упал. Лишь холодом до жилночь пробрало. Жестокая звездабесстрастно щекотала гладь бетонки,а снег, потупясь, отлетел в сторонкуи выпал в Нальчике. Чужие поездавдруг осветили – человек лежитв кювете. Но такому контингентуне вызвать «скорую», как будто чья-то жизньотмечена печатью секонд-хенда.Я откуплюсь от нищих и бомжей,всем – по монетке. Спи, больная совесть.Сам виноват. Смеркается уже,пора домой, пока есть дом. А повестьего проста. Сам виноват. Не я.Перед собой. А я – не виноватаперед собой? Тащить-тяжеловато.Невыносима лёгкость бытия.А снег нас не прощает. Наши сныне смяты ни виною, ни любовью.Он где-то засыпает – до весны —и ангел засыпает в изголовье.3. Ласточке

«Когда проходит время сквозь меня…»
Когда проходит время сквозь меня,ему покорно открываю шлюзы —не стоит перемычками иллюзийзадраивать отсек живого дня,и ламинарный лимфоток столетийне заслонится частоколом дел,а время растворяется в воде,качает мёд – наверно, в интернете…Я покорюсь – и вот простой узорчитается цветной арабской вязью,двумерный мир взрывается грозой,дорогой, степью, неба органзой,причинно-следственной необъяснимый связью.Такой диалектический скачок —забыть себя – чтобы собой остаться.…Подсолнухов – не меньше, чем китайцев,и все влюблено смотрят на восток.Когда пытаюсь время удержать,используя истерики, торосы,пороги, слёзы – ни одна скрижальне даст ответа на мои вопросы.Смятенье турбулентного потокапорвёт, как тузик грелку, мой каприз.Во мне живёт латентный террорист,и я за это поплачусь жестоко.Домой! Мой дом древнее Мавзолея.Жизнь удалась. Хай кволити. Кинг сайз.Спасибо, время, что меня не лечишь,не утешаешь меткой в волосах.И в позе аскетической, неброскойподсолнухи в гимнастике тайдзи.Мне ничего плохого не грозитс такой самодостаточной причёской.«Модем зарницы мечет. Тень от люстры…»
Модем зарницы мечет. Тень от люстрытанцует странный танец потолочный.Мой дом непрочный – не настолько, чтобыне сохранить инерцию покоя —опять дрожит невнятицей, строкоюнесбыточной – до белизны, до хруста.Взрывают храмы, подземелья роют —нестройный клин, несмелый иероглифприносит весть – пути исповедимыу ветра, у орла, у дев… Однаконичто не предвещало снова зиму —лишь лебединый почерк Пастернака.Мне кофе. Больше чашку, эта слишкоммала. Я буду жить, не напрягаясь.Носков махровых полосатых роскошьвпущу в мой мир, и плюшевого мишку.Вас не впущу. Смолчу, переморгаю,не доверяя матери-природе.Домбайское
Веди меня за солнечным руном,овечьей шерстью грей январским утром,пои – в морозном, синем, кружевном —горячим терпким ягодным вином,окутывай туманом златокудрым.Да, это верно, дар даётся в долг,и, видимо, совсем уже недолгомне жить в раю, где каждый свежий вдохгорчит виной несбывшегося долга.Все деградируют. Я тоже, в их числе,поскольку рабство – пища для планктонакосноязычного. Мне мой негорький хлебсвободы стоит… Мягко-непреклоннысвятые ели – в облаках поют —с открыток детства – видят всё, до лета —мне надо жить, а я брожу в раю,дышу озоном и пою куплетыиз мантр БГ. Цветные тиражи,туманы, океаны, миражи,несметных птиц Твоих живые лики, —квадриллионы злаков, трав и листьев,единых в миллионах вариаций.Ты прав, что не желаешь повторятьсяи штамповать, как мы – поступки, сны, —в безвольном ожидании весны.Сквозь времена нас вечно тянет в сад,откуда изгнаны, в ущелья и леса,но мы уходим вниз – в поту лицаискать свой хлеб и прочее иноененужное, и подличать спиною,неся потенциал своей судьбыв глазах и незадачливых движеньях.Я здесь – на лыжи – вниз, стремленье быть —сильнее логики – в простом скольженьеесть счастие. Как этой ели, мнесудьба тянуться к солнцу неустанно,и удержать на сильных лапах снег,храня его слепую первозданность.Сосновых шишек на меду настой,тепло глинтвейна и подол тумана…Пока не стала серой и глухой —разбереди мне снова эту рану.В уютной чаше старого Домбаяещё раз убедиться, что живая.«Не стало блаженных – и кто нам предскажет пожары…»
Не стало блаженных – и кто нам предскажет пожары,погромы, поборы, кто вовремя нас остановит?Я всё же немного сложнее воздушного шара — наверное, возраст. Всё так упростилось: до крови,до рожи синюшной, счастливо зияющей в зимубеззубой улыбкой – как радость в нас неистребима…Не сдержит нас слово, в котором не стало закона —изжито, отжато и выглядит жмыхом лимонным.Сегодня приснилось под утро – мы утро лепили,совсем неумело, из липкого серого хлеба,нелепо, руками. Нас этому плохо учили,разорвана связь поколений. Но рваное небобеременно снегом. Неважно, что серое – белым,чистейшим, наш случай хронический, что с нами делать?Покой, ощущение дома встаёт из тумана —ведь каждый ребёнок – не только от папы и мамы.Из сотни юродивых – сколько глядит в фарисеи?Не стало стыда, диким шабашем выглядит праздник.По-прежнему тупо и неумолимо взрослею.Сегодня меня без перчаток и трогать опасно.«Только в пять выхожу…»
Только в пять выхожу —чем же мы не полярные совы?Если солнце и есть —мы с ним словно бы и не знакомы.В темноте человека не видно —плывём, невесомы,не в себе и ни в ком,имяреки, до самого дома,словно реки, течём —никогда не впадая друг в друга,в параллельных реальностяхмыслей, забот, представленийо прошедшем и будущем,ноги футболят упругошар земной терпеливый,слегка раздражённые тенипоглощаются транспортом,чтобы смениться другими,наше время – не деньги,оно нам гораздо дороже,и кредит не возьмёшь…Так недолго носить своё имя,так немного успеешь понятьв этот вечер морозный.«Декабри не кончаются, это пустые листы…»
Декабри не кончаются, это пустые листынеотбеленной свежей прохладной форзацной бумаги,к новогодней мистерии чуткой. Светлейшей из магиймы их просто штрихуем дождями, наводим мостымежду днями и вечностью через провалы судеб,золотые ущелья без доступа внешней тревоги.Мир сбивал меня с ритма – сосед вечно слушает рэп.Это дождь накосячил – горшки обжигают не боги.За свинцовость реки, размышляющей, течь или снывековые смотреть до несбыточной новой весны,за свинчатку дождя, за покровы обугленных тучстебельком неразумным проклюнулся узенький луч,так прорежутся крокусы в марте сквозь твердь изнутри,острым ножичком вспорют бездарную плотность и сухостьнаслоений – сказать: не могло – но случилось, смотри —много спросится, только ответ – за пределами слуха.У земли, непохожей на губку, невидимых пор,жадно пьющих и алчущих – тысячи, – воду ли, время…Кудри рыжего дыма, вращаясь, уходят в раствороблаков, доказавших незыблемый хлад теоремы.Я закрою глаза – изнутри догорает огонь,ярко-красный, и бьётся – вот именно – в тесной печуркеголовы. Ветер выдуть старался нагой —только волосы выпрямил. Пусть задувает окурки.Я устала, я так отдыхаю – вздыхаю и чайпрогоняю сквозь поры и листья, сквозь клетки, и трубки —там их много, я видела видео. Музы молчат —значит, пушки вступают, и вдрызг разлетается хрупкийдень – встряхнуть и расправить,как скатерть на чистом столе,я сама виновата в бездарности пьесы недлинной,виновата – не больше той женщины на корабле,я же помнила в юности главный свой эквивалент,мирозданье равнялось… чему? В той системе зеркалты всегда находил, даже если не слишком искал,оправданье всему, в чём достаточно адреналина.Искривлённость пространства на лицах почти не видна —все закрыты, разумны, причёсаны строго и просто.Но смотри – изнутри в Темерник набегает волнаи тревожит устои железобетонного моста.Через тысячу лет не узнаем названия рек.Городов очертанья на карте и речь – всё иное.Ну так что мне привычный двукратно подтаявший снег,длинный стих мой невнятный, размытый плеснувшей волною.Мир прекрасен и хрупок… Но я не об этом сейчас.Есть лекарство в конце от иллюзий, амбиций, идиллий.Полыханье физалиса выхватит гаснущий глаз —спасены. Всё вернулось. И вспомним, зачем приходили.«Мой двор, лоскут вселенной отрезной…»
Мой двор, лоскут вселенной отрезнойс её дождями, листьями, весной —неброской, без рисовки и вранья,с собачьим лаем, граем воронья,с экспансией голодных муравьёв,грызущих наше бренное жильё,и чередой жердёловых стихий,впадающих в варенья и стихи.Встать до восхода и писать, писать,пока луна цела и голосаэриний мирно ладят за окном,пока во мне – светло, в окне – темно.Но это будет завтра, а покавновь – пятница, последний день Сурка.Река – узка, изломана, остра.Как спинка молодого осетра,изрезаны и топки берега,нечастая ступает здесь нога,войти в неё и подвести итог —соврать себе,что ты хоть что-то смог.Сад брошен, вишни вянут на ветвях.Мы не нужны Тебе? Извечный страх,живущий в неуютных головах.Излишество набора хромосом.Ещё не старым ржавым колесомя докачусь до горнего суда,я попрошу вернуть меня сюда.
