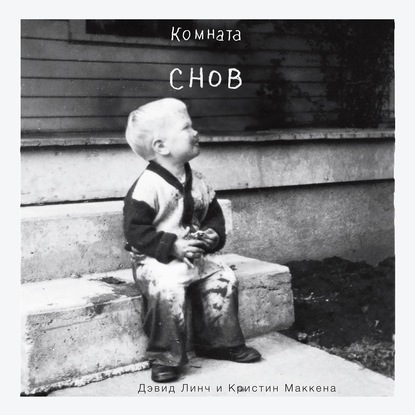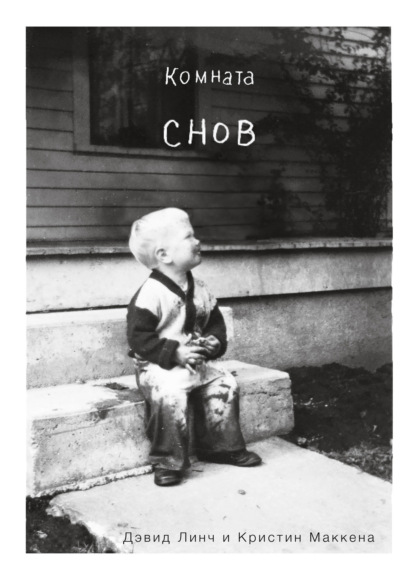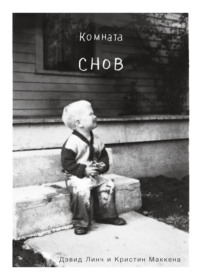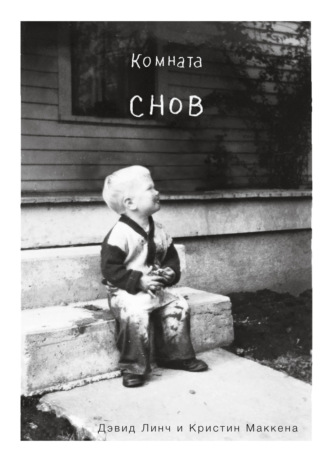
Полная версия
Комната снов. Автобиография Дэвида Линча
Мир искусства Нью-Йорка меня не интересовал, и поступление в колледж ничего для меня не значило. Не знаю, почему я выбрал именно Школу Музея изящных искусств в Бостоне, это просто пришло в голову. Я хотел в Бостон. Название института звучало так круто, но мне в нем совсем не понравилось. Я даже почти не посещал занятия, потому что боялся выйти из квартиры. У меня была агорафобия, и до сих пор немного осталась. Мне не нравится выходить на улицу. Отец сказал, что мне нужно найти соседа по комнате, потому что квартира обходилась слишком дорого, и я повесил в институте объявление. На него отозвался парень по имени Питер Бланкфилд, который позже сменил имя на Питер Вольф и стал солистом в группе J. Geils Band. Он пришел ко мне и сказал: «Хочу быть твоим соседом». Я ответил: «Хорошо», и он въехал в ту же ночь.
У другого парня, Питера Лаффина, был грузовик-пикап, и как-то раз мы втроем сели в него и поехали из Бостона в Бруклин или Бронкс или куда-то еще за вещами Питера. Они курили травку в машине, а я никогда не курил – меня и так уносило от того, что я в машине, и они давали мне затянуться. Они знали, как действует марихуана, и знали, что я не знаю, и говорили: «Эй, Дэвид, вот бы сейчас пончика, а?» Я отвечал: «Я бы съел пончик!» Мы брали вчерашние пончики, и я так торопился их съесть, что вдыхал горы сахарной пудры в легкие. Надо было соблюдать осторожность.
Была моя очередь вести машину, мы ехали по скоростной автостраде, и было очень-очень тихо. Затем я услышал, как кто-то сказал: «Дэвид!» Опять тишина. Снова: «Дэвид! Ты остановился на автостраде!» Я смотрел на линии, нарисованные на дороге, и они все замедлялись и замедлялись. Мне так понравилось, что я ехал все медленнее и медленнее, пока линии не перестали двигаться. Я остановил машину посреди восьмиполосной магистрали, а мимо пролетали другие машины! Это было невероятно опасно!
Почему-то мы остались на квартире у какого-то парня. Она была освещена несколькими рождественскими гирляндами, в основном красными. В его гостиной стояли гигантский разобранный мотоцикл и несколько стульев – казалось, что мы вошли в ад. Затем мы поехали к Питеру и спустились в подвал. Я мыл руки, набирая в ладони темную воду, и вдруг на ее поверхности проступило лицо Нэнси Бриггс. Я просто смотрел на нее. Это был первый раз, когда я курил марихуану. На следующее утро мы погрузили вещи Питера и пошли навестить Джека, который рассказал мне, что некоторые студенты в его институте употребляют героин. Я зашел на вечеринку в доме Джека и увидел там паренька в шелковой рубашке, сжавшегося в углу, – он явно был под героином. В те времена хиппи были повсюду, и я не то чтобы смотрел на них свысока, но все это казалось лишь модной причудой. Большинство из них питалось лишь изюмом и орехами. Многие одевались в индийские одежды и называли себя практиками медитации, но я тогда не хотел иметь дела ни с чем, что как-то этого касалось.
Спустя несколько месяцев я вышвырнул своего соседа Питера. Вот что случилось: я пошел на концерт Боба Дилана, а мое место оказалось рядом с девушкой, с которой мы только что расстались. Я поверить не мог, что сижу рядом с ней! Очевидно, мы собирались пойти на этот концерт еще когда были вместе, но потом расстались, и я пошел один. Я был потрясен, что она тоже пришла! И подумал: какое совпадение, что наши места оказались соседними. Они были, кстати, очень плохими, где-то позади, очень далеко от сцены. Был 1964 год, и Дилан выступал без группы – он был один и казался невероятно маленьким. С помощью большого и среднего пальцев я прикинул длину его джинсов и сообщил девушке, что их длина составляла одну шестнадцатую дюйма. Затем я измерил его гитару и воскликнул: «Его гитара такой же длины!» Все это походило на некий магический ритуал, и мной начала овладевать паранойя. Я дождался перерыва и выбежал на улицу. Было холодно, но свежо, я подумал: «Как хорошо, что я вышел» и отправился домой. Возвращаюсь я домой, а там Питер с толпой друзей, и он такой: «Что? Никто не уходит с концертов Дилана!» А я в ответ: «Я, черт возьми, ухожу. А ну проваливай отсюда». И вышвырнул их всех вон. Я помню, как в первый раз услышал Дилана по радио в машине, когда ехал с братом, и мы смеялись, как сумасшедшие. Это была песня “Blowin’ in the Wind”, у нее было очень крутое исполнение, но по-смешному крутое.
Школу Бостонского музея я посещал лишь два семестра, и то во втором на занятия почти не ходил. Единственное, что мне нравилось, – класс скульптуры, который располагался на чердаке музея. Комната была около семи-восьми метров в ширину, но длина ее составляла не один десяток метров, а потолки были невероятно высокими, и все пространство заливал дневной свет. Здесь стояли большие ящики с глиной и гипсом.
Преподавателя звали Джонфрид Георг Биркшнайдер, и когда он получал свой чек, то немедленно переписывал его на счет бостонского бара с отполированной до блеска стойкой из темного дерева метров тридцать длиной – попросту напивался. Его подругу звали Натали. Когда я уезжал на Рождество в Александрию после первого семестра, то пустил их пожить у меня. Когда я вернулся, они никуда не уехали и прожили со мной еще несколько месяцев. Я рисовал в одной комнате, другую заняла Натали, а он просто сидел со мной, но это мне не мешало. Он открыл мне «Мокси» – аналог колы, который пили в Бостоне. Я ее терпеть не мог, пока не обнаружил, что, если положить бутылку в холодильник, крышка отделится и останется только мягкий лед, очень вкусный. Что стало с Джонфридом Георгом Биркшнайдером, мне неизвестно.
Я ушел из колледжа, и мы с Джорджем отправились в Европу. Мы поехали туда, потому что это мечта любого человека искусства, понятия не имели, что там делать. Деньги были только у меня – может, и у Джека было немного, если он писал домой, – но мы прекрасно провели время, ну почти. Нам не понравился только Зальцбург, и, пережив это разочарование, мы отправились куда глаза глядят. У нас не было плана. Из Зальцбурга мы уехали в Париж, где провели пару дней, затем сели в настоящий «Восточный экспресс» в Венецию, а потом пересели на поезд с угольным отоплением, направлявшийся в Афины. Мы прибыли туда ночью, а утром я увидел на стене и потолке моей комнаты ящериц. Я хотел именно в Афины, потому что отца Нэнси Бриггс перевели, и он должен был приехать сюда спустя пару месяцев, и Нэнси могла быть с ним, но в итоге я провел в этом городе всего один день. Я подумал, что нахожусь в одиннадцати тысячах километров от места, где хотел бы быть, и просто мечтал выбраться отсюда. Думаю, что у Джека были схожие мысли.
Но денег у нас не было. Мы вернулись в Париж и в поезде познакомились с компанией из четырех школьных учительниц. Каким-то чудом мы узнали их адрес. Мы добрались до города, и Мэри отправила Джеку билет домой. У меня билета не было, и в аэропорт Джек поехал один. Перед его отъездом мы наведались по адресу тех девушек, но их не было дома, так что мы зашли в кафе на углу, я заказал колу, а последние деньги отдал Джеку на такси до аэропорта. Я посидел немного один, допил колу и снова зашел к ним. Они все еще не вернулись. Я вернулся в кафе, посидел еще немного и повторил попытку. Они пустили меня в душ и дали двадцать долларов. Я не мог дозвониться до родителей, потому что они уехали на отдых, так что я позвонил дедушке, разбудив его в четыре утра, и он тут же выслал мне денег на билет. Вот так я вернулся в Бруклин. Все европейские монеты, что у меня остались, я отдал деду. Когда его не стало, их обнаружили в маленьком кошельке с запиской: «Эти монеты Дэвид привез мне из Европы». Он до сих пор у меня где-то хранится.
После моего возвращения наступили странные времена. Мои родители очень расстроились, когда узнали, что я не стал учиться в Зальцбурге, и в Александрии я остановился у Килеров. Бушнелла и его жены не было, только Тоби. Он глазам не поверил. Я собирался уехать на три года, а через пятнадцать дней стоял у него на пороге. Затем я нашел собственное жилье. Мне всегда нравилось приводить дом в порядок. Это как с покраской. Я хочу, чтобы место, где я живу, позволяло мне чувствовать себя хорошо; это должно быть такое место, где я мог бы работать. Дело в разуме: он хочет, чтобы было именно так.
Микеланджело Алока был художником живописи действия, у него была своя багетная мастерская, и он взял меня туда на работу. Он был странным парнем. Голова огромная, как двадцатилитровая бутыль, пышная борода, широкий торс – и ноги трехлетнего ребенка. Как-то раз мы ехали на машине и проехали мимо здоровенных железных перекладин. Он выполз из машины, схватился за одну из них и повалил. Тот еще псих. А вот жена у него была очень красивая, и ребенок тоже.
Он уволил меня из мастерской, а затем взял обратно мести полы. Однажды он сказал: «Хочешь пять долларов сверху?» Я ответил: «Конечно». «Девочки только что выехали из своей комнаты. Прибери в их туалете». Этот туалет… От малейшего сквозняка вода бы в нем перелилась через край. Весь унитаз доверху был заполнен коричневой, белой и красной водой. Я вычистил его так, что с него можно было есть. Как стеклышко.
Однажды я пришел к Микеланджело, а он разговаривал с каким-то черным парнем. Когда тот ушел, Майк спросил: «Хочешь бесплатный телевизор?» Я ответил: «Конечно», и он сказал: «Возьми эти деньги и этот пистолет, сходи в такое-то место, и тот парень покажет тебе, где он». Я взял с собой Чарли Смита и кого-то еще, мы отправились в Колумбию и нашли того парня. Он подсказывал нам, куда ехать, а затем сказал: «Останови здесь, я выйду за телевизорами». Он вышел из машины, зашел куда-то, затем вернулся и сказал: «Мне не отдают телевизоры, хотят сначала деньги». Мы ответили, что так не пойдет, он снова вышел и снова вернулся без телевизоров, сказав, что сначала деньги. Мы снова сказали нет, и он снова вышел, но вернулся уже с коробкой от телевизора, и мы решили, что шанс есть. Мы отдали ему деньги, и он ушел и больше не вернулся, а мы остались сидеть с заряженным пистолетом под передним сиденьем. Когда мы рассказали Майку, что произошло, он посмеялся.
Майк мог быть страшным. Однажды он сказал, что я трачу все вырученные у него деньги на краски, и добавил: «Покажи мне еду, которую ты покупаешь, чем ты питаешься». Мне пришлось быстро что-то найти. Я показал ему молоко и арахисовую пасту на ломте хлеба, и он сказал: «Молодец».
Меня увольняли практически отовсюду. Некоторое время я работал художником в маленьком магазинчике Александрии – рисовал красные, голубые и желтые круги на оргстекле. Никто туда не заходил, и, бывало, я утаскивал пару монеток и покупал колу. Однажды в магазин пришел Джек и сообщил, что собирается уходить на флот, но ненадолго, он собирался поступать в Пенсильванскую академию изящных искусств. И вот он там, а я тут.
Бушнелл знал, что в Александрии мне не слишком хорошо, и он знал также, что Джек был в академии, и решил: «А давайте-ка сделаем так, чтобы Дэвиду здесь вообще житься не было». Бушнелл и его брат начали держаться от меня в стороне, и я не знаю, почему. Это было очень обидно. Бушнелл написал письмо в академию и рассказал, какой я замечательный, и, думаю, именно оно помогло мне туда попасть. Бушнелл зажег во мне идею, что я хочу быть художником, затем предоставил мне студию; он вдохновлял меня. А потом написал это письмо – оно очень мне помогло. Именно он и его жена рассказали мне об Американском институте киноискусства. Они узнали, что я снял два небольших фильма, и рассказали о грантах в этом институте. Этот человек занимает одно из важнейших мест в моей жизни.
Бушнелл немало мне помогал, но в целом жизнь подростка не была такой уж веселой. Быть молодым здорово, но ты находишься в тюрьме – в старшей школе. Просто пытка.
Улыбающиеся мешки смерти

Линч работает над декорациями к фильму «Бабушка» в своем доме в Филадельфии, 1968. Фотограф: Пегги Риви.

Пегги Риви и Линч у дома родителей Риви в Филадельфии, 1968. Фотограф: Бернард В. Ленц.
В 1960-х Филадельфия была нищим городом. Царивший в послевоенные годы дефицит жилья вкупе с наплывом афроамериканцев породил волну массовых отъездов белых, и с 50-х по 80-е население города резко сократилось. Расовый вопрос всегда стоял остро, и в 1960-х мусульмане-афроамериканцы, афроамериканские националисты и военное подразделение Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения со штаб-квартирой в Филадельфии значительно укрепили движение афроамериканского населения и усилили расовые трения. Временами враждебность между хиппи и студентами-активистами, полицейскими, наркоторговцами и членами афроамериканских и католических сообществ достигала точки кипения и выплескивалась на улицы.
Первая волна выступлений за гражданские права для расовых меньшинств прошла по Филадельфии меньше чем за полтора года до того, как туда приехал Линч, и оставила после себя 225 поврежденных или уничтоженных магазинов, некоторые из которых так никогда больше и не открылись. Людные когда-то торговые проспекты превратились в пустые коридоры с расколоченными витринами и разбитыми окнами. Процветающая наркоторговля вносила свой вклад в творившиеся в городе бесчинства, и вся эта разруха и бедность подрывали дух жителей.
Опасный и грязный город поразил воображение Линча. «Филадельфия была пугающим местом, – рассказал Фиск. – И она открыла Дэвиду мир, полный идей для творчества».
Пенсильванская академия изящных искусств располагалась в самом центре, словно свободная от военных действий зона. «Город наводнили конфликты и паранойя, и школа была мирным оазисом», – вспоминал одноклассник Линча Брюс Сэмюэльсон[17]. Академия, старейшая школа искусств страны, занимала изысканное здание викторианской эпохи и во время приезда Линча считалась очень консервативной, но именно в такой стартовой площадке он и нуждался.
«Дэвид стал жить со мной в маленькой комнатке, которую я снимал, – рассказал Фиск. – Он приехал в ноябре 1965 года, и мы прожили так до января, пока не начались его занятия».
«В комнате было две кушетки, на которых мы спали, и везде валялись мертвые растения – Дэвиду они нравятся. В первый день нового года мы сняли дом за сорок пять долларов в месяц через дорогу от морга, в жутком индустриальном районе Филадельфии. К нам боялись приходить в гости, а Дэвид, когда выходил из дома, брал с собой палку с забитыми в нее гвоздями на случай, если кто-то нападет. Однажды его остановил полицейский и, увидев эту палку, сказал: “Правильно, держи ее при себе”. Мы работали ночи напролет и спали днем, практически никак не контактируя с преподавателями. Все, чем мы занимались, это рисование».
Линч и Фиск не утруждали себя слишком частым посещением занятий, но быстро влились в компанию студентов-единомышленников. «Дэвид и Джек оказались энергичным дуэтом и стали частью нашей группы, – вспоминал художник Эо Омвейк. – Мы были экспериментаторами, в нашей компании состояло около дюжины человек. Это был круг близких людей, где все поддерживали друг друга и вели богемный образ жизни»[18].
В круг входила художница Вирджиния Мейтленд, которая вспоминала Линча как «старомодного, аккуратного парня, который пил много кофе и курил сигареты. Он был эксцентричен в своей прямоте. Обычно он появлялся в компании Джека, высокого, как Авраам Линкольн, и похожего на хиппи, а также пса Джека Файва. Интересная пара»[19].
«Дэвид всегда носил хаки с ботинками-оксфордами и толстыми носками, – рассказал однокашник Джеймс Гарвард. – Мы стали друзьями как только познакомились, потому что мне нравился энтузиазм, с которым он работал: если Дэвид брался за то, что ему нравится, он полностью в это погружался. В Филадельфии тогда было тяжело, и мы перебивались как могли. Мы не совершали ночных вылазок, потому что это было попросту опасно, но сходили с ума по-своему, и Дэвид был таким же. Мы собирались у меня послушать Битлз, и он стучал по пятифунтовой банке чипсов, как будто это барабан. Он прямо-таки бил по ней»[20].
Сэмюэльсон вспоминал, как его поразил «джентльменский тон Линча и то, что он носил галстук – в те времена никто не носил галстуков, кроме преподавателей. Помню, как отошел на шаг после нашего знакомства и понял, что что-то не так. Я обернулся, посмотрел на него, и до меня дошло, что на нем два галстука. Он не пытался привлечь чье-либо внимание, просто был собой».
За пять месяцев до приезда Линча в академию поступила Пегги Ленц Риви. Она была дочерью успешного юриста, пошла в академию сразу после школы и на момент знакомства с Линчем жила в общежитии. «Он буквально сразу же привлек мое внимание, – вспоминала она. – Я увидела, как он сидел в столовой, и подумала: “Какой красивый”. Он выглядел растерянным, и на многих его рубашках были дыры, но он был таким милым и ранимым. Это типаж большеглазых ангелоподобных мальчиков, о которых девушки любят заботиться».
Риви и Линч на момент знакомства состояли в отношениях и несколько месяцев оставались просто друзьями. «Мы обедали вместе, и нам очень нравилось беседовать, но сначала он показался мне немного скучным: ему не было интересно то, что я любила с детства и с чем ассоциировала жизнь художника. Я думала, что художники не бывают популярны в школе, но передо мной стоял этот парень из школьного братства, и рассказывал удивительные истории о неизвестном мне мире. Поездки с классом на лыжах, охота на кроликов в пустыне Бойсе, ранчо его дедушки – так далеко от меня и так необычно! В культурном плане мы были выходцами из двух разных миров. У меня была крутая запись григорианских песнопений, которую я ему поставила, и это привело его в ужас. “Пег! Поверить не могу, что тебе нравится такое! Это же так депрессивно!” На самом деле, когда мы узнали друг друга получше, оказалось, что Дэвид сам был в депрессии».
Омвейк подтвердил: «Когда Дэвид жил рядом с моргом, я думал, что он проходит через депрессию – он мог спать по восемнадцать часов в день. Однажды я был у них в гостях, и мы с Джеком как раз разговаривали, когда он проснулся. Он вышел, выпил четыре или пять банок колы, немного поговорил и вернулся в постель. Он очень много спал в тот период».
Во время бодрствования Линч, должно быть, был чрезвычайно продуктивным, поскольку учился он прекрасно. Спустя пять месяцев он удостоился почетного места в студенческом конкурсе за свою скульптуру в смешанной технике. При помощи катящегося сквозь рычаги и переключатели шара запускалась цепная реакция, в результате которой зажигалась лампочка и взрывалась петарда. «Академия была одной из немногих оставшихся школ искусств, делавших упор на классическое образование, но Дэвид не слишком усердствовал с заданиями первого курса, например, с рисованием натюрмортов, – рассказала Вирджиния Мейтленд. – Он очень быстро добрался до занятий продвинутого уровня. Они проходили в просторных студиях, и туда попали лишь пятеро или шестеро из нас. Я помню, что как меня мотивировали работы Дэвида».
Линч уже был технически подкован, когда прибыл в академию, но у него еще не было творческого голоса, которым наполнены его зрелые работы, и в первые годы он пробовал себя в самых разных стилях. Есть детализированные графитовые портреты, тонко проработанные и сюрреалистичные – человек с окровавленным носом, еще один, которого рвет, еще один с проломленным черепом; фигуры, которые Линч называл «механическими женщинами», сочетание человеческой анатомии и частей машины; есть и нежные, сексуальные рисунки, навеянные работами немецкого художника Ханса Беллмера. Все они выполнены очень искусно, но обостренной чувствительности Линча еще не отражают. Позже, в 1967 году, он написал «Невесту», портрет почти два на два метра, изображающий призрачную фигуру в свадебном платье. «Он с головой нырял во тьму и таившийся в ней страх, – сказала Пегги Риви об этой картине, которую она считает настоящим прорывом и местонахождение которой неизвестно. – Она была красиво написана: белая шнуровка платья девушки ниспадает на темный пол, и она тянет тонкую, как у скелета, руку под свое платье, чтобы сделать самой себе аборт. Плод только подразумевается, и крови совсем нет… лишь едва заметно. Великолепная была картина».
Линч и Фиск жили через дорогу от морга до апреля 1968 года, а затем переехали в дом 2429 по Аспен-стрит в ирландском католическом квартале. Они поселились в трехэтажном таунхаусе, который называли «Отец, Сын и Святой Дух». Фиск жил на втором этаже, Линч – на третьем, а на первом были гостиная и кухня. Риви жила в апартаментах рядом с соседней автобусной остановкой. К тому времени она и Линч уже встречались. «У него был пунктик: он называл это “дружба с сексом”, но я была одержима», – вспоминала Риви. Она стала постоянной гостьей на Аспен-стрит и в конце концов переехала туда. Спустя несколько месяцев Фиск перебрался в лофт по соседству с ближайшей автомобильной мастерской.
«Дэвид и Джек были очаровательны – ты не мог не смеяться вместе с этими двоими, – рассказала Риви. – Когда мы возвращались с занятий, Дэвид обычно ехал рядом со мной на велосипеде, и однажды он нашел на тротуаре раненую птицу. Она его очень заинтересовала, и он взял ее домой, а после того как она умерла, полночи ее варил, чтобы плоть отделилась от костей и он мог сделать что-то со скелетом. У Дэвида и Джека был черный кот по имени Зеро. За утренним кофе мы услышали, как Зеро в соседней комнате хрустит птичьими косточками. Джек чуть со смеха не умер».
«Обедать Дэвид любил в небольшой кофейне при аптеке на Вишневой улице, и все там знали нас по именам, – продолжила Риви. – Дэвид поддразнивал официанток и очень тепло относился к Полу, пожилому джентльмену за кассой. У Пола были седые волосы, он носил очки и галстук и разговаривал с Дэвидом о своем телевизоре. Он рассказывал, как ездил его покупать и какой же замечательный ему достался, и в конце неизменно с торжественной важностью подытоживал: “И, Дэвид… Я рад приятной встрече”. Дэвид до сих пор вспоминает Пола и его “приятную встречу”».
Ключевое событие в творчестве Дэвида Линча произошло в начале 1967 года. Он работал над картиной, изображавшей стоявшую в листве фигуру, которая была выполнена в темных оттенках зеленого. Вдруг он ощутил то, что впоследствии описывал как «дуновение ветерка», и уловил мерцание движения в картине. Словно чудесный подарок, идея движущихся картин полностью заняла его разум. Он обсуждал совместную киноработу с Брюсом Сэмюэльсоном, который создавал грубые, сочные изображения человеческого тела, но в итоге они отбросили эту идею. Линч собирался исследовать новое направление. Он взял напрокат камеру в магазине «Фоторама» в центре Филадельфии, и снял «Шестеро заболевают» – анимацию длиной в минуту, которая повторяется шесть раз и проецируется на специальный экран-скульптуру размером три на метр восемьдесят. Картину сняли с бюджетом в двести долларов в пустом номере отеля, принадлежавшего академии. В ней дублируются три детализированных лица, вылепленных из гипса, а также лица из стеклопластика: Линч воссоздал лицо Фиска дважды, а Фиск – один раз лицо Линча. Линч одновременно экспериментировал с двумя материалами, и Риви сказала: «Дэвид никогда раньше не использовал полиэстеровую смолу до “Шестеро заболевают”, и первая партия, что он замешал, загорелась».
Тела всех шестерых фигур анимированы минималистично и централизуются в распухших красных шарах, представляющих собой желудки. Анимированные желудки заполняются разноцветной жидкостью, которая поднимается до лиц, а потом разливается потеками белой краски, стекающими по сиреневому фону. На протяжении всего фильма звучит сирена, на экране вспыхивает слово «Заболевать», а фигуры взмахивают руками в страдании. Фильм получил Памятный приз имени доктора Уильяма Биддля Кадваладера, который Линч разделил с художником Ноэлем Махаффи. Его однокурсник Бартон Вассерман был так впечатлен, что предложил вместе сделать похожую инсталляцию для его дома. «Дэвид рисовал меня ярко-красной акриловой краской, которая полыхала, как ад, и украсил свое творение насадкой для душа, – вспоминала Риви коллаборацию с Вассерманом. – Посреди ночи ему срочно понадобились насадка для душа и шланг, и он вышел на аллею, а вернулся уже с ними! И такое с Дэвидом происходило часто». Съемки фильма длиной в две минуты и двадцать пять секунд заняли у Линча два месяца, но когда он отправил его на обработку, то обнаружил, что камера, на которую он снимал, была испорчена, и на пленке осталось лишь размытое пятно. «Он опустил лицо в ладони и плакал две минуты, – рассказала Риви. – Затем сказал: “К черту” и отправил камеру в ремонт. Он очень дисциплинированный». Проект не состоялся, но Вассерман позволил Линчу оставить себе остаток бюджета, который он выбил.
В августе 1967 года Риви узнала, что беременна, и, когда наступила осень, Линч ушел из академии. В письме администрации академии он объяснил: «Я не вернусь осенью, но буду заходить иногда за колой. С деньгами туго, а мой врач говорит, что у меня аллергия на краску. У меня в кишечнике язвы и острицы. У меня нет сил продолжать обучение в Пенсильванской академии изящных искусств. С любовью, Дэвид. P.S.: Вместо этого я всерьез займусь кино»[21].