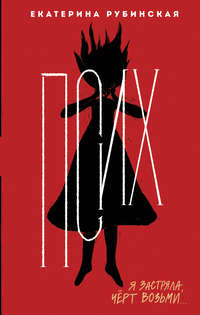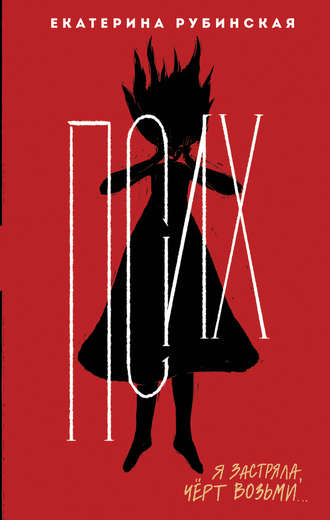
Полная версия
Псих
– В общем, я хвалю ее, конечно, она делает, ммм, определенные успехи, но, по-моему, уже и вам пришло время подключаться к воспитательному процессу.
Нет.
Нет, нет, нет.
Только не это и только не сейчас.
Ваш новый друг – подавленный гнев. В то время как мое сознание неосмотрительно вышло на перекур, подсознание вернулось домой злое, влезло на стульчик и сейчас начнет голосить. Вот почему психотерапевты предпочитают кормить его вкусными таблетками и вот почему в отсутствие оных оно слетает с катушек.
– То есть, понимаете, я уже три недели своей жизни трачу неизвестно на что. Чем вы там с ними занимаетесь на третьем курсе? У меня вообще появилось желание до него не дожить, до третьего курса вашего. Да кто в состоянии это все прочитать вообще, моральные уроды, которых родители-садисты закрывают дома по вечерам? Блин, да откуда у нас должны появляться свои собственные мысли, если вы нас душите таким количеством чужих, и вообще…
Надеюсь, вы получили достаточно полное впечатление о моем темном попутчике, но если вы думаете, что за эту пламенную речь я была торжественно расстреляна педсоставом, то вы ошибаетесь. После слова «вообще» я элементарно разворачиваюсь и убегаю. Вот что-что, а ремонт помещения (который будет неизбежен, если мне под руку подвернется стул) в мои планы не входит.
Я неделю никуда не выхожу; вы не знаете, что такое ад.
Ад – это когда у тебя нет права закрывать за собой дверь комнаты. Она в любом случае будет распахнута. С криками, без криков, просто с тихим подозрительным шорохом *звонить в реанимацию или уже поздно?* Моя мама не верит, что бывают моменты, когда мне не хочется «об этом поговорить» (сколько можно говорить об одном и том же?). Иногда мне не хочется говорить вообще. Иногда хочется орать. Иногда хочется послушать громкую музыку. Самое главное, что этого бы хватило. Две, три минуты этого, и я могу нормально функционировать без таблеток.
– Что означает эта закрытая дверь? – иронически спрашивает мама.
– Эта закрытая дверь означает только то, что не надо ее открывать, – говорю я.
Мне просто нужен покой, покой и сон, а вместо этого у меня электрический свет, распахнутая дверь комнаты днем и ночью; мои редкие телефонные разговоры внимательно слушают, поэтому я даже не стараюсь понижать голос. Упреждая ваши вопросы о моей плохой наследственности – мои родители не чокнутые, но вы поставьте себя на их место, а я отдохну пока. Я себя ставить на их место смертельно устала.
– А-а… Алиса?
– Ну кто еще это может быть, – устало говорю я, – это же мой мобильный. Проблемы?
– Нет… то есть… нет, вообще-то нет. Все нормально. Все хорошо. Я просто хотела…
Я даю ей собраться с мыслями секунд тридцать, потом она наконец выдает:
– В среду у меня день рождения.
– Круто, – говорю я, – только, по-моему, поздравлять заранее как-то нехорошо…
– Нет, я не поздравлять… то есть… В общем, приходи ко мне домой. Праздновать.
Я? Домой? Праздновать?
– На всякий случай напоминаю, что я твой злобный репетитор из университета, а не какая-то другая Алиса, милая и добрая, за которую ты меня приняла.
– Я знаю, – уныло говорит она. Странно.
– Ну раз знаешь, тогда ради бога. Напишешь, когда и куда мне приходить.
Она прощается и вешает трубку, а я еще раз думаю, что это странно.
Странности, собственно, начались некоторое время назад. На мой день рождения Марселла (кто ей вообще сказал, что у меня день рождения?) пришла на занятие с маленьким розовым пакетиком, в котором лежала маленькая розовая коробочка, в котором лежали маленькие черные (простите, я против художественного вымысла – кстати, если дневник ведется в терапевтических целях, то его автор имеет право приукрашивать детали? У кого бы узнать?)… да, маленькие черные наушники, которые носят на голове для тепла. Вязаные и местами пушистые.
– Спасибо, – сказала я, хотя мой речевой аппарат хотел совсем не этого, – здорово, конечно, но… как бы это сказать… без подарков можно было бы обойтись.
– Тебе не нравится?
Черт возьми, я обидела девочку-аниме. Позор на мои седины.
– Да нет. Наоборот, это очень красиво и круто вообще.
Это и вправду было очень красиво, но я даже не знаю, с чем такое носить.
– Просто понимаешь, это, эммм, дорого и все такое прочее.
– Нестрашно, – говорит она мне, – у меня есть еще. В этом я совершенно не сомневаюсь.
В моем мире, однако, мало места розовым девочкам, любящим пони – даже если они дарят мне черные наушники, которые я надела и не снимаю.
Аудиокассета 17Почему они все говорят, что нужно смотреть вперед? Кто это сказал? Что у меня впереди? Мне семнадцать лет, я провела выпускной бал в санатории для умственно отсталых. Я уже никогда не влюблюсь в кого-нибудь пятнадцатилетнего. У меня уже не будет школьной любви. Я не буду играть в школьной постановке. Неважно, хочу ли я этого, – у меня даже нет возможности, просто нет возможности. Вы считаете, что этого мало? Это потерянное время. Это просто потерянное время. Неизвестно на что. Скажите, что я могу сделать сейчас?
(Шорох пленки.)
Ждать. (Смех.) Офигенно. Ждать. Вы вообще слушали, что я тут говорю?
Дома у Марселлы, как я и ожидала, есть рояль, пушистые ковры и домработница. Мы сидим на полу, и у нас что-то вроде китайского (кто еще пьет чай на полу?) чаепития. Я всю голову себе сломала с подарком, но придумала кое-что очень конструктивное. Убийство целого стада зайцев за раз.
Мы чокаемся чаем и обсуждаем «Красное и черное», потому что… а, вот почему, вы же еще не знаете новость века – змея сломала ногу. Это само по себе классное выражение, но это круто еще и тем, что уже месяц ни у нас, ни у кого бы то ни было еще нет семинаров, поэтому я била баклуши. Она вернется в следующую пятницу, в этот проклятый день по расписанию пары и у нас, и у Марс – но если первое меня мало беспокоит, то вот за второе я реально могу получить по шапке. Или по наушникам, что принципиального значения не имеет. За это время я успела вдрызг разругаться с одной педагогической дурой…
(На спецкурс нас ходит мало, я сижу на второй парте, первая парта занята. Я сижу одна. Педагогическая дура считает, что сделала нам большое одолжение, придя к нам на пару в шесть вечера; мы сонные и молча шевелим ручками, а она каждые три секунды дергает нас. А, пишите, Бэ, пишите, Вэ, вы меня слушаете?
Когда дело доходит до меня, я прихожу в восторг от апофеоза здравого смысла в ее словах.
– Ну вы сидите от меня далеко, и мне все время кажется, что вы разговариваете.
– Ну, – говорю я, – вы тоже сидите от меня далеко, и мне все время кажется, что вы не преподаватель.
Пока она открывает и закрывает рот, я делаю вид, что это не я.)
…и понять, в свою очередь, что я сама не меньшая дура в плане педагогики.
Короче говоря, пару дней назад я подумала, пошла и вытребовала себе поездку на бог знает какую конференцию бог знает куда – потому что она была в среду, предполагала культурную программу на четверг и отъезд домой в пятницу. Железное алиби. Железнее не бывает. Не удивляйтесь, мне все вс¸ дают по той простой причине, что никому не хочется быть похороненным под грузом справок о моей аномальной психической активности (или, как минимум, слушать полтора часа, как я разоряюсь на темы гражданских прав человека). Кроме того, на конференции у нас ездят реальные психи. И участвуют в них, насколько я знаю изнутри эту вакханалию интеллекта, тоже далеко не адекватные люди. Поэтому мне там самое место.
А теперь почему я так горда собой – у меня там, собственно, ДВА места. На меня и на научного руководителя. Вы же помните, где мой научный руководитель? Боюсь, что со сломанной ногой она будет еще больше похожа на Мефистофеля. Справки и командировки как-нибудь замну, главное, что у меня есть два хороших и бесплатных билета черт-те куда, где хорошо и трехразово кормят и даже иногда развлекают.
Итого: я решила вопрос со взаимностью подарка, мы обе пропускаем пятницу, нам за это ничего не будет, я отдохну морально, а Марс получит документальное подтверждение того, что некоторые люди способны говорить связно больше десяти секунд подряд.
И я целых два прекрасных, замечательных, благословенных дня не буду дома, я буду видеть людей, которые ничего про меня не знают и которым нет до меня дела. Иногда это неописуемо круто. Теперь надо придумать, что ответить доктору на вопрос, который он мне непременно задаст. Убедительно врать на эту тему я не могу.
Может, зря я бросила таблетки.
Часть 2
Мои предки посадили нас на поезд, предварительно дав мне понять, что в случае чего за Марселлу несу ответственность я, потому что они не желают разбираться с ее родителями и проч., проч. Как будто мы едем испытывать атомную бомбу. Худшее, что я когда-либо делала на научной конференции – это предложила оппоненту отправляться вон из науки, да и то потом мне стало его жалко. Это было еще в школе, и он был такой же салабон, как и я. Что тут толку от того, что я ору громче. Но эти проводы были почти похожи на что-то человеческое. Впервые в жизни меня не запихивали в поезд насильно или наоборот, я не ехала куда-нибудь тайно, выйдя из дома за пакетом молока.
– Мы же тебя любим, – всегда с ужасом говорила мама, когда меня где-нибудь находили (что случалось редко).
– Может, вы меня и любите, – отвечала я на слезе, потому что мои таблетки делали меня сентиментальной, – но в основном вы на меня давите. И скоро раздавите совсем. Не хочу себя чувствовать Пинком Флойдом, которого пожирает родная мать.
(Весь следующий вечер они с папой смотрят и конспектируют «Стену». Ха-ха, класс.)
Родители растроганы и напряжены, Марселла путается в лямках рюкзака, билетах и волосах, а я не нервничаю. Все начинается хорошо. Хотя это как раз скорее повод задуматься. Вы же знаете, что хорошее начало применительно ко мне – это очень, очень подозрительно.
В поезде я была, можно сказать, счастлива – если бы это все еще было физически возможно. По сравнению с другими людьми, у которых от большого количества таблеток начинается ангедония, мне еще повезло, потому что иногда какие-то порывы счастья долетают и до меня. Как штормовая погода. Мало, конечно, но с другой стороны – вот вы спросите кого-нибудь, счастлив ли он сейчас – если он ответит «да», то он идиот, потому что уже за время произнесения слова «да» флюиды счастья выветриваются к чертям; ну а если нет, то мы видим эффективную работу Капитана Очевидность. Быть счастливым – испытывать боль от потери того, чего у тебя никогда не было. Как-то так.
– Ой, – говорит Марселла вдруг. Мне интересно, скоро ли она заметит что-то подозрительное. Например, то, что перед отъездом я послала ее делать реверансы перед родителями, а сама вытрясла у нее из рюкзака плюшевую розовую чушь, которой там было девяносто семь процентов. Вместе с дневником в бисерной обложке – она не я, нечего записывать все подряд. Тем более то, что она пишет… ладно, будем делать вид, что я хорошая девочка и больше не читаю чужие дневники.
Конечно, ей ничего не остается, кроме как достать «Красное и черное» и попросить еще чаю. Лично я, пока не сядет батарейка, буду слушать «Смитс». Вы должны знать, как это здорово – слушать «Смитс» в поезде, когда тебя и так укачивает (да, не надо смеяться, меня иногда укачивает в поезде. Меня и просто так иногда укачивает).
Ночью я вспоминаю, правда, что у меня есть еще одно дело (Марселла уже сопит в две дырочки, но закладка на семидесятой странице, и это прекрасно), и достаю нетбук.
Письмо старой знакомой, которую зовут так же, как и меняВремя от времени ты оставляешь какие-то ядовитые записи в своем блоге – я думаю, ты определенно знаешь, что я его читаю, выяснить это не такая уж большая сложность. Большая сложность, дорогая моя, это оформить твой яд в осмысленные предложения и адресовать их лично мне. Я понимаю, что это трудно, что это не все умеют. Но, заметь, я сейчас пишу это тебе в личку, а не вывешиваю в собственном блоге. Это не потому, что я такая крутая, просто я уже переросла желание публично обнажаться. Тем более делать вид, что это совсем не публично, просто бумаги и ручки в доме не оказалось.
Если ты хочешь честности, хорошо, пусть будет честно. Я захожу в твой блог с единственной целью – еще раз порадоваться, что не стала такой, как ты. То, что и как ты пишешь, меня умиляет и пугает до крайности. Тебе семнадцать лет, как и мне, но ты похожа на старую деву, обиженную миром до предела; ты всех судишь, до всего тебе есть дело, на все у тебя есть собственное мнение, злое и резкое. Я тоже была бы такой, если бы не сама-знаешь-кто. Возможно, провести месяц в клинике – сомнительная альтернатива превращению в ворчливые синие колготки (прости, но чулок – это слегка излишне сексуально); да, мне никогда в жизни не было так плохо, но по крайней мере, я никому не вру. И мне есть что вспомнить – без ярлыка «куда катится мир». И если мне плохо – я кричу, пью таблетки, не пью таблетки, иду или не иду к врачу, иду плакать в подушку, иду плакать в парк вместо занятий. Может быть, это звучит банально (в любом случае я это как-нибудь переживу), но я что-то предпринимаю и никого не виню, потому что никто не виноват.
И еще – на самом деле меня в твоих писаниях коробит единственная вещь (то, что ты срываешь на мне плохое настроение, можно легко простить). Не надо говорить, что весь мир дурдом. Ты там не была.
Мы приехали на вокзал, потом полчаса колесили в такси в поисках гостиницы, в которой нам нужно было поселиться до двенадцати ноль-ноль. С семи утра мои родители успели позвонить уже четыре раза, когда телефон был включен, и еще четырнадцать, пока он был выключен. Лучше бы я его и не включала – мы могли бы рассчитывать на мировой рекорд. Марселла липнет ко мне с вопросами, чего я терпеть не могу, потому что а) красивые далекие города нужно впитывать самостоятельно; б) я не энциклопедия; в) у нее тоже есть органы зрения и слуха, больше ничего не надо.
Потом все резко стало плохо.
Точнее, вы можете расслабиться, с вашей точки зрения, все может быть совсем и не плохо, а очень даже хорошо. Но это кому как. Во всяком случае, в очереди на регистрацию в гостинице я точно поняла, что если лично мои органы зрения меня не обманывают, мне надо срочно обратно на вокзал – потому что в двенадцать ноль два отходит пригородный поезд, и я как раз успею под него броситься.
Блин, почему, когда мне кажется, что я вижу Райдера, я никогда не ошибаюсь?
И мне, честно говоря, все равно, если вы сейчас офигеете. Да, у меня есть большая и роковая любовь, которую я знаю с пяти лет; да, наши родители считают, что мы поженимся; да, она сейчас торчит в той же очереди в стае каких-то не зарегистрированных мной женщин. Или женщины, как всегда, стоят отдельно, а мое воображение дополняет ими Райдера. Неважно. В любом случае Райдер – это опухоль мозга.
Кстати, к слову «поженимся». Когда моя мама видит меня на кухне, у нее начинается страшный педагогический зуд и припадки педантизма одновременно. Ей все равно, что этот бутерброд не представляет собой эстетический объект, что я через десять секунд после приготовления сжую его, и мне при этом будет абсолютно все равно, как он выглядит.
– Твой будущий муж не заслуживает такой хозяйки, – вздыхает мама.
– Мам, да меня вообще мало кто достоин. Ни у кого в мире больше нет такого количества справок и предписаний, а я не хочу, чтобы на мне женились по расчету.
Мама выразительно молчит.
– И вообще, – говорю я, – я не настроена выходить замуж.
– Интересно, почему? (Сарказм. Читай: кому такая нужна?)
– Потому что еще одного человека, который проверяет толщину масла на моих бутербродах, я не перенесу.
Я много чего не перенесу.
Он два года молчал, а потом вдруг у меня в блоге появилась песня Depeche Mode – All I wanna do is see you again.
Это было примерно месяц назад. Просто песня?
Память о том, что я люблю «депешей»? Просто-просто песня вообще без подтекста? С подтекстом?
С явным подтекстом?
Блин, читатели, послушайте ее, пожалуйста, и скажите мне, что он имеет в виду.
Он единственный, из-за кого я могу опять начать пить таблетки. Еще он единственный, о ком ничего не знает мой психотерапевт. То есть, наверное, он видит, что есть какой-то вирус в системе, но его хитрые вопросы не работают.
– Мне… тяжело без дневника, – говорит Марселла стеснительно. – Как без части тела.
– Ты там пишешь ерунду, – уверяю ее я, методично отрывая от лужайки травинки то там, то сям. – На ерунду не надо тратить время.
За что я люблю этот город, так это за парки. Вы помните, что я люблю плакать в парках? Тут есть озера, в которых плавают лебеди, и вообще, я была бы рада, как здешние студенты, ходить через парк с озерами в университет. Не через шоссе, и шоссе, и шоссе, и жилые кварталы, и шоссе. Мне тут так хорошо, что я даже немного задыхаюсь. Много солнца, люди, деревья. Я боюсь, правда, что за каким-нибудь из них увижу Райдера. Увидеть его на самом деле и подумать, что увидела – для моей больной головы однофигственно. В любом случае буду мучить себя. Уже это делаю.
Перестань, критик, заткнись. Со мной все в порядке. Я в это не верю, но это совершенно не твое дело. ЗАТКНИСЬ.
– А ты никогда не писала дневник? Вроде же, ну… обычно…
– Психически больным надо писать мантры каждый раз, когда они хотят схватиться за автомат, – продолжаю я. – Нет. Я не пишу, во всяком случае. У меня паранойя.
– Понятно, – говорит Марселла, глядя на лебедя, который вразвалочку пересекает остров.
– Я писала когда-то, – внезапно говорю я. – Когда было совсем плохо. И какое-то время назад я достала эти несколько тетрадок и прочитала, потому что до этого я боялась. Думала, что там что-то страшное. А там такая ерунда. «Меня никто не любит. Все сволочи. Все дураки. Ааааа. Ыыыы». Я даже расстроилась.
– Почему?
– Потому что такая дура была. Я так надеялась всегда, – говорю вдруг я со слезами в голосе (если б только этот чертов Райдер не появлялся здесь), – что я там найду какой-то ответ. И успокоюсь. Что там будет написана какая-то причина, о которой я забыла. Что я какое-то послание оставила себе. Делать так-то. Не быть такой-то. А там…
Характерно, что говорю я, а плачет Марселла.
– Чего ты-то рыдаешь?
– Ты такая хорошая и такая несчастная, – ревет она.
– О господи, – говорю я, – а я-то думала, ты плачешь над нашей змеищей, которая сейчас пытается доказать на кафедре, что она никуда никого не посылала.
Игра «Я пытаюсь помочь науке»В игру играют двое: докладчик (Д) и слушатель (С). Важно помнить, что у слушателя совершенно искреннее отношение к происходящему, и его поведение ни в коем случае не является издевкой или троллингом.
Сценарий:
1) Д (читает доклад)
(Поведение С в это время различается в зависимости от типа С. Первый тип наивен и искренен, в прослушиваемом тексте ничего не понимает, но очень хочет сделать приятное докладчику и спросить у него что-нибудь. Второй тип – скептик, интеллектуал, в прослушиваемом тексте тоже, как правило, ничего не понимает, потому что выкопал вглубь только свою собственную узконаправленную тему.)
С1: ловит в потоке речи знакомые слова. Вопрос рождается из ассоциаций. Если в докладе, например, звучит фраза «построенный по модели произведений Баха», Д может остерегаться застенчивого «Любите ли вы Баха?»
С2: вопросы приходят к нему из космоса.
2) Когда Д дочитывает доклад, С задает ему наивный вопрос\вопрос из космоса.
3) С выигрывает.
Комментарий: если вы еще не догадались, С выигрывает просто потому, что он искренен, а вопрос его лишен логики. Представьте себе любую реакцию Д. Удивление? Попытки воззвать к здравому смыслу? Признание (упаси боже) в том, что суть вопроса ему непонятна? Нет, ребята, ничего из этого не работает. Вас запомнят только потому, что вы обломались с ответом на вопрос.
Если вы в рамках этой игры захотите задать мне вопрос, к чему это я и зачем тогда я регулярно участвую в акциях бессмысленной и беспощадной резни интеллекта, я честно засыплюсь с худшим из возможных ответов. НЕ ЗНАЮ.
Дело в том, что вообще-то это довольно смешно. Девяносто три процента времени это грустно, скучно, еще как-то, вообще никак, но процентов семь времени бывает адски смешно. Байки рассказывать не буду. Обойдетесь.
Мы слушаем одиннадцатый доклад, я рисую чертиков в тетрадке, Марселла терпит – я еще и пинаю ее стул. Я так успокаиваюсь. Иначе я могу пнуть стулом докладчика.
(Жалко, что Райдера здесь нет. Нет, не потому. Потому что если бы он был здесь, у меня не было бы возможности внезапно столкнуться с ним где-нибудь еще.)
Между мной и Марселлой лежит стопка бумаги – это мой доклад. Марселла удивительно мужественный человек, правда, у нее в глазах уже концентрические круги. Ничего-ничего, я придумала, как ее развеселить. Когда суровая женщина в очках провозглашает тему моего доклада, мои имя и фамилию, я пинаю Марселлин стул посильнее, и пока она, беспомощно глядя по сторонам, выходит из транса, я говорю:
– Поддержите оратора, пожалуйста, он выступает в первый раз. Давай, мы в тебя верим, – пинаю стул еще раз и сую ей в руки доклад.
По дороге в комнату она подавленно молчит, а потом трагическим шепотом спрашивает, ЗАЧЕМ.
– Затем что? – говорю я. – Судя по всему, никто из присутствующих не умер. Ты, кажется, тоже.
– Все равно, это было ужаааааааасно! (Да, вот именно столько «а».)
– Слушай, – возвещаю я ей, уже лежа в номере на кровати ногами кверху, – было одиннадцать докладов. Так? Так.
– Таааак.
– Скольких докладчиков ты поняла? Эммм, нет, сколько докладов тебе понравилось? Нет, нет, не надо быть ко всем вежливой. Мне нужна сухая статистика.
– Ыыыы.
– Два, ага, я так и думала, – говорю я. – Они понравились всем. По той простой причине, что у них нет дефектов речи и они сами понимают, что говорят. Все остальные Никому Не Интересны. И в данном случае то, что ты попадаешь в их число, не плохо, а очень даже хорошо. Ты читаешь незнакомый текст так же, как его читала девочка, которая собственноручно его написала. Я знаю людей, которые уже надцатый доклад подряд на наших конференциях читают как ты. То есть уткнувшись носом в свои бумажки и демонстрируя публике макушку. И вообще, ты мне наврала. И змеюка мне наврала. С тобой же все в порядке? Ты не бухнулась в обморок и не разбила мне что-нибудь о голову.
Марселла молчит, но по крайней мере больше не всхлипывает.
– Короче, признайся, ты довольна собой, – говорю я и иду в ванную, потому что мне звонит Райдер.
– Чего тебе? – отвечаю, то открывая, то закрывая холодный кран. Руки, блин, да успокойтесь уже. Сядь. Приди в себя. Начинаешь. Нет, не могу.
– Да так, просто, – говорит он.
– Нет, я не буду кричать «ах, как можно звонить так просто через два года».
– Ой, меня так давно не психоанализировали. Я даже скучал. Никто, понимаешь, не говорил мне, что я скажу через два предложения.
– Даже говорить тебе что-то не хочу после этого.
– Ух ты, – говорит Райдер. – Шах и мат.
– Хватит, – говорю я – На меня упала вся мировая тоска, когда ты позвонил. Мог бы понимать. Как отец?
– Умер.
Видимо, я очень долго молчу.
– Что тебе еще сказать? Прошло два месяца. Я продал вещи. Квартира теперь пустая, не знаю, что буду делать с ней.
– Мне его так жалко, – говорю я и плачу.
– Это самое удивительное. Его никто не любил толком, а все плачут и говорят, что жалко. Я один не могу. Может, попросить у тебя таблеток каких-нибудь, чтобы заплакать?
– Нет у меня таких.
– Ну и хрен с ним.
– Блин, – говорю я, – ну не злись на меня, я не знаю, что еще обычно говорят нормальные люди. Мне жалко. Он был классный. Он и меня любил. Тоже. Мне иногда хотелось, чтобы он и моим родственником был.
– Нормальные люди не разговаривают по телефону, закрывшись в ванной, – говорит Райдер. – Я потом перезвоню. Пойду напьюсь, что ли.
Я вам когда-нибудь потом про него все расскажу, хорошо?
В такие утра, как следующее, когда все еще спят, когда совершенно обалденная погода и можно идти гулять в парк, остается одно – включать какую-нибудь гитарную музыку (The Kooks мне нравится, ага, оставьте) и многозначительность. Чтобы все это со стороны было похоже на один из фильмов, которые так любят пользователи социальных сетей. Жалко, мой мозг не умеет делать презентации из детских фотографий, это могло бы сюда очень пойти. Много солнца. Там, где я живу, его мало. Редкий случай, когда я чувствую себя совсем как два года назад, когда была молодой.
Я брежу. Выключите меня.
Что я могу вам сказать: сейчас все довольно печально. Хорошо, пожалуй, только то, что я целыми днями лежу пузом кверху – формально меня никуда не выпускают, но мне и самой никуда не хочется, так что это даже и насилием над личностью не назовешь. Я не знаю, правда, стоит ли теоретически проверять состав моей овсяной кашки на наличие интересностей. Не удивлюсь, если они там есть – но и это мне понятно, все-таки меня не штормило уже много-много месяцев.