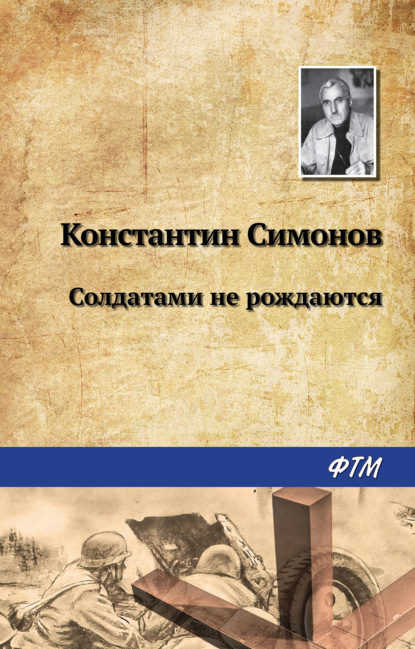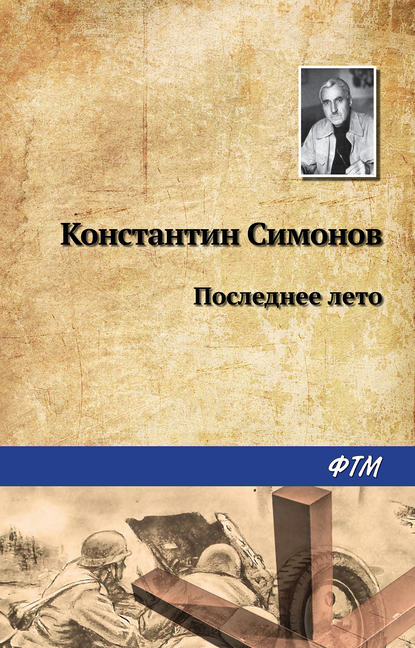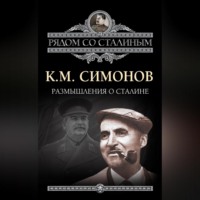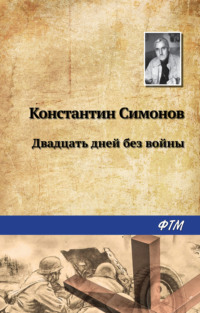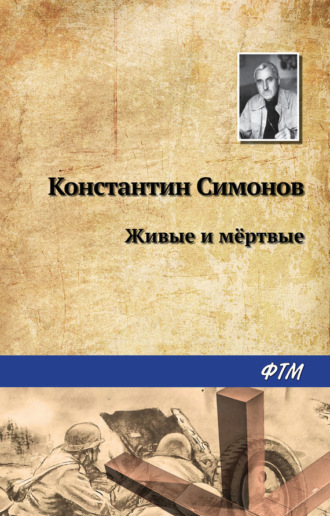
Полная версия
Живые и мертвые
Судя по промелькнувшему дорожному указателю, до Березины оставалось всего четыре километра. Теперь Синцов был убежден, что вот-вот они встретят наши части, не могло же в конце концов никого не оказаться на этом берегу Березины.
Вдруг из лесу выскочили несколько человек и стали отчаянно махать руками. Шофер вопросительно посмотрел на Синцова, но Синцов ничего не сказал, и машина продолжала двигаться. Люди, выскочившие на дорогу, что-то кричали вслед, рупором прикладывая руки.
– Остановитесь! – сказал Синцов шоферу.
К машине подбежал запыхавшийся сержант-сапер и спросил у Синцова, куда идет машина.
– В Бобруйск.
Сержант вытер струившийся по лицу пот и, судорожно глотая слюну, так, что у него перекатывалось адамово яблоко, ответил, что немцы уже переправились на этот берег Березины.
– Какие немцы?
– Танки…
– Где?
– Да метров семьсот отсюда. Только сейчас у нас с ними бой был! – показал сержант рукой вперед. – Мы двигались командой по маршруту к полосе минирования, а они из танка огонь открыли, одним снарядом десять человек убили. Вот нас всего… – он растерянно посмотрел на стоявших рядом красноармейцев, – всего семь осталось… Хоть бы взрывчатка или гранаты с собою были, а то что из нее танку сделаешь?! – Сержант в сердцах стукнул о землю прикладом винтовки.
Синцов все еще колебался, не веря, что немцы в самом деле так близко, но мотор грузовика заглох – и сразу стала отчетливо слышна сильная пулеметная стрельба слева от дороги, совсем рядом, несомненно уже на этой стороне Березины.
– Товарищ политрук! – Люсин впервые за всю поездку подал голос из кузова. – Разрешите обратиться? Может, повернем до выяснения?
На его обычно румяном, а сейчас бледном лице был написан страх, который, однако, не помешал ему обратиться к Синцову по всей форме.
– Повернули, – сказал Синцов, в свою очередь бледнея.
До сих пор ему не приходило в голову, что еще полкилометра, километр – и они заедут в плен к немцам! Шофер с грохотом выжал сцепление, развернул машину, и перед Синцовым мелькнули растерянные лица оставленных им на дороге бойцов.
– Стой! – устыдясь собственной слабости, заорал он и сжал плечо шофера с такой силой, что тот охнул от боли. – Лезьте в кузов! – высовываясь из кабины, крикнул Синцов красноармейцам. – Поедете со мной.
Несмотря на полтора года службы в военной газете, он, в сущности, впервые в жизни приказывал сейчас другим по праву человека, у которого оказалось больше, чем у них, кубиков на петлицах. Красноармейцы один за другим попрыгали в кузов, последний замешкался. Товарищи стали подтягивать его вверх на руках, и Синцов только теперь увидел, что тот ранен: одна нога обута в сапог, а другая, разутая, вся в крови.
Синцов выскочил из кабины и приказал посадить раненого на свое место. Почувствовав, что его приказаний слушаются, он продолжал приказывать, и его слушались снова. Красноармейца пересадили в кабину, а Синцов перелез в кузов. Шофер, подгоняемый все отчетливей слышной пулеметной стрельбой, погнал машину назад, к Могилеву.
– Самолеты! – испуганно крикнул один из красноармейцев.
– Наши, – сказал другой.
Синцов поднял голову. Прямо над дорогой, на сравнительно небольшой высоте, шли обратно три ТБ-3. Наверно, бомбежка, которую слышал Синцов, была результатом их работы. Теперь они благополучно возвращались, медленно набирая потолок, но острое предчувствие несчастья, которое охватило Синцова, когда самолеты шли в ту сторону, не покидало его и теперь.
И в самом деле, откуда-то сверху, из-за редких облаков, выпрыгнул маленький, быстрый, как оса, «мессершмитт» и с пугающей скоростью стал догонять бомбардировщики.
Все ехавшие в полуторке, молча вцепившись в борта, забыв о себе и собственном, только что владевшем ими страхе, забыв обо всем на свете, с ужасным ожиданием смотрели в небо. «Мессершмитт» вкось прошел под хвост заднего, отставшего от двух других бомбардировщика, и бомбардировщик задымился так мгновенно, словно поднесли спичку к лежавшей в печке бумаге. Он продолжал еще идти, снижаясь и все сильнее дымя, потом повис на месте и, прочертив воздух черной полосой дыма, упал на лес.
«Мессершмитт» тонкой стальной полоской сверкнул на солнце, ушел вверх, развернулся и, визжа, зашел в хвост следующего бомбардировщика. Послышалась короткая трескотня пулеметов. «Мессершмитт» снова взмыл, а второй бомбардировщик полминуты тянул над лесом, все сильнее кренясь на одно крыло, и, перевернувшись, тяжело рухнул на лес вслед за первым.
«Мессершмитт» с визгом описал петлю и по косой линии, сверху вниз, понесся к хвосту третьего, последнего, ушедшего вперед бомбардировщика. И снова повторилось то же самое. Еле слышный издали треск пулеметов, тонкий визг выходящего из пике «мессершмитта», молчаливо стелющаяся над лесом длинная черная полоса и далекий грохот взрыва.
– Еще идут! – в ужасе крикнул сержант, прежде чем все опомнились от только увиденного.
Он стоял в кузове и странно размахивал руками, словно хотел остановить и спасти от беды показавшуюся сзади над лесом вторую тройку шедших с бомбежки машин.
Потрясенный Синцов смотрел вверх, вцепившись обеими руками в портупею; милиционер сидел рядом с ним, молитвенно сложив руки: он умолял летчиков заметить, поскорее заметить эту вьющуюся в небе страшную стальную осу!
Все, кто ехал в грузовике, молили их об этом, но летчики или ничего не замечали, или видели, но ничего не могли сделать. «Мессершмитт» свечой ушел в облака и исчез. У Синцова мелькнула надежда, что у немца больше нет патронов.
– Смотри, второй! – сказал милиционер. – Смотри, второй!
И Синцов увидел, как уже не один, а два «мессершмитта» вынырнули из облаков и вместе, почти рядом, с невероятной скоростью догнав три тихоходные машины, прошли мимо заднего бомбардировщика. Он задымил, а они, весело взмыв кверху, словно радуясь встрече друг с другом, разминулись в воздухе, поменялись местами и еще раз прошли над бомбардировщиком, сухо треща пулеметами. Он вспыхнул весь сразу и стал падать, разваливаясь на куски еще в воздухе.
А истребители пошли за другими. Две тяжелые машины, стремясь набрать высоту, все еще упрямо тянули и тянули над лесом, удаляясь от гнавшегося вслед за ними по дороге грузовика с людьми, молчаливо сгрудившимися в едином порыве горя.
Что думали сейчас летчики на этих двух тихоходных ночных машинах, на что они надеялись? Что они могли сделать, кроме того, чтобы вот так тянуть и тянуть над лесом на своей безысходно малой скорости, надеясь только на одно – что враг вдруг зарвется, не рассчитает и сам сунется под их хвостовые пулеметы.
«Почему не выбрасываются на парашютах? – думал Синцов. – А может, у них там вообще нет парашютов?»
Стук пулеметов на этот раз послышался раньше, чем «мессершмитты» подошли к бомбардировщику: он пробовал отстреливаться. И вдруг почти вплотную пронесшийся рядом с ним «мессершмитт», так и не выходя из пике, исчез за стеною леса. Все произошло так мгновенно, что люди на грузовике даже не сразу поняли, что немец сбит; потом поняли, закричали от радости и сразу оборвали крик: второй «мессершмитт» еще раз прошел над бомбардировщиком и зажег его. На этот раз, словно отвечая на мысли Синцова, из бомбардировщика один за другим вывалилось несколько комков, один камнем промелькнул вниз, а над четырьмя другими раскрылись парашюты.
Потерявший своего напарника немец, мстительно потрескивая из пулеметов, стал описывать круги над парашютистами. Он расстреливал висевших над лесом летчиков – с грузовика были слышны его короткие очереди. Немец экономил патроны, а парашютисты спускались над лесом так медленно, что если б все ехавшие в грузовике были в состоянии сейчас посмотреть друг на друга, они бы заметили, как их руки делают одинаковое движение: вниз, вниз, к земле!
«Мессершмитт», круживший над парашютистами, проводил их до самого леса, низко прошел над деревьями, словно высматривая что-то еще на земле, и исчез.
Шестой, последний бомбардировщик растаял на горизонте. В небе больше ничего не было, словно вообще никогда не было на свете этих громадных, медленных, беспомощных машин; не было ни машин, ни людей, сидевших в них, ни трескотни пулеметов, ни «мессершмиттов», – не было ничего, было только совершенно пустое небо и несколько черных столбов дыма, начинавших расползаться над лесом.
Синцов стоял в кузове несшегося по шоссе грузовика и плакал от ярости. Он плакал, слизывая языком стекавшие на губы соленые слезы и не замечая, что все остальные плачут вместе с ним.
– Стой, стой! – первым опомнился он и забарабанил кулаком по крыше кабины.
– Что? – высунулся шофер.
– Надо искать! – сказал Синцов. – Надо искать, – может, они все-таки живы, эти, на парашютах…
– Если искать, то еще немножко проехать надо, товарищ начальник, их дальше отнесло, – сказал милиционер; лицо его вспухло от слез, как у ребенка.
Они проехали еще километр, остановились и слезли с машины. Все помнили о переправившихся через Березину немцах и в то же время забыли о них. Когда Синцов приказал разделиться и идти искать летчиков по обе стороны дороги, никто не стал спорить.
Синцов, двое милиционеров и сержант долго ходили по лесу, справа от дороги, кричали, звали, но так никого и не обнаружили – ни парашютов, ни летчиков. А между тем летчики упали где-то здесь, в этом лесу, и их надо было непременно найти, потому что иначе их найдут немцы! Только после часа упорных и безуспешных поисков Синцов наконец вышел обратно на дорогу.
Люсин и все остальные уже стояли у машины. Лицо у Люсина было расцарапано, гимнастерка разорвана, а карманы ее так туго набиты, что на одном даже оторвалась пуговица. В руке он держал пистолет.
– Убили, товарищ политрук, обоих до смерти, – горестно сказал Люсин и потер рукой расцарапанное лицо.
– Что с вами?
– На сосну лазил. Зацепился один, бедный, за самую верхушку, так и висел вверх ногами, мертвый, еще в воздухе его убили.
– А второй?
– И второй.
– Издевается фашист над людьми! – с ненавистью сказал один из красноармейцев.
– Документы забрал. – Люсин дотронулся до кармана с оторванной пуговицей. – Передать вам?
– Оставьте у себя.
– Тогда пистолет возьмите. – Люсин протянул Синцову маленький браунинг.
Синцов посмотрел на браунинг и сунул его в карман.
– А вы не нашли, товарищ политрук? – спросил Люсин.
– Нет.
– А мне сдается, тех, что по правую руку спустились, их еще дальше отнесло, – сказал Люсин. – Надо подъехать еще метров четыреста, слезть и цепью прочесать лес.
Но прочесывать лес не пришлось. Когда машина прошла еще четыреста метров и остановилась, навстречу ей из лесу, сгибаясь под тяжестью ноши, вышел коренастый летчик в гимнастерке и надвинутом на самые глаза летном шлеме. Он тащил на себе второго летчика в комбинезоне; руки раненого обнимали шею товарища, а ноги волочились по земле.
– Примите, – коротко сказал летчик.
Люсин и подскочившие красноармейцы приняли с его плеч раненого и положили на траву у дороги. У него были прострелены обе ноги, он лежал на траве, тяжело дыша, то открывая, то снова зажмуривая глаза. Пока расторопный Люсин, разрезав перочинным ножом сапоги и комбинезон, перевязывал раненого индивидуальным пакетом, коренастый летчик, сняв шлем, вытирал пот, градом катившийся по лицу, и поводил занемевшими от ноши плечами.
– Видели? – угрюмо спросил он наконец, вытерев пот, снова надев шлем и так глубоко надвинув его, словно и сам не хотел ни на кого смотреть и не хотел, чтобы кто-нибудь видел его глаза.
– Прямо над нами… – сказал Синцов.
– Видели, как сталинских соколов, как слепых котят… – начал летчик. Голос его горько дрогнул, но он пересилил себя и, ничего не добавив, еще глубже надвинул шлем.
Синцов молчал. Он не знал, что ответить.
– Одним словом, переправу разбомбили, мост вместе с танками под воду пустили, задание выполнили, – сказал летчик. – Хоть бы один истребитель на всех дали в прикрытие!
– Ваших двух товарищей нашли, но они мертвые, – сказал Синцов.
– Мы тоже уже не живые, – сказал летчик. – Документы и оружие с них взяли? – добавил он совсем другим тоном, тоном человека, решившего взять себя в руки и умевшего это делать.
– Взяли, – сказал Синцов.
– Лучший штурман полка по слепым и ночным полетам, – сказал летчик, повернувшись к раненому, которого перевязывал Люсин. – Мой штурман! Лучший экипаж в полку был, отдали на съедение ни за грош! – опять срываясь в рыдание, крикнул он и, так же мгновенно, как и в первый раз, взяв себя в руки, деловито спросил: – Поехали?
Раненого штурмана положили в кузов, к задней стенке кабины, чтобы меньше трясло, и подложили ему под ноги кипы газет. Летчик сел рядом со своим штурманом, в головах. Потом сели все остальные. Машина тронулась и почти сразу же круто затормозила.
Это был тот перекресток, где Синцов недавно делился сухарями с часовым. Красноармеец по-прежнему стоял здесь. Увидев возвращавшуюся машину, он выскочил на середину дороги, размахивая гранатой так, словно собирался бросить ее под грузовик.
– Товарищ политрук, – спросил он Синцова голосом, от которого у того похолодело внутри, – товарищ политрук, что же это? Вторые сутки не сменяют… Неужели не будет другого приказа, товарищ политрук?
И Синцов понял, если твердо ответить ему, что другого приказа не будет, что его придут и сменят, он останется и будет стоять. Но кто поручится, что его действительно придут и сменят.
– Я снимаю вас с поста, – сказал Синцов, пытаясь вспомнить, как назло, выскочившую из головы формулу, при помощи которой старший начальник может снять с поста часового. – Я снимаю вас с поста, потом доложите! – повторил он, не вспомнив ничего другого и боясь, что из-за неточно отданного приказа красноармеец не послушается его, останется на посту и погибнет. – Садитесь, поедете со мной!
Красноармеец облегченно вздохнул, прицепил гранату к поясу и полез в кузов машины.
Едва машина тронулась снова, как в небе показались шедшие к Бобруйску еще три ТБ-3. На этот раз их сопровождал наш истребитель. Он высоко взмывал в небо и снова проносился над ними, соразмеряя с их медленным движением свою двойную скорость.
– Хоть эту тройку сопровождают, – сказал Синцову летчик со сбитого бомбардировщика; в его голосе было отрешенное от собственной беды чувство облегчения.
Но не успел Синцов ответить, как из облаков вынырнули два «мессершмитта». Они понеслись к бомбардировщикам, наш истребитель развернулся им навстречу, на встречных курсах свечкой пошел вверх, перевернулся через крыло и, пронесшись мимо одного из «мессершмиттов», зажег его.
– Горит, горит! – закричал летчик. – Смотрите, горит!
Мстительная радость овладела людьми, сидевшими в машине. Даже шофер, оставив на баранке одну руку, высунулся всем телом из кабины. «Мессершмитт» падал, из него вывалился немец, высоко в небе раскрыв купол парашюта.
– Сейчас и второго собьет, – крикнул летчик, – вот увидишь! – Сам не замечая этого, он все время тряс Синцова за руку.
«Ястребок» круто набирал высоту, но второй немец вдруг почему-то оказался уже над ним; снова раздался стук пулеметов, «мессершмитт» вынесся вверх, а наш истребитель, дымя, пошел вниз. От него оторвался черный комочек и с почти неуловимой для глаз быстротой стал падать все ниже и ниже, и лишь над самыми верхушками сосен, когда, казалось, уже все пропало, наконец раскрылся парашют. «Мессершмитт» сделал в небе широкий спокойный разворот и пошел к Бобруйску вслед за бомбардировщиками.
Летчик вскочил на ноги в кузове, он ругался страшными словами и махал руками, слезы текли по его лицу. Синцов видел все это уже пять раз и сейчас отвернулся, чтобы больше не видеть. Он только слышал, как снова издали донесся стук пулеметов, как летчик, скрипнув зубами, в отчаянии сказал «готов» и, закрыв руками лицо, бросился на доски кузова.
Синцов приказал остановить машину. Немецкий парашют еще болтался высоко над головами, наш летчик уже опустился, и на глаз казалось – недалеко, километра за два в сторону Бобруйска.
– Пойдите в лес, поймайте этого фашиста! – сказал Синцов Люсину. – Возьмите с собой бойцов.
– Живым взять? – деловито спросил Люсин.
– Как выйдет.
Синцову было все равно, живым или неживым возьмут немца, хотелось только одного – чтобы, когда сюда придут другие фашисты, он не встретился с ними!
Обоих раненых – штурмана и сидевшего в кабине красноармейца – выгрузили из машины и положили под деревом: охранять их оставили того бойца с гранатами, которого Синцов снял с поста. «Что бы ни случилось, он не бросит раненых», – подумал Синцов.
Люсин, сержант и остальные красноармейцы пошли в лес ловить немца, а Синцов, взяв с собой летчика и двух милиционеров, погнал машину назад.
Они снова ехали к Бобруйску, напряженно глядя по сторонам, надеясь заметить парашют прямо с машины; им казалось, что он опустился совсем рядом с дорогой.
В это время летчик, которого они искали, действительно лежал в ста шагах от дороги, на маленькой лесной полянке. Не желая, чтобы немцы расстреляли его в воздухе, он хладнокровно затянул прыжок, но не рассчитал до конца и выдернул кольцо парашюта на секунду позднее, чем следовало. Парашют раскрылся почти у самой земли, и летчик сломал обе ноги и ударился о пень позвоночником. Теперь он лежал возле этого пня, зная, что все кончено: тело ниже пояса было чужое, парализованное, он не мог даже ползти по земле. Он лежал на боку и, харкая кровью, смотрел в небо. Сбивший его «мессершмитт» погнался за беззащитными теперь бомбардировщиками; в небе уже был виден один дымный хвост.
На земле лежал человек, никогда особенно не боявшийся смерти. За свою недолгую жизнь он не раз бестрепетно думал о том, что когда-нибудь его могут сбить или сжечь точно так же, как он сам много раз сбивал и сжигал других. Однако, несмотря на его вызывавшее зависть товарищей природное бесстрашие, сейчас ему было страшно до отчаяния.
Он полетел сопровождать бомбардировщики, но на его глазах загорелся один из них, а два других ушли к горизонту, и он уже ничем не мог им помочь. Он считал, что лежит на территории, занятой немцами, и со злобой думал о том, как фашисты будут стоять над ним и радоваться, что он мертвый валяется у их ног, он, человек, о котором, начиная с тридцать седьмого года, с Испании, десятки раз писали газеты! До сих пор он гордился, а порой и тщеславился этим. Но сейчас был бы рад, если бы о нем никогда и ничего не писали, если б фашисты, придя сюда, нашли тело того никому не известного старшего лейтенанта, который четыре года назад сбил свой первый «фоккер» над Мадридом, а не тело генерал-лейтенанта Козырева. Он со злобой и отчаянием думал о том, что, даже если у него достанет сил порвать документы, все равно немцы узнают его и будут расписывать, как они задешево сбили его, Козырева, одного из первых советских асов.
Он впервые в жизни проклинал тот день и час, которым раньше гордился, когда после Халхин-Гола его вызвал сам Сталин и, произведя из полковников прямо в генерал-лейтенанты, назначил командовать истребительной авиацией целого округа.
Сейчас, перед лицом смерти, ему некому было лгать: он не умел командовать никем, кроме самого себя, и стал генералом, в сущности оставаясь старшим лейтенантом. Это подтвердилось с первого же дня войны самым ужасным образом, и не только с ним одним. Причиной таких молниеносных возвышений, как его, были безупречная храбрость и кровью заработанные ордена. Но генеральские звезды не принесли ему умения командовать тысячами людей и сотнями самолетов.
Полумертвый, изломанный, лежа на земле, не в силах двинуться с места, он сейчас впервые за последние, кружившие ему голову годы чувствовал весь трагизм происшедшего с ним и всю меру своей невольной вины человека, бегом, без оглядки взлетевшего на верхушку длинной лестницы военной службы. Он вспоминал о том, с какой беспечностью относился к тому, что вот-вот начнется война, и как плохо командовал, когда она началась. Он вспоминал свои аэродромы, где половина самолетов оказалась не в боевой готовности, свои сожженные на земле машины, своих летчиков, отчаянно взлетавших под бомбами и гибнувших, не успев набрать высоту. Он вспоминал свои собственные противоречивые приказания, которые он, подавленный и оглушенный, отдавал в первые дни, мечась на истребителе, каждый час рискуя жизнью и все-таки почти ничего не успевая спасти.
Он вспомнил сегодняшнюю предсмертную радиограмму с одного из этих пошедших бомбить переправу и сожженных ТБ-3, которых нельзя, преступно было посылать днем без прикрытия истребителей и которые все же сами вызвались и полетели, потому что разбомбить переправу требовалось во что бы то ни стало, а истребителей для прикрытия уже не было.
Когда на могилевском аэродроме, где он сел, сбив по дороге встретившийся ему в воздухе «мессершмитт», он услышал в радионаушниках хорошо знакомый голос майора Ищенко, старого товарища еще по Елецкой авиашколе: «Задание выполнили. Возвращаемся. Четверых сожгли, сейчас будут жечь меня. Гибнем за родину. Прощайте! Передайте благодарность Козыреву за хорошее прикрытие!» – он схватился руками за голову и целую минуту сидел неподвижно, преодолевая желание здесь же, в комнате оперативного дежурного, вытащить пистолет и застрелиться. Потом он спросил, пойдут ли еще на бомбежку ТБ-3. Ему сказали, что мост разбит, но есть приказ разбить еще и пристань с переправочными средствами; ни одной эскадрильи дневных бомбардировщиков по-прежнему нет под рукой, поэтому еще одна тройка ТБ-3 поднялась в воздух.
Выскочив из дежурки, никому ничего не сказав, он сел в истребитель и взлетел. Когда, вынырнув из облаков, он увидел шедшие внизу бомбардировщики, целые и невредимые, это была одна из немногих минут счастья за все последние дни. А еще через минуту он уже вел бой с «мессершмиттами», и этот бой кончился тем, что его все-таки сбили.
С первого же дня войны, когда почти все недавно полученные округом новые истребители, МИГи были сожжены на аэродромах, он пересел на старый И-16, доказывая личным примером, что и на этих машинах можно драться с «мессершмиттами». Драться было можно, но трудно, – не хватало скорости.
Он знал, что не сдастся в плен, и колебался только, когда застрелиться – попробовать сначала убить кого-нибудь из немцев, если они близко подойдут, или застрелиться заранее, чтобы не впасть в забытье и не оказаться в плену, не успев покончить с собой.
В его душе не было предсмертного ужаса, была лишь тоска, что он никогда не узнает, как все будет дальше. Да, война застала врасплох; да, не успели перевооружиться; да, и он, и многие другие сначала плохо командовали, растерялись. Но страшной мысли, что немцы и дальше будут бить нас так, как в первые дни, противилось все его солдатское существо, его вера в свою армию, в своих товарищей, наконец, в самого себя, все-таки прибавившего сегодня еще двух фашистов к двадцати девяти, сбитым в Испании и Монголии. Если б его не сбили сегодня, он бы им еще показал! И им еще покажут! Эта страстная вера жила в его разбитом теле, а рядом с ней неотвязной тенью стояла черная мысль: «А я уже никогда этого не увижу».
Жена его, которая, как это свойственно мелким душам, преувеличивала свое место в его жизни, никогда бы не поверила, что он в свой смертный час не думал о ней. Но это было так, и не потому, что он не любил, – он продолжал любить ее, – а просто потому, что он думал совсем о другом. И это было такое великое несчастье, рядом с которым просто не умещалось маленькое и нестрашное в эту минуту горе – никогда не увидеть больше прекрасного лживого лица.
Говорят, человек перед смертью вспоминает всю свою жизнь. Может быть, и так, но он вспоминал перед смертью только войну! Говорят, человек перед смертью думает сразу о многом. Может быть, и так, но он перед смертью думал только об одном – о войне. И когда он вдруг, в полузабытьи, услышал голоса и залитыми кровью глазами увидел приближавшиеся к нему три фигуры, он и тут не вспомнил ни о чем другом, кроме войны, и не подумал ничего другого, кроме того, что к нему подходят фашисты и он должен сначала стрелять, а потом застрелиться. Пистолет лежал на траве у него под рукой, он нащупал четырьмя пальцами его шершавую рукоятку, а пятым – спусковой крючок. С трудом оторвав руку от земли, он, раз за разом нажимая на спуск, стал стрелять в расплывавшиеся в кровавом тумане серые фигуры. Сосчитав пять выстрелов и боясь обсчитаться, он дотянул руку с пистолетом до лица и выстрелил себе в ухо. Два милиционера и Синцов остановились над телом застрелившегося летчика. Перед ними лежал окровавленный человек в летном шлеме и с генеральскими звездами на голубых петлицах гимнастерки.
Все произошло так мгновенно, что они не успели прийти в себя. Они вышли из густого кустарника на полянку, увидели лежавшего в траве летчика, крикнули, побежали, а он раз за разом стал стрелять в них, не обращая внимания на их крики: «Свои!» Потом, когда они почти добежали до него, он сунул руку к виску, дернулся и затих.