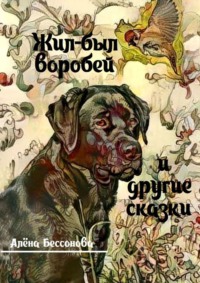Полная версия
Изморозь. Два детектива под одной обложкой

Изморозь
Два детектива под одной обложкой
Алёна Бессонова
© Алёна Бессонова, 2022
ISBN 978-5-4496-7667-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Книга первая: Меня убил Лель

Глава 1. Просьба
Майор Михаил Исайчев – старший следователь Следственного Комитета прибыл в коттедж профессора Петра Владиславовича Мизгирёва по просьбе своего начальника – полковника Корячка Владимира Львовича для расследования причин самоубийства жены профессора. Почему по просьбе, а не по приказу? Потому что следствие по самоубийствам обычно поручались молодым и менее опытным сотрудникам Комитета. Майор Исайчев считался в своём деле асом и его обычно задействовали в дознание сложных заковыристых «дел». Но здесь был особый случай. Полковник Корячок приходился старым другом отцу Петра Мизгирёва. Им выдалось вместе служить срочную службу во флоте на подводной лодке. Как говорит Корячок, «сидеть в одной бочке». Отец профессора позвонил и попросил друга разобраться в причинах поступка невестки без особой огласки.
Личная просьба была высказана Корячком майору Исайчеву и не уважить «шефа» (так его назвали в Следственном Комитете) Михаил не мог, вернее, не посмел бы, и не потому, что боялся осложнений в карьере, а потому что просто уважал старого «следака». В начале 90-х из «сыска» в короткое время ушли опытные, ещё не старые сотрудники, не выдержав наглости и самоуверенности едва вылупившихся из скорлупы юридических ВУЗов молодых специалистов. Знания, полученные бывшими задорными студентами в учебных заведениях без опыта следственной практики не способствовали успешной работе и вскоре «раскрываемость» начала резво падать.
«Старики» с обидой, но всё же, после настойчивых приглашений, возвращались на прежние места, возрождая проверенные временем принципы следственной работы. Полковник Корячок как раз относился к таким «старикам» и его просьбы принимались без обсуждения, хотя подразумевалось, что объём повседневной следственной работы уменьшен не будет.
Исайчев в глубине души слегка потрепыхался – не любил он разбираться в причинах самоубийств. Не мог заставить себя не думать о том страхе и отчаянии, которые толкали человека на крайние меры. Убийство – другое дело. Есть жертва, и есть злодей – враг. Его нужно изобличить, заставить признать вину или доказать её, впоследствии изолировав супостата, во благо спокойствия общества. Душевные страдания самоубийцы Исайчев старался не принимать близко к сердцу, но для этого его не должно было быть, этого самого сердца, а у Михаила оно было большое, способное любить и сострадать. Почти в ста случаях Исайчев находил менее кардинальный выход из сложившихся у жертвы обстоятельств, и это ещё больше расстраивало его. Такую сентиментальную нотку в характере Исайчев считал мало профессиональной. Но что поделаешь? Все мы не без изъяна.
Переступив порог профессорского особняка, прямо у двери Михаил наткнулся на знакомого начальника убойного отдела районного ОВД майора Константина Плетнёва. Они поздоровались и Плетнёв взмахом руки указал Исайчеву направление куда следует идти. Сам двинулся вперёд. У открытой двери ванной комнаты, остановился:
– Она там!
Исайчев вопрошающе взглянул на майора. И тот, на секунду замешкавшись, пояснил:
– Я уже видел…
– Много людей уже видело?
Плетнёв утвердительно кивнул:
– Да. Все, кто успел до прибытия старшего эксперта майора Долженко. Она приказала ждать тебя и никого не допускать.
– Все – это твои?
Плетнёв вновь кивнул, отошёл в сторону, чтобы пропустить Михаила, вслед добавил:
– Мои. Они осторожненько, ничего не трогали… Исайчев, минуя дверной проём, споткнулся. То, что он увидел, было завораживающе страшно. Оторопь брала. В отделанной белым кафелем комнате на бортике такой же белой ванны почти до краёв заполненной вишнёвого цвета жидкостью, лежала голова необыкновенно красивой женщины с размётанными в разные стороны иссиня-чёрными сосульками мокрых волос. Вода закрывала её до подбородка и казалось густой, как желе, а лицо вылепленным из гипса. Если бы не открытые глаза и не их взгляд, направленный прямо на Исайчева, можно было подумать, что на бортик ванны приклеили маску. Только на ней вместо пустых чернеющих глазниц горит удивлённый, немного растерянный взгляд небесно-голубых глаз, а на губах едва намеченная виноватая улыбка. Исайчев не мог оторвать взгляда от этого удивительного сочетания белого, красного и голубого. Смотрел заворожённо, пока кто-то не тронул его за плечо:
– Привет, майор! – это была эксперт Галина Николаевна Долженко.
В Комитете майора Долженко не только уважали, но и обожали. Сотрудники называли её «бабушкой русской экспертизы». Бабушка была в меру строга, многоопытна, а главное, защищала от гневливого шефа проштрафившихся сотрудников. Она придумывала такие причины, обеляющие провинившихся, что души не чаявший в ней начальник забирал свои грозные слова обратно. Когда-то давно, лет тридцать назад, Владимир Львович был в неё влюблён, но добиться расположения не хватило силёнок, о чём он продолжает жалеть по сей день. Защищала Галина Николаевна, конечно, не всех, а только тех, кого считала богом поцелованным трудоголиком. Любимая поговорка майора Долженко звучала так: «Кто в работе впереди, у тех орден на груди». Михаил Исайчев как раз относился к той группе людей, которую в будущем, по словам Галины Николаевны, ожидал орден, а то и два.
Исаичев встрепенулся, обернулся, недоуменно спросил:
– Галя, самоубийство без криминала? Или всё же 110-я1?
Галина Николаевна вытянула из сумочки пачку сигарет, подпалила зажигалкой одну из них, глубоко затянулась, расслаблено – блаженно выдохнула струйку сизого дыма:
– Чистая 110 УК. Самоубивица записочку оставила. Довели её до этой крайности.
– Написала кто?
– Какой-то Лель… Фотографий не оставила, телефончиков и прочих адресочков не дала. Рекбус! Краксфорд! Вот смотрю на неё и думаю, чего она так боялась потерять, ажно руки на себя наложила? Красавица, упакована по полной: дом – чаша до краёв, муж любящий, и вот те на… Отчего перестала дружить с головой? Влюбилась? Зрелые бабёнки горько переживают неудачи в любви…
Исайчев усмехнулся:
– Романтик ты у нас, Галина Николаевна. Волосы на голове в седую кудель, а всё в любовь до гроба веришь.
– Эх, Мишаня, – вздохнула Долженко, – без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя прожить… Дура она… Жить надо, хоть бы из любопытства.
Галина Николаевна придавила о подошву ботинка загоревшийся фильтр сигареты и бросив его в сумку, вновь достала пачку. Увидев вопросительный взгляд Исайчева, пояснила:
– Сумка старьё, не берегу. Зато всё своё ношу с собой. Не сори и не сорим будешь!
Исайчев потянул ноздрями воздух. От эксперта пахло дровами, печью и жареными сосисками:
– Майор, ты, небось сюда прямо с пикника прибыла?
– Нет, – сосредоточенно высматривая в пачке заныканную после утреннего кофе половинку сигареты, сообщила Долженко, – на происшествии, за городом отиралась, а что?
– Потерпевшие бараний шашлык жарили?
– Ты чего пристал, потерпевшие в реке утопли.
– Отчего пахнешь костром, будто на даче была?
Не найдя заначки, Галина Николаевна достала целую сигарету, закурила:
– Не хрена не была, уже года три. Бегаю, как гончая собака от трупа до трупа. Пятки горят. Пятками горелыми от меня пахнет! И не бараньими, а конскими…
– Это ещё почему? – не понял Исайчев.
– Потому что я больше конь, чем овца. Ты, Мишаня, голодный, что ли?
– Есть немного, – грустно отозвался Исайчев, – не успел позавтракать…
– Иди в гостиную там свёкор и муж. Муж сидит, икает…
– Икает?
– Он с тех пор как в ванной обнаружил свою супругу, так и икает. Записку ему прочесть позже дали. Сам не увидел. В прострации был. Прочёл и сразу в туалет. Целый час не выходил. Медвежья болезнь одолела. Я плетнёвских оперов под дверью поставила, чтобы слушали… не дай бог… Утонуть не утонул бы, а вздёрнуться мог… Там в гостиной ещё его отец. Мужик кремень, ходит, на всех покрикивает. Попроси его кофием тебя угостить. Может, сжалятся…
– Ты закончила здесь?
– Не совсем. Тебя ждала. – Долженко вынула из чемоданчика записку в целлофановом пакете и тростниковую дудочку. – Записку прочти. Дудочку на кровати самоубивицы нашли. Муж говорит, раньше её не видел.
– «Меня убил Лель. Прости Пётр», – прочёл через целлофановую плёнку Исайчев и, вернув пакет эксперту, взял из её рук другой, с дудочкой. Повертел разглядывая:
– Помнишь, Галя, детскую книгу «Путешествие Нильса на диких гусях»? В ней мальчик играл вот на такой тростниковой дудочке и завёл в пропасть целую стаю крыс.
– Нашего мальчика звали по-другому – Лель. Он из другой сказки, – Долженко вновь затушила привычным движением фильтр сигареты и, виновато поглядывая на Исайчева, вновь полезла в сумку за следующей. – Не накуриваюсь, когда нервничаю… чего только не делала, даже тряпку антиникотиновую на руку приклеивала – не помогает!
– Ну-ка брось! – рявкнул Михаил. – В ящик сыграть хочешь? Третью уже смолить собираешься. Сдохнешь так. Ты не на то место тряпку клеила, надо было на рот.
– Не шуми, Мишань! – на шаг отступив от Исайчева, попросила Долженко, – эта здесь последняя…
– Здесь?! – озлился Исайчев, – Так, ты сейчас уезжаешь! В своей норке опять смолить будешь? Когда сделаешь экспертизу?
Долженко вопросительно взглянула на майора:
– Я что, пластырь не туда клеила? Ты говоришь на рот? И что это даст?
– Некуда будет вставлять сигарету… – хмыкнул майор.
– А-а-а ты в этом смысле? А есть как? Его на двадцать четыре часа ставят – иначе бесполезно. Эдак я схудну… обвисну… не молодая уже…, – с серьёзным выражением лица ответила Галина Николаевна и, прикуривая следующую сигарету, бросила, – хватит ржать, давай работать! Отпечатки пальчиков отработаю, позвоню. Могу только пальчики… больше ничего не нашла.
Исайчев вгляделся в темноту длинного коридора, спросил:
– Куда идти? Где здесь гостиная? Дверей-то! Чёрт их разберёт …Кстати, почему нервничаешь? Чего вдруг? Случилось что?
Долженко, вытянув руку вперёд, грустно произнесла:
– Ты же её видел в ванной… красота какая… сердце щемит от жалости. Иди уже… Первый поворот налево или, может, направо. Муж там. Свёкор там. Я на воздух ушла. Сейчас дождусь пока воду спустят, ещё раз осмотрю её и домой, – она энергично зашагала в направлении парадного входа.
– Сердце дома надо оставлять, когда на происшествие едешь, – крикнул ей вдогонку Михаил.
– Так я не сердцем, я нервами нервничаю, – не оборачиваясь, ответила Долженко, – «следакам» положено физиологию знать, охламон!
Исайчев пошёл по лучу коридора, озираясь на закрытые двери и бормоча под нос:
– Вот, а моя жена говорит сердцем…
Поворот оказался только направо и, выполнив его, перед глазами Михаила открылась необъятных размеров гостиная с застеклённой от пола до потолка внешней стеной. Мебель гостиной строгих геометрических форм в чёрно-серых тонах со вставками пластика и хромированного металла, витиеватый рисунок белого глянцевого потолка в точности повторяющий рисунок чёрного напольного покрытия, навели Михаила на мысль, что придётся иметь дело с крайне закрытыми людьми. Как-то не вязалось добродушие и открытость с имеющейся обстановкой гостиной. Оценив её и плотные тяжёлые занавеси для декорирования оконных проёмов, возникшая в голове Исайчева мысль укрепилась.
– Ох, не люблю такие помещения, – подумал Михаил, – так и кажется, что непременно появится Дарт Вейдер. Для меня Иванушка на печке всё же ближе. Как же здесь мог появиться Лель? Он явно герой не этой сказки…
– Проходите!
Исайчев услышал строгий голос. Он шёл из глубины чёрного велюрового кресла. Оно стояло в затемнённом углу комнаты и только вглядевшись, Михаил заметил выступающее из его прямоугольной спинки лицо мужчины, обрамлённое седыми волосами. Само тело, одетое в чёрный костюм и такую же водолазку, терялось в его мягких глубинах. Рядом с креслом, подвешенный за ручку, притулился светлого дерева бадик.
– Вы следователь Исайчев?
– Так, точно. Я есть он.
Мужчина встал, протянул для приветствия руку. Пожатие было жёстким, железным:
– Владислав Мизгирёв, свёкор Сони. Отец её мужа Петра. Вы всё уже видели? Присаживайтесь… Она ещё там? Михаил присел в кресло напротив.
– Нет. Её увезли…
– Куда?! – всполошился хозяин.
– Владислав? – решил уточнить Исайчев.
– Иванович, – поспешил добавить Мизгирёв, – а похороны?
– Владислав Иванович, есть порядок. Это не совсем самоубийство…
Мизгирёв вскинул пучкастые брови, не дал Михаилу закончить фразу:
– Вы думаете это убийство?
Исайчеву показалось, что на губах собеседника сверкнула и тут же погасла улыбка. Михаил пояснил:
– Софья оставила записку, в которой обвинила пока неизвестного следствию человека в доведении её до крайности. Посему здесь просматривается уголовная статья. Мы обязаны случившееся расследовать и отдать злодея под суд…
Владислав Иванович вернулся в кресло, обмяк:
– Я всё же надеялся, что она не сама. Соню уже не вернёшь, но мне было бы легче, если она… если её… – мужчина закрыл лицо ладонями, тяжко вздохнул. – Я говорю глупости… но вы поймите …это так страшно если она сама…
– Папа!
Окрик стеганул старика и тот, лихорадочно вытирая щёки и глаза, затряс головой:
– Простите я сейчас… сейчас…
Михаил обернулся: «Вот и Дарт Вейдер!» подумал он усмехаясь.
Человек, стоящий на пороге гостиной, был одет так же, как и его отец – в чёрное. Только на голове не было ни волосинки, а лицо казалось вытертым меловой тряпкой. Он протянул руку и так с протянутой рукой дошёл до кресла Михаила:
– Профессор Петр Мизгирёв. У вас есть ко мне вопросы? – он постоял рядом с креслом отца и, дождавшись, когда тот переместится на диван, сел на его место.
– Вы читали предсмертную записку жены?
Мизгирёв кивнул.
– Вы знаете кто такой Лель?
– Да, конечно. – профессор поморщился, – Это Игнат Островский. Наш с Соней общий друг, однокашник.
– У вас есть его адрес? Где его сейчас можно найти?
– На кладбище! – срываясь на петушиный крик, выплеснулся Мизгирёв. – Он уже больше семнадцати лет лежит в могиле на Воскресенском кладбище…
Михаил снял очки, протёр платком стёкла и, помассировав указательным пальцем переносицу, водрузил их обратно:
– Давайте по порядку, – сказал он спокойным голосом.
– Давайте! – икнул профессор.
Глава 2.Берендеи
За тридцать лет до описываемых событий. Районный городок Хвалынь.
– Эй, берендеи, вы куда без меня! – кричала девчонка, нагоняя на велосипеде группу из четырёх ребят. Двух подростков шестнадцати – семнадцати лет и двух пацанчиков лет шести – семи.
– Так нечестно, остановитесь!
Девчонка энергично крутила педали, высоко поднимая костистые коленки, отчего её и так слишком коротенькое платьице сбилось, представляя на обозрение малиновые в мелкий цветочек трусики. Девчонка была худющей, но к своим пятнадцати годам уже оформилась по-женски, сосредоточив причитающийся ей природой вес на ягодицах и бёдрах, в то же время не обделив торчащих в виде фиг грудки. Они не запеленованные в бюстгальтер важно колыхались в такт прыгающих коленок. Только спина не участвовала в движении. Она была пряма, как стрела и демонстрировала миру через слишком откровенный вырез на платье каждый свой позвонок. Ребята оглянулись, ускорили шаг.
– Вот навязалась на нашу голову. Зачем она нам на острове? Где она спать будет? – скорчив кислую физиономию, пробубнил себе под нос парень в чёрной борцовской майке и красных с белой боковой полосой шортах. Его соломенного цвета волосы непослушно спадали прядями на лоб, и он сдувал их, выпячивая вперёд нижнюю губу.
– Лель, давай возьмём. Она нам уху сварит… – с мольбой в голосе прошептал рыжеватый обсиженный веснушками паренёк в старенькой тельняшке и вытянутых на коленках трениках.
Тот, кого назвали Лелем притормозил шаг и с любопытством посмотрел на спутника:
– Ох, Мезгирь, за что ты её так любишь? Она этого не стоит. Про уху хорошо вспомнил. Ладно, пусть едет…
Они остановились, дожидаясь девчонку, из последних сил вращающую педали кривоколёсного велосипеда. Достигнув цели, она звонко заголосила скороговоркой:
– Ты нормальный, Лель? Сам придумал Берендеево царство. Назвал меня Купавой, а теперь стараешься от меня отделаться, нехорошо, Игнат! Не по-товарищески… У берендеев Лель и Купава любят друг друга, – и понизив голос, прошептала, – и я тебя люблю… очень…
Парень в чёрной борцовке, поднял руку, останавливая выплёскивающийся из девчонки поток слов:
– Не трынди! В ушах звенит… Если я Лель, то любить я должен не Купаву, а Снегурочку. До Снегурочки ты недотягиваешь. По большому счёту, тебе Сонька, надо с девчонками на поле венки из ромашек плести, а ты с парнями по речным заводям шляешься. Хочешь с нами на остров, веди себя, как Купава – невеста Мизгиря. Ты не против, Мизгирь?
Он подтолкнул друга ближе к девчонке, а та обеими руками, что было сил, отправила парня обратно. Тот, кого называли Мизгирём, едва удержался на ногах.
– Не ври, дурак! – девчонка в отчаянии топнула ногой. – Лель любил Купаву. Любил! Ему Снегурочка во взаимности отказала. Я тебе, Лель, никогда не откажу… Ты плохо знаешь пьесу, Игнат!
– Что будет потом, решу сам. Нашу пьесу сочиняю я! – паренёк намеренно усилил звук голоса, выделяя слово «нашу».
За перебранкой они подошли к реке, отыскали в камышах оставленную два дня назад лодку и, погрузившись, отплыли от берега, спрятав в тех же камышах велосипед.
– Слушай, Игнат, – прошептал Петр, энергично работая вёслами, – зачем ты так с ней? Сонька любит тебя с детского сада. Таскается за тобой всюду. Тебе что, для неё ласкового словечка жалко? Девчонка переживает…
Игнат приблизил злое лицо почти к самому уху друга, сказал, цедя сквозь зубы:
– Петька, ты голову потерял? Она ведь знает о твоих чувствах. Ты тоже таскаешься за ней всюду, но ласковых слов для тебя она не находит.
– То я. – Петр виновато опустил голову. – Я мужик, потерплю. Ты жениться на ней не собираешься? – он с мольбой взглянул в глаза друга.
В ответ Игнат хмыкнул:
– Ещё чего! Я её не люблю.
– Значит, дождусь! – выдохнул Мизгирь.
В это время девчонка улеглась животом на носу лодки и блаженно улыбаясь, подставила солнцу, задрав юбку платья уже под грудь, шоколадную спину и ягодицы. Соня любовалась деревом на берегу острова. Его крона закрыла солнечный диск, но пучки света заселили каждую щёлочку в ветвях и листьях, превращая дерево в переливающийся новогодний шар. Слепыми от солнца глазами Соня иногда поглядывала на мальчишек. Они переговаривались между собой, бодро работали вёслами. Младшие, которых в компании берендеев звали Брусило и Малыш копались на дне лодки, разбирали в коробке снасти к удочкам.
Брусило приходился братом Соне, а Слава – Малыш братом Игнату. Мальчишки тихие, послушные не были обузой. Утро субботы удалось и Соня, мечтая, задремала. Разбудил её резкий толчок, лодка причалила к берегу.
Всё время до обеда ребята строили второй шалаш. Решено было ночевать так: Игнат, Петр и Малыш в большом шалаше, а Соня и Брусило в свеже построенном поменьше. Соня хлопотала с обедом, варила в котелке на костре кашу из концентратов. Рыбы для ухи ребята ещё не наловили. Малышня таскала сучья, резала у берега камыш. К обеду всё сладилось: и шалаш и еда. Компания разместилась рядом с огнём.
– Куда, Купава, собираешься поступать после школы? – спросил Игнат, облизывая кашу с ложки, – в кулинарный не хочешь? Каша у тебя отменная!
– С её золотой медалью она может поступать куда хочет, – вставил фразу Петр.
Соня суетливо выхватила у Игната плошку и выложила из котелка всю оставшуюся кашу:
– Доедай, если понравилась, – откликнулась раскрасневшаяся от жара костра и похвалы повариха. – Мизгирь, посуду мыть тебе. А вы куда собираетесь?
Игнат живо доел добавок, повалился на спину и, поглаживая сытый живот, позёвывая, ответил:
– Я с Мизгирём в университет на химико-технологический.
– Я с вами! – тут же воскликнула Соня.
– Ты хотела на иностранные языки, – удивился Петр.
– А теперь хочу с вами, – зыркнув злым взглядом на Петра, сказала Соня и вопрошающе посмотрела на Игната. Игнат спал.
– Замучился наш Лель. Простудится на траве, от реки мокротой тянет. Надо разбудить его, пусть идёт в шалаш. – Соня осторожно тронула парня за плечо, – Лель, переходи в шалаш.
Игнат перевернулся и, встав на четвереньки, не открывая глаз, пополз в направлении шалаша. Через минуту из убежища донеслось его сопение.
– Мы что будем делать? – спросил Петр, собирая грязную посуду.
– За грибами пойдём, – весело ответила Соня. – Где моя корзинка? Если наберём, я вам вечером такую солянку на костре сварганю – пальчики оближите…
Грибов Соня с Петром набрали немного, хотя облазили все закоулки, овраги и лесистые пригорки острова. Но и то, что собрали, было, кстати. Мальчишки Брусило и Малыш наловили рыбы. Игнат пока берендеи ходили по грибы, прикрепил над костром котелок с водой, почистил рыбу и картошку. Соня сразу же принялась за дело.
Уха с грибами, по специальному Сониному рецепту получилась, действительно, пальчики оближешь. Весь вечер парни наперегонки распевали песни под гитару. Каждый старался выкинуть музыкальные коленца, удивить. Игнат больше похрипывал песни Высоцкого, а Пётр – Юрия Визбора:
– Не утешайте меня,Мне слова не нужны.Мне б отыскать тот ручейУ янтарной сосны.Вдруг там меж сосенКраснеет кусочек огня,А у огня ожидают,Представьте, меня, – выводил он хорошим баритоном, поглядывал на Соню.
Ночь тихая и светлая укрыла реку, выбелила лунную дорожку. Прибрежные ивы опустили в воду косы, позволили волнушкам поиграть ими. Костёр потрескивал. Брусило и Малыш давно заснули. Пётр и Соня разморились, побрели по своим местам. Выспавшийся за день Игнат решил посидеть у костра.
Ночью Пётр проснулся, рядом беспокойно спал Малыш. Во сне он, вероятно, ловил рыбу. «Подсекай!», «Тяни!», «Подсекай!» – выкрикивал мальчишка, ворочаясь с бока на бок. Игната в шалаше не было. Пётр решил сходить по нужде и заодно посмотреть, не заснул ли друг у костра – чего доброго, обожжётся.
Костёр догорал, а из шалаша Сони доносились необычные хлюпающие звуки и страстный шёпот Сони:
– Лель, любимый… Ты ведь любишь меня, правда? Никакая я не Купава, я твоя Снегурочка…
И недовольный ворчащий голос Игната:
– Молчи… молчи… брата разбудишь…
Петр не помнит, как добрался до своего места в шалаше. Помнит, что обмочился и от ужаса, стыда и страха, закусил мякоть большого пальца до крови – лишь бы не закричать… лишь бы не закричать…
Глава 3.Дело закрыто. Забудьте!
– С чего начнём? – профессор Мизгирёв встал, подошёл к портрету жены. В интерьере гостиной картина была самой яркой точкой. Только сейчас Михаил понял – всё вокруг сделано для того, чтобы выделить портрет. Написанный маслом, он отражал не только лицо, но и характер женщины. Она смотрела на мир голубыми с лёгкой грустинкой глазами. Тёмно-русые волосы тяжёлыми прядями ложились на плечи. Выражение лица казалось безмятежным и почти счастливым. Слово «почти» острым коготком карябало Исайчева.
«Терпеть не могу это убогое „почти“. Когда оно возникает, – подумал Михаил, – то всё, что было до него и после становится ущербным. Слово вгоняет в тоску, делает окружающее декорациями к постановке. Жизнь утекает из этого спектакля, превращаясь в ванну с тягучей тёмно-вишнёвой жидкостью!»
Исайчев взглянул на стоящего рядом Петра Мизгирёва. Хозяин тоже всматривался в портрет.
– И всё же она не Купава. – с застывшим на лице выражением безнадёжности выговорил Пётр, – Сонька – Снегурочка! Снегурочка! Никак не сговорчивая, плывущая по волнам обстоятельств Купава.
– Мне кажется, что и Снегурочка не обладала особо решительным характером, – откликнулся Исайчев, – какое-то мятущееся, сонное существо…

– Ну что вы? – решительно не согласился профессор, – Снегурочка предпочла растаять, не приняла предложенные ей условия существования. Это поступок, прыгнуть в огонь! Так и Соня… – Пётр сглотнул комок в горле и уже спокойнее сказал, – давайте по порядку…