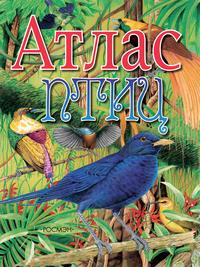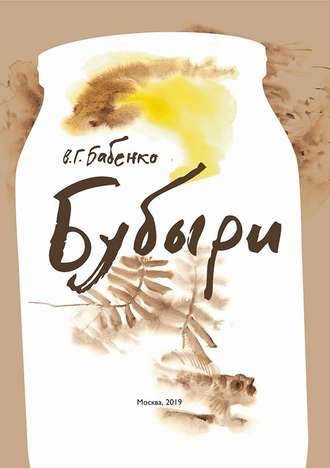
Полная версия
Бубыри (сборник)
Николай Николаевич даже наметил, куда поставит паровоз – под навес у ротонды. Потом он составил список персон, к которым следовало обратиться по поводу происхождения паровой машины.
Первым в списке стоял главврач психлечебницы (который, понятное дело, ничего не мог знать об этом паровозе), последними были старожилы Ново-Чемоданова и окрестных поселков, в том числе и Хлёст.
Вспомнив о Хлесте, Николай Николаевич взглянул в окно. Он, к своему удивлению, увидел в соседском дворе супругу Хлеста. Хотя она по-прежнему была окрашена в необычный цвет цитрусовых, но ее оранжевое лицо выражало полное умиротворение.
Николай Николаевич еще полчаса проработал над статьей о паровозе, периодически прерываясь и размышляя о том, почему столь опасного инфекционного больного отпустили из больницы.
Но его творческий процесс был прерван: со знакомого двора раздался истошный крик Хлестовой супруги, а затем матерное рычание и самого хозяина.
В который раз за сегодняшний день Николай Николаевич выглянул в окно и увидел, как из дома рыболова сначала выскочила отчаянно визжащая Хлестиха, а за ней – Хлёст. Он был без обычной цигарки во рту, но зато с топором в руках.
Бабка, отворив калитку с воем: «Помогите, убивают!» – помчалась по Верхней Лупиловке, а молчаливый, но вооруженный Хлёст – за ней.
Из проулка навстречу супружеской чете вышел живущий на Нижней Лупиловке владелец козы. Скотовод был полон решимости выяснить, зачем Хлёст отпилил зубы у его животного. Но, увидев бегущую ему навстречу апельсинового цвета и орущую благим матом Хлестиху, а так же самого Хлеста с топором, развернулся и исчез в переулке.
Судя по крикам, Хлёст гнал ее метров сто. Потом он выдохся и вернулся домой. Здесь Хлёст выволок из дома во двор чистые, почти новые половики и с остервенением порубил их топором на мелкие куски.
Николай Николаевич по своим лабиринтам стал выбираться наружу, чтобы расспросить соседа о случившемся. Пока он шел, его философский ум работал, развивая различные версии. Самой правдоподобной для Николая Николаевича показалась следующая. У бабки в районе была выявлена какая-то неизлечимая, позорная болезнь (окрасившая ее в столь необычный колер) и Хлестиху отпустили домой – умирать. Узнав о том, что бабка ему изменяла, вспыльчивый ново-чемодановский Отелло решил ее наказать. В этой версии Николая Николаевича, правда, смущали две детали. Первая: бабка из района вернулась не угнетенная, а явно радостная. Вторая: а зачем Хлёст рубил половик? Неужели он служил престарелым супругам брачным ложем?
Размышляя над этим, Николай Николаевич вышел во двор. За забором у колоды, которая была украшенной пестрыми лоскутьями и воткнутым топором, стоял успокоившийся Хлёст и с наслаждением прикуривал от кипятильника. Электроприбор с хлопком перегорел как раз в тот момент, когда Николай Николаевич поприветствовал бывшего уголовника.
Хлёст не торопясь, посапывая вонючей «козьей ножкой», поведал Николаю Николаевичу, что его супруга, слава богу, здорова, а апельсиновый цвет ее кожи возник просто потому, что последние два месяца она питалась исключительно тыквами, а что же касается небольшой размолвки, возникшей между ними, так это оттого, что сегодня его дражайшая половина, будучи в хорошем настроении (связанным с тем, что диагноз об опасном инфекционном заболевании не подтвердился), забылась, без разрешения проникла в его комнату и совершила там совершенно недопустимые и непростительные вещи: смела пыль со стен и потолка, вымыла пол, постелила на нем новый половик, а потом разложила на рабочем (он же обеденный) столе все блёсны, грузила и крючки по отсортированным кучкам и самое страшное – добела вымыла любимую кружку, в которой Хлёст лично заваривал чифирь.
Поэтому и последовало небольшое внушение.
– Ну, ничего, – добавил Хлёст, – милые бранятся, – только тешатся. Вон бабка домой ковыляет, – и рыболов махнул рукой в сторону Нижней Лупиловки. – А ведь как шустро бегать может! Как молодая!
Николай Николаевич вернулся к себе в музей.
Он бесшумно, как ниндзя, пробрался по темным коридорам к себе в кабинет, на ходу касаясь невидимых рукоятей алебард, эфесов шпаг и мушкетных лож.
Краевед зажег свет, взглянул на часы и набрал номер телефона психлечебницы. Главврач был на месте. Поздоровавшись и представившись, Николай Николаевич спросил, не знает ли тот о происхождении первобытного паровоза.
– Ну что вы, это не черепановская модель. Да и не ползуновская, – сказал главврач. – Это мои пациенты в позапрошлом году делали. В качестве трудотерапии. К нам тогда попало сразу 12 человек из какого-то закрытого НИИ. Все с высшим техническим образованием. И все не то чтобы буйные, но, скажем так, очень активные. Ну вот, чтобы их как-то отвлечь и чем-нибудь занять, а заодно очистить территорию от металлолома (у нас тут целая свалка была – знаете, старые машины, холодильники, пылесосы), мы им предложили из этого что-нибудь соорудить. Вот они и сделали паровоз. Не настоящий, конечно (хотя у них и такая идея возникла, но я им не разрешил), а его модель. Без сварки, конечно. Я, знаете ли, все-таки побоялся им сварочный аппарат доверить. Получилась модель паровоза в представлении, так скажем, технически грамотных, но не очень уравновешенных в душевном плане людей. Но колеса крутятся. Другие пациенты нашей клиники, не столь интеллигентные, как творцы этой машины, даже толкали паровоз по территории учреждения. По асфальту, конечно. А самый спокойный контингент изображал вагоны. Так что, к сожалению, должен вас огорчить. Это не Черепанов и не Ползунов.
Поблагодарив за столь исчерпывающую информацию о происхождении паровоза, расстроенный Николай Николаевич с грустью посмотрел на почти готовую статью и отодвинул ее на край стола.
Муха колотилась о мерцающую люминесцентную лампу в полутемном коридоре, и та нежно звенела, как старинный хрустальный бокал.
Краевед взглянул в окно. Вечерело. По двору Хлеста три бройлера с телосложением борзой гоняли такого же четвертого. В клюве преследуемого висел мышонок, которого птица судорожно пыталась проглотить.
Николай Николаевич откинулся на спинку стула и задумался. Завтра в 10.00 музей открывался для посетителей; надо было подготовиться к экскурсии. А кроме того, ему очень понравились дорические колонны у входа в музей воздухоплавания. Николай Николаевич хорошо знал, где ночью можно раздобыть еще пару труб, которые, если их поставить вертикально и покрасить белой краской, будут полностью соответствовать всем канонам этого античного ордера.
Метис
«Ямаха» – не чета «Бурану». Тот давно бы заглох в березовом чапыжнике, у него на подъеме оборвался бы вариаторный ремень, а скорее всего он вообще бы в мороз не завелся.
«Ямаха» все эти горно-таежные невзгоды переносила отлично. А кроме того, на равнине развивала такую скорость, что никакому «Бурану» и не снилось. Недаром настоящие охотники никогда не гоняли на них зайцев и лис – у зверей никаких шансов на спасение не оставалось, когда по снежной целине за ними летела машина со скоростью под 100 километров в час.
Импортные «Ямахи» берегли. Их использовали только для особых охот. Как сейчас – для погони за волками.
В окрестностях города оставалась последняя стая. Последняя из трех.
Волки вокруг города были всегда. Но если в прошлом звери промышляли в основном косуль, лосей и маралов, то в этом году уже с осени из окрестных деревень стали приходить вести о зарезанных козах, овцах, телятах и украденных собаках.
Егеря и охотоведы это объясняли просто – прошлая зима была суровая, много диких копытных погибло, и волки оголодали.
Как только лег снег, все три стаи быстро обнаружили по следам и две из них уничтожили.
Одну заметили в поле, вызвали вертолет и расстреляли с воздуха. Всего тогда добыли 11 зверей. На вторую стаю (там было семь волков) времени ушло больше. Ее трижды окладывали флажками, постепенно выбивая зверей. Последних двух волков из этой стаи догнали на снегоходах на льду замерзшей реки.
А вот за третьей, небольшой (в ней было всего четыре волка – двое взрослых и двое переярков) гонялись почти до самого Нового года.
Эта стая просачивалась через оклады, от вертолетов пряталась в ельниках, от снегоходов – в березовых чапыжниках или в гольцах и по-прежнему кормилась у деревень: зарезала лошадь, пару овец и несколько собак.
Сегодня одному из охотников повезло. Он, выехав на «Ямахе» на окраину верхового болота, заметил, что вожак неосмотрительно рискнул перевести зверей через марь. Наст был плотный, и волк, видимо, полагал, что замершее болото они на махах проскочат быстро.
Но он ошибся. «Ямаха» по такому насту «выдавливала» все сто двадцать. И уже через минуту охотник был рядом.
Загремели выстрелы. Один из переярков упал. Тогда вожак развернулся, бросился на стрелявшего, сидевшего в снегоходе, и, тоже сраженный пулей, ткнулся в снег рядом с машиной. А матерая волчица и последний молодой, как будто осознав, что у них было всего несколько секунд – как раз те несколько секунд, когда охотник вставлял в карабин новую обойму, успели отбежать на сотню метров.
Охотник передернул затвор и выстрелил. Переярок закрутился на снегу. Охотник, не обращая на него внимания, стал стрелять по волчице. Она металась из стороны в сторону, тем не менее, стремительно сокращая расстояние до спасительного ельника. Оставалось всего несколько метров, когда после очередного выстрела волчица упала, но тут же вскочила и скрылась между деревьями.
Охотник подъехал к переярку и добил его. Потом подогнал «Ямаху» к тому месту, где падала волчица. Крови не было.
Следы одинокой волчицы не встречали нигде – ни в тайге, ни на верховых болотах, ни в гольцах. И охотники решили, что она ушла. Тем более, что и скот у крестьян перестал пропадать. Только у одного промысловика исчезла лайка. Заблудились в тайге, наверное.
Но волчица никуда не делась. Она жила на окраине города, промышляя на свалках, кормясь отбросами и здесь же ловя бродячих собак. Перемещалась она исключительно ночью по дорогам. Поэтому охотники следов ее не видели. Несколько раз она попадалась на глаза горожанам, но те по неопытности принимали ее за потерявшуюся овчарку. Один даже бросил ей из жалости бутерброд с колбасой. Но она, боясь быть отравленной, угощение не тронула.
Настал февраль – месяц волчих свадеб, но волчица оставалась одинокой. Сколько она ни прислушивалась по ночам, знакомого воя ниоткуда не доносилось. Два раза она сама пыталась звать собратьев. Но в ответ на ее голос бешено забрехали собаки не только всех окрестных деревень, но даже послышался громкий бас ньюфаундленда, жившего на балконе многоэтажного дома.
Кавалеров у нее не было, если не считать одного сладострастного кобелька – старого спаниеля, такого жирного, что волчица не голодала целую неделю.
Пришла весна, потеплело, земля очистилась от снега. Теперь волчица безбоязненно ходила и по лесу, и по лугам, и по полям, не опасаясь, что ее выследят.
Летняя жизнь стала более сытой – волчица ловила мышей, задавила двух оленят, а кроме того и на знакомой свалке, тоже освободившейся от снега, корм стал более доступным. Но через неделю там появились конкуренты – стая одичавших собак. Зимой они держались у гаражей, стройплощадок и вокзалов, где их подкармливали, разгоняя скуку, сторожа. А весной псы ушли из города и, объединившись, стали жить на свалке.
Собаки были разномастными, косолапыми и коротконогими дворнягами. Тем не менее, собачья банда представляла для нее реальную угрозу, так как дисциплинированная свора действовала как единое целое. Но, конечно же, не так организованно, как волчья стая.
До настоящей схватки не доходило. Один раз ей пришлось придавить горло одному наглому кобельку (ему повезло, что это случилось сытым летом, а не голодной зимой, тогда бы ее челюсти сработали с полной нагрузкой) и серьезно порвать плечо достойному противнику – крупному псу, отдаленному потомку западносибирской лайки.
После этого стая обходила ее стороной, облаивая только издали. А волчица покинула свалку и стала охотиться у деревень.
Логово она устроила, расширив старую лисью нору на крутом берегу небольшой речки, прямо за околицей.
Волчица к своей норе никогда не ходила напрямик. Чтобы не оставлять следов, она сначала шла по мелководью, оттуда прыгала на большой прибрежный камень, потом – еще один прыжок через стену крапивы, а дальше, уже по натоптанной, но скрытой бурьяном тропе – к своему дому.
Прямо из норы она слышала деревенские звуки – мычание коров, блеянье коз, кудахтанье кур, скрип колодцев и ворот, урчание автомобильных моторов и человеческую речь. Оттуда ветер доносил до нее запахи: опасный – машинного масла, теплый – дыма и аппетитный – скотного двора.
Но она, чтобы не выдать себя, не охотилась у этой деревни, предпочитая ходить за несколько километров к соседним.
Лишь однажды она не сдержалась, и это чуть не погубило ее.
Одна глупая курица забрела далеко за околицу. Добыча была столь заманчивой, что волчица, забыв об осторожности, подкралась к белому пятну, копошащемуся в кустах, бросилась на курицу и задавила ее. Все произошло молниеносно и бесшумно (сказывалась практика охоты на глухарей и тетеревов), и волчица с добычей неслышно по кустам заскользила к речке.
И здесь произошло непредвиденное. Она, как всегда, неслышно брела по мелководью. Перед тем как прыгнуть на знакомый камень, она обернулась и вздрогнула он неожиданности. Напротив, на другом берегу речушки, сидел мальчик с удочкой. Волчица на секунду замерла, затем вскочила на валун и уже известным приемом перемахнула через заросли крапивы. Но в нору не пошла, а, положив на землю злополучную курицу, залегла на тропе. А с реки донесся детский крик:
– Папа, папа, я волка видел! С курицей!
Послышались шаги.
– Какого волка? – раздался мужской голос.
– Серого. Как в сказке. И с курицей в зубах.
– А Иван-царевич на нем не сидел?
– Иван-царевич не сидел, а курица была.
– Фантазер! Волки в тайге водятся, а здесь деревня. Лови лучше рыбу, или вот что, пошли обедать. Бабушка уже все приготовила.
И шаги двух человек – большого и маленького – вскоре затихли.
Волчица облегченно вздохнула, подняла с земли еще теплую курицу и побрела к своей норе – тоже обедать.
Прошло сытое лето. Волчица, несмотря на соблазн, не трогала на околицах глупых подросших беззаботных петушков (которые к холодам все равно попадут под нож) и даже подружилась с двумя деревенскими песиками (на случай голодной зимы).
Наступила осень, землю припорошил первый снег. Волчица снялась с насиженного места, и, чтобы ее вновь не вычислили по следам, опять было перекочевала к городу, к свалке.
Там она встретили знакомую собачью стаю. Стая увеличилась и взматерела. Из нее исчезли почти все мелкие шавки, зато прибавилось крупных псов. И самое главное – сменился вожак. На месте бывшего лайкоида теперь царствовал огромный кобель, в котором угадывалась кровь и немецкой овчарки и добермана.
Волчица поняла, что это серьезные конкуренты, что с ними лучше не связываться, и ушла с кормной свалки к своей деревне. Там она сначала съела своих знакомых кавалеров, а затем по ночам стала мышковать, разрывая на полях скирды соломы.
Собачья стая со свалки нашла ее сама. Вернее не стая, а вожак. Следы выдали и ее, и, самое главное – ее состояние. Она приняла его ухаживание, так как это был единственный шанс завести потомство.
Он был с ней около недели, а потом ушел назад, на свалку. Пес повел себя по-собачьи, а не по-волчьи. Волк бы остался и помог ей выкармливать щенков. Но вожак был всего-навсего собакой, хотя и сильной, но собакой. Волчица знала, что может пойти с ним и ее там примут, но осталась в своем логове.
Ей, беременной, мышей уже не хватало, и она стала резать скотину.
В конце апреля в логове она принесла четырех щенков. Теперь ей приходилось промышлять чаще. Однажды она не удержалась и задавила старого козла прямо на околице деревни. Никто не видел, как она охотилась. Но когда она жадно ела, волчицу заметили из проезжающей машины и приняли за собаку. И рассказали об этом в деревне.
К ее несчастью в деревне у родственников гостил охотник. Волчатник. По имени Соломон. Вообще-то настоящее имя Соломона было Иван Иванович, а Соломон – просто его сельское прозвище, совершенно не отражающее особенности его характера. Соломон начисто был лишен предприимчивости. И к мудрецам его тоже нельзя было отнести. Зато у него был отзывчивый характер и золотые руки. В Сибирь он переселился из Ставрополья. Сначала, как водится, с желанием подзаработать, а потом привык и обосновался. Он был надежным работником – почти непьющим, безотказным и знающим или быстро осваивающим практически любую специальность – от моториста до строителя мостов. Ухватистость помогла ему уже через несколько лет стать к тому же еще и знаменитым охотником. Промысел копытных он освоил быстро, а потом несколько лет занимался почти исключительно медведем, закончив охотиться на «хозяина тайги» когда в окрестностях не осталось косолапых, и, наконец, перешел на самого трудного зверя – на волка. Он настолько изучил повадки этого чрезвычайно умного хищника, что одинаково успешно охотился на облавах, капканами и на приваде.
Научился Соломон находить и волчьи логова. Делал он это настолько виртуозно, что однажды несказанно удивил даже опытных промысловиков. Летом Соломон на неделю подрядился работать в рыболовецкую бригаду. С ним в вертолете на одно из тундровых озер летело четверо охотников. Пока вертолет кружил над озером, Соломон, высунув голову в иллюминатор, приметил пару логов, где, по его представлениям, должны были обитать волчьи семьи. Вертолет сел у рыболовецкой базы. Охотники пошли выпивать, рыбаки – принялись, было, перебирать сети и невода, но быстро прекратили это занятие и присоединились к охотникам. Только один Соломон направился к ближайшему замеченному им с воздуха, перспективному логу. Через три часа он вернулся. Подвыпившие рыбаки и охотники быстро протрезвели, когда Соломон из своего рюкзака вытащил трех только что изъятых волчат. Охотники начали кричать, что этих щенков он нарочно тайно привез с собой в вертолете. Они просто не могли поверить, что человек, впервые оказавшийся в незнакомом месте, так быстро смог обнаружить волчью нору.
Соломон был известен как опытный следопыт не только среди промысловиков, но и среди профессиональных зоологов.
Несколько раз из Москвы специально к Соломону приезжали два кандидата наук, занимающиеся Canus lupus. Соломон нашел для них четыре логова и помогал метить волчат пластмассовыми серьгами. Кроме того, москвичи выбривали у волчат бока, поочередно прикладывали на каждую сторону шаблон с вырезанной цифрой и пускали из специального баллончика на голую кожу жидкий азот. После этой процедуры кожа настолько промерзала, что становилась жесткой и звенящей как пергамент. Зоологи уверяли Самсона, что потом на этом месте вырастет чисто белая шерсть, и по ней можно будет издали определить личный номер зверя. Соломон, хотя и не поверил столичным ученым, но попросил разрешения самому пометить волчонка. Ему дали трафарет с цифрой «6».
После этого москвичи не приезжали, а Соломон, сколько ни охотился, так ни разу и не видел волков с белыми цифрами на боках. И охотник решил, что на сибирского зверя московский азот не действует.
В деревне, где гостил Соломон, ему, конечно же, рассказали и про задавленного козла, и о том, как прошлым летом мальчик якобы встретил волка. Соломон сходил к остаткам несчастного копытного, изучил «собачьи» следы и понял, что мальчик был прав. Но у Соломона не было времени, он торопился домой, в город.
Охотник снова приехал в деревню только через месяц. К этому времени у волчицы из четырех родившихся осталось только двое щенят. Двое других оказались слабыми и погибли от голода – ведь у нее не было волка, который кормил бы и ее, и выводок.
Оставшиеся в живых по окраске не были похожи на мать. Вероятно, их отец имел очень сложную и запутанную родословную. Один волчонок, тот, что поменьше, был весь черный, только из-под левого глаза спускалась пепельно-серая полоска – словно след от слезы. Окраска другого, более крупного, была удивительной – по серому волчьему фону его шкурки были хаотично разбросаны разноцветные пятна.
Приехавший в середине лета Соломон сходил на речку, без труда нашел логово и забрал обоих волчат. В деревне он поместил их в пустующий, обнесенный штакетником загон для кур.
На пленников пришли смотреть соседи.
– Так это же не волки, – говорили они. – Это собаки. Щенята. – И протягивали руку – поласкать кутят.
Черный сероглазый щенок скулил и тыкался влажным носом в ладони. А желтоглазый, пятнистый, когда к нему подносили руку, припадал к земле, прижимал уши и шипел. Рычать он еще не мог.
– Славный сторож будет, – говорили соседи. – Отдай его нам.
– Пока обоих себе оставлю, – отвечал Соломон. – Подращу, а там посмотрим. Может, и отдам одного.
Но на следующее утро у него остался только один пленник. Черный.
Волчица ночью пробралась во двор, сделала подкоп и унесла пятнистого.
Утром Соломон сразу пошел к знакомому логову у речки. Как он и предполагал, оно оказалось пустым – волчица перетащила щенка в безопасное место. Охотник на всякий случай поставил у входа в нору капкан, вернулся домой и поставил еще один – перед лазом, вырытым ночью зверем.
Капканы простояли неделю, но в ни никто не попался. И Соломон снял их. Он знал, что волчица больше здесь не появится. И еще он знал, что она живет где-то поблизости, усиленно откармливая своего единственного отпрыска: и в его деревне, и в соседних начал пропадать скот – волчица принялась охотиться и там, где раньше не промышляла.
А к зиме разбои прекратились. Волчица с прибылым куда-то откочевала. По всей округе на скотных двора воцарился мир. И самыми большими событиями стали проникновения хорьков в курятники.
Соломон подарил черного щенка одному дачнику. Через полмесяца тот отвез его в город. Там кутенок быстро надоел хозяину, и его отдали туда, куда обычно отдают всех таких же ненужных щенков, – сторожам коммунальных гаражей. Там уже жило шесть собак. Взяли и этого. Тем более, что дачник уверял, что он – наполовину волк. Сторожа разглядывали ласкового, черного как смоль щенка и не верили.
Ему придумали несколько имен. Одни называли щенка Чернышом, другие – Угольком или Антрацитом, третьи – Лумумбой. Но прижилась совсем другая кличка – Снежок.
У Снежка началась вольготная жизнь. Стая приняла его дружелюбно. У собак было много вкусной еды. Во-первых, сторожа приносили объедки со своего стола. Но лакомства поставляли не они, а владелицы автомобилей. Дамочки тащили и подпорченных копченых куриц, и несвежую ветчину, и залежавшуюся дорогую колбасу, и собачьи консервы, от которых отказались их домашние питомцы. В особенно сытные дни можно было видеть всю объевшуюся свору, лежащую где-нибудь в теньке, и вокруг каждой собаки громоздились кучки не съеденных подношений.
Пока Снежок был щенком, он мог безбоязненно подойти к любому взрослому псу, поедающему свою порцию, и попробовать – чем того сегодня угостили.
Но однажды, когда Снежок, по привычке приблизился к миске вожака, из которой он еще вчера беспрепятственно ел, здоровенный кобель – удивительная помесь дога с колли: пятнистый, короткошерстый, но с роскошными шерстяными «шароварами» на задних лапах, – неожиданно для Снежка оскалился и так грозно зарычал, что тот испугался и направился к миске другой собаки. Но и там на него не только рявкнули, но и пребольно прихватили зубами за загривок. И Снежок понял, что он повзрослел, и теперь ему придеться есть только из своей собственной посудины. Кроме того, подросшему щенку стало ясно, что у каждой собаки в стае было свое место. А у него, у Снежка, когда он вышел из щенячьего возраста, это место было последним. Всего за день старшие товарищи научили его, что подойти к кускам, принесенных добрыми автовладелицами, он может лишь после того, как насытится вся стая. Сначала вожак, затем остальные, а он, Снежок – в последнюю очередь.
Шло время, он рос, крепчал, волчья кровь брала свое, и однажды при дележе добычи Снежок так рыкнул на старшего по рангу, что тот сразу же поджал хвост и отошел в сторону. Так Снежок в стае стал уже не последним, а предпоследним.
Хорошая пища и хорошая наследственность делали свое дело. Снежок стремительно матерел. Он стал драчливым, и его социальный статус неуклонно возрастал. Через год выше него в этом собачьем табеле о рангах оставался только вожак.
В конце концов Снежок подрался и с ним и, наверное, победил бы, но тут прибежали сторожа и отбили его у Снежка. Вспомнив слова Соломона насчет матери-волчицы и то, как жутко Снежок воет по ночам, сторожа посадили его на привязь.
Казалось, жизнь цепного пса вполне устраивала пленника. Дамочки продолжали приносить ему колбасу и только радовались, когда огромный, черный, укрощенный поводком пес ластился к своим кормилицам, заглядывая им в глаза и тыча носом в пакет с гостинцами.