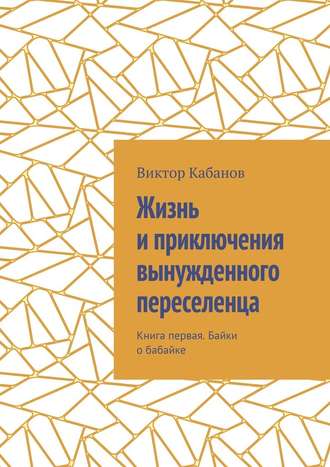
Полная версия
Жизнь и приключения вынужденного переселенца. Книга первая. Байки о бабайке
Снял его ни кто иной, как Иван Степанович.
Забравшись на дерево при помощи пояса и когтей электромонтера, он отцепил Груню от веток и посадил его между собой и стволом дерева. Груня обнял его как маму родную – руками и ногами. И уже ничто не могло заставить его отцепиться.
Осторожно передвигая пояс, и переставляя когти, Степаныч спускался.
Было слышно, как он ласково успокаивал Сашку, будто это был не Груня, а его собственный ребенок. Подъем и спуск заняли не более получаса, всем же показалось, что прошла целая вечность.
Степанычу помогли отцепить пояс, снять когти и встать на землю. Сашка в него словно врос и не хотел расцеплять руки и ноги. Так они и уехали на скорой.
Детей, наполнивших школьный двор, разогнали по домам. Отношение к худенькому, тщедушному учителю изменилось. Доставать его на уроках перестали. Он это почувствовал.
До окончания школы преподаватель и ученики 5-А жили дружно.
Из состава ” инквизиторов» Иван Степанович вышел.
Позже ребята узнали, что он был мастером спорта по гимнастике, прошел всю войну в разведроте.
На следующий день и учителя и педагоги были предупредительно вежливы. Груня с нервным шоком, а директор с сердечным приступом лежали в больнице. О происшествии никто старался не вспоминать.
Грунины одноклассники притихли, на уроках был порядок. Долго еще по школе ходил шепоток об этом происшествии.
Груня стал как-то серьезнее, но до конца своего пребывания в школе так и не смог выразить чувство благодарности учителю, спасшего его.
А пребывать в школе ему оставалось недолго. Уже на следующий год в класс он не пришел, а позже одноклассники узнали, что школу он бросил окончательно, и все-таки попал в специнтернат для «особо одаренных» детей.
Так Сашка пропал из виду, дальнейшая его судьба осталась неизвестной.
УЛИЦА ТИТОВА
А на улице Гек и его компания продолжали жить прежней жизнью. Самыми популярными играми были прятки, пятнашки, футбол и «войнушки».
Если играли в войну, то «наши» и «фрицы» были известны заранее.
Главным «фрицем» обычно был кто-то из младших. На него одевали откуда-то добытую, старую железнодорожную фуражку, сажей рисовали усики под Гитлера, затем давали время организовать оборону.
«Фрицы» занимали какую-нибудь траншею или котлован. Благо новостроек рядом было много.
Обороняющиеся «фрицы» использовали все подручные средства, чтобы не допустить «наших» в эти «окопы».
Кроме деревянных автоматов и ружей, «огневым средством» были комья сырой глины.
Главная задача нападавших – это под градом «глиняных снарядов» ворваться в «окопы» противника, в рукопашной схватке захватить в «плен» «фрицев» и их «фюрера», выпытать где спрятан их «штандарт» (белая со свастикой тряпка на древке) и «главный склад».
В главном складе хранились горсть конфет, спички, пара сигарет, семечки или еще какая-нибудь мелочь, которую «воюющие стороны» собирали вместе.
«Наши» под одобрительные крики зрителей, среди которых нередко были и взрослые, с криками «Вперед! За Родину! Бей «фрицев!» врывались в окопы противника.
Начиналась рукопашная схватка, в процессе которой исход битвы зависел уже от того, кто сильнее.
Как правило, побеждали разъяренные прямыми попаданиями в туловище, голову, не редко и в лицо, «наши».
Особо оценивались попадания в голову.
Плененных «фрицев» за такую меткость отпускали, а «наших» награждали орденами, медалями (конечно самодельными из картона) и присвоением очередных воинских званий.
Оставшихся пленных вели на допрос.
Следуя исторической правде «фрицы» раскрывали все свои секреты. Уставшие, перемазанные глиной с ног до головы «победители» и «побежденные» расходились по домам. Количество участников таких баталий достигало порой 30 человек, особенно если сражались улица на улицу.
Наверное, участие в играх, в которых, так или иначе, присутствовал патриотизм, зачатки армейской дисциплины, делали их патриотами своей страны, воспитывали чувство безусловной необходимости службы в армии.
Вопрос служить или нет, вообще не обсуждался. Служить! И никаких других вариантов!
Конечно основная масса хотела быть десантниками, разведчиками, на худой конец летчиками или пограничниками.
О службе во флоте ребятня не могла даже мечтать.
Где жили они, а где море? И все же мечтали. Не все, конечно, единицы.
Одним из них был Гек. Кто, как ни он – романтическая натура, любитель путешествий и приключений, не мог не мечтать о море, которого никогда не видел, но живо представлял по книгам и фильмам.
* * *
Поскольку «фрицы» иногда восставали и отказывались проигрывать, приходилось играть в казаков-разбойников.
Кто и когда научил их этой игре, уже никто и не помнил. Играли самозабвенно, допоздна, пока родители не разгонят по домам.
Полем для многих игр была улица, которая раньше называлась Кооперативная, а с года 64-го – Титова, перпендикулярная ей Интернациональная, раньше – Армянская (там действительно жили в основном армяне) и конечно плоские саманные крыши близлежащих домов, чердаки и сады, исследованные ими до мелочей.
В свое время улица, на которой жил Гек, была центральной транспортной артерией связывающей район вокзала со старым городом и называлась Черной дорогой.
Черной ее называли за дурную славу. Говорили, что раньше нередкими были случаи грабежей и разбоя на этой дороге, выводившей путников к известному самаркандскому базару, существующему на этом месте уже более двух с половиной тысяч лет.
По булыжной мостовой с грохотом катились арбы с поклажей, запряженные ослами и лошадьми. Редко проезжали пассажирские автобусы и грузовики.
В другую сторону улица, наполненная запахом свежеиспеченного хлеба, пролегала мимо пекарни, где работала бабушка Гека, мимо привокзального базара, пересекала улицу Октябрьскую, и упиралась в уже известный Железнодорожный парк.
В пятидесяти метрах от дома, где жил Гек, была керосиновая лавка, в которой старый армянин Гурген торговал керосином, фитилями к керосинкам и лампам, спичками и мылом. В неизменной, выцветшей от времени форменной фуражке-сталинке, рабочем халате, поверх которого, надет кожаный фартук, юфтевых сапогах ручного производства, галифе образца Второй Мировой, он ретиво охранял территорию, прилегающую к лавке, от приближения Гека и его друзей.
Старый керосинщик понимал, что такой пожароопасный объект, как его лавка и эти пацаны, – вещи несовместимые. Его лицо становилось добрее, и седые, насквозь прокуренные усы, добродушно обвисали только в одном случае – когда детвора появлялась на пороге его владений с бидоном для керосина.
* * *
Слово «ветеран»… Тогда его употребляли очень редко и в основном, когда это касалось участников гражданской войны, Великой Октябрьской революции.
Да, да. Не надо удивляться они еще были живы, посещали школы, рассказывали о своих походах, встречах с легендарными личностями, такими как Фрунзе, Тухачевский, Блюхер. Помню в году 69-м, на один из уроков, в канун 7 Ноября к нам в класс пришел белый как лунь дедушка, который принимал участие в штурме Зимнего дворца и лично разговаривал с Лениным.
Так, что рядом с этими людьми солдаты Второй мировой выглядели, наверное, юнцами.
Героев и инвалидов войны было еще достаточно много. Почти у всех друзей Гектора или отец, или дед, или кто-то из родственников воевал.
Солдаты Второй мировой были еще далеко не пенсионеры, работали и жили как все. Пили, гуляли, курили махорку, а иногда и дрались, да еще как!
Частенько можно было встретить спившегося инвалида без рук, или без ног, или слепого, побирающегося у базара – самого людного места. Милиция их гоняла, а сердобольное население всегда вставало на защиту.
Пацаны относились к ним с благоговением, поскольку подвыпивший солдат мог рассказать много интересного про ту войну, войну, в которую они так часто играли. В общем, чувствовалось, что эта Победа была не так уж и давно.
Особым днём, наверное, как и сейчас, был именно этот день – День Победы.
Ясный, погожий весенний денёк начинался всегда как-то тихо и осторожно. Ранним утром, в солнечной дымке начинающегося дня появлялись одиночные прохожие уже наряженные и уже куда-то спешащие.
Постепенно эти людские капли стекались в тонкие струйки, затем в ручейки и вот огромные, плотные, нескончаемые колоны людей наводняют город.
Ветераны идут своей колонной. Кто-то внутри колонны резко ведет отсчёт: «Раз, два, левой. Р-аз и р-аз, раз, два, три …”. Идут молча без суеты, стараясь печатать шаг. Слышно как позвякивают награды.
Начинаешь понимать, какая это была сила. Сила духа, сила воли – мощь нашего народа, нашего государства. Гордость за них, за нас – их прямых потомков распирает грудь и сейчас.
Блеск орденов и медалей, запах сирени, тюльпаны, цветы, море цветов и кумача, грохот духовых оркестров, нарядные, улыбающиеся люди.
И вот с грохотом и шумом праздник, взорвавшись, потек по каждой площади, по каждой улице, по каждому переулку. Праздник, великий праздник!
Он чувствовался нутром, на подсознательном уровне. Кто и когда вложил в нас такое трепетное отношение к этому дню? Наверное, это было уже в генах.
* * *
В другую сторону по улице – лавка старьёвщика и винная лавка, где завсегдатаем был дед Гека. На углу пересечения с Армянской улицей – известковая будка, в которой торговали известью, кистями и прочей скобяной мелочью.
Через дорогу, насквозь пропахшая горячими лепешками, пловом и шашлыком, чайхана с огромным хаузом, местами затянутом ряской. В него как в зеркало смотрелись древние плакучие ивы. Поговаривали, что этой чайхане лет триста.
Чайхана! Чтобы понять значение этого слова, нужно родиться и жить на Востоке. Рано-рано утром, когда первые лучи солнца еще не разогнали ночной мрак, цепляющийся за закоулки, кроны деревьев и подворотни, позевывающий чайханщик начинает свой трудовой день.
На улицу выносится огромный самовар. Его растапливают одновременно с тандыром и очагом, на котором стоит большой казан.
К началу рабочего дня нужно успеть напечь лепешек и вскипятить самовар.
Его помощник, не спеша, начинает устилать топчаны паласами. Поверх паласов расстилаются курпачи, раскладываются подушки – ястык. Низкие столики накрываются клеенкой. Вот уже и лепешки готовы, и самовар закипает.
Первые клиенты – это старики, живущие рядом. Они встают раньше всех и, чтобы не беспокоить домашних, с утра пораньше собираются в чайхане.
В это время можно увидеть всех, кто идет на работу.
Кто-то забежит по дороге за парой лепешек, кто-то в утренней тишине выпить пиалу, другую чаю, перекинуться парой слов, послушать вчерашние новости, если в запасе есть минут десять – пятнадцать.
Пока старики и прохожие обмениваются традиционными приветствиями, чайханщик начинает делать заготовки к плову или шурпе.
Традиционные приветствия! Не может быть на Востоке сухого «здрасте», оброненного сквозь зубы или брошенного через плечо на ходу.
Это, как и все здесь – церемония.
Младший обязан поздороваться первым. Приложив левую руку ладонью к груди и слегка поклонившись, произносит фразу, которую можно перевести приблизительно так: «Здравствуйте, уважаемый. Как ваше здоровье? Всё ли хорошо у вас в доме? Как дети, как жена? Как хозяйство? Как скотина? Дай бог вам здоровья и долгих лет жизни». И он не повернётся к старику спиной, пока тот не закончит свой ответ.
Старики кроме стандартных фраз обязательно спросят о чем-нибудь личном. К примеру: «Когда ждешь пополнения в семье? Как учится твой сын? Как дела у дочери в институте? Как у тебя на работе?» – или еще что-то.
Поприветствовав людей, спешащих на работу, попив чайку, старики расходятся.
В чайхане начинается рабочий день. Готовится обед, наводится порядок. Ближе к обеду начинают подтягиваться клиенты.
Не принято в Узбекистане, чтобы человек каждый день ходил обедать в другую чайхану. Чайханщик же отлично знал вкусы всех своих завсегдатаев. Кому поострее, кому пожиже, кому погорячее. Такой подход в первую очередь устраивал посетителей.
Вечером, когда работа по обслуживанию клиентов заканчивалась, чайхана становилась чем-то вроде клуба для мужчин этой махалли.
Здесь, у воды отдыхали от изнуряющего дневного зноя, делились новостями, играли в карты, нарды, пили чай обсуждали цены на базаре, решали вопросы когда и кому проводить свадьбу, как и когда строить дом или делать ремонт, да и мало ли что ещё требовало общего обсуждения и совета.
О свадьбах следует заметить, что никогда в махалле не могло быть две свадьбы в один день. И понятно, ведь пойти к одному соседу и не пойти к другому – это верх неуважения!
Днем в чайхане всегда были посетители. Они восседали на глиняных топчанах, прижатых к самой воде. По проходам сновали расторопный чайханщик и его помощник.
Поскольку спиртным в чайхане не торговали, а приносить и распивать было запрещено, то чайханщик приторговывал своей водкой и вином (последнее бралось в лавке напротив), услужливо разнося напитки в заварочных чайниках в целях конспирации. Все шло чинно и благородно!
Однако к вечеру кто-нибудь из посетителей, так или иначе, напивался. Начинались выяснения отношений, которые заканчивались при первом же замечании стариков, занимавших отдельный топчан. Слово старшего – закон!
Нередкими были и случаи, когда ослушников вылавливали из хауза и с позором изгоняли. Как-то все обходилось без милиции. Традиции и нравы обусловливали порядок.
* * *
В национальном плане улица, где жил Гек, представляла Ноев ковчег.
Здесь жили таджики, иранцы, армяне, русские, крымские и казанские татары, украинцы, белорусы, бухарские евреи.
Дети особо и не разбирались, кто есть кто. В их повседневном общении хватало языка, который несведущему человеку показался бы тарабарским. Это была мешанина из почти всех языков, свойственная только жителям благословенного города Самарканда. В дальнейшем этот говор стал чисто самаркандским сленгом, который и сегодня узнаваем в любой точке мира.
Население улицы обитало в саманных домах, построенных из глины, смешанной с соломой, или из сырцового кирпича. Крыши тоже ежегодно заливались глиной, смешанной с соломой.
И только гораздо позже кое-где стали появляться шиферные кровли – удовольствие это было не всем по карману, поэтому жили, как и, пожалуй, лет сто назад.
Плоские глиняные крыши были излюбленным местом для детских игр, что категорически запрещалось. В мае эти глиняные островки покрывались ковром из полевых маков.
Хорошо под вечер после изнуряющего дневного зноя собраться небольшой ватагой на одной из крыш, чтобы послушать россказни друг друга, а потом и заночевать здесь же в ночной прохладе под ласковые дуновения ветерка.
Крыши, как правило, располагались в двух—трех метрах друг от друга. Поэтому не составляло особого труда, где перепрыгивая с одной крыши на другую, где короткими перебежками по земле выбраться за город в двух – трех километрах от дома, или совершить налет на сады, в которых в разное время поспевали разные фрукты.
О сроках их созревания знали не только хозяева, но и живущая по соседству детвора.
С крыш было удобно обирать деревья, да и в случае опасности, это был удобный путь к отходу. Взрослые за налётчиками по крышам не гонялись – можно было провалиться.
В общем, несмотря на возраст, детвора не забывала и про меры безопасности. Не столько сами фрукты, сколько чувство риска, опасности, возможной погони гнали их в эти опасные путешествия.
ОБЩИЙ ДВОР
Двор, в котором рос Гек, до Октябрьской революции был караван-сараем, то есть постоялым двором, и ничем особенным не отличался. Все те же глинобитные мазанки с низкими потолками.
Скорее всего, когда-то это были номера для постояльцев и навесы для их ослов, коней и арб, а уже позже их «национализировали», приспособили под жилье и заселили.
Самое интересное, что бывшие хозяева караван-сарая жили здесь же, и особой вражды к новым жильцам не испытывали. А, может быть, просто делали вид, что смирились.
Один общий туалет, одна колонка – коммуналка, только на земле, под открытым небом.
Справа от ворот жила семья Гектора. Две крохотные комнаты и прихожая, которая в зимнее время служила кухней. За стенкой летняя кухонка, в которой с трудом могли развернуться два человека. Двери из дома и летней кухни выходили во дворик, отгороженный от общего двора штакетником. Площадь дворика вряд ли превышала 8—10 квадратных метров. Укрытый сверху виноградником, он вмещал старый колченогий стол, стоявший вдоль заборчика, отделяющего их от соседей. Пара похожих на стол стульев, верстак шириною в одну доску, вечно заставленный вёдрами с водой. В конце верстака на столбике умывальник, под ним таз. Вот и все владения!
В полотне входной двери существовала форточка, что делало сам дом схожим с домиком дядюшки Тыквы из сказки «Чиполино». С единственной виноградной лозы ежегодно собиралось до трех ведер кишмиша.
Напротив, в двух комнатах, жили Елизавета Викторовна и баба Груня со своей снохой Ниной. В комнате Елизаветы Викторовны было одно окно. Она жила одна. Иногда её навещала младшая сестра. Редко из Ташкента наезжал сын Виктор с семьёй.
Муж Нины пропал без вести на войне, дети умерли в блокадном Ленинграде. Нина, как и многие тогда, отсидела свои десять лет, и поскольку идти ей было некуда, стала жить со своей свекровью. В их комнате окон не было вовсе. Таких глухих комнат в общем дворе было много.
Особой красотой жильцы этой комнатушки не отличались. Иссушенная невзгодами и возрастом, который для нее, казалось, остановился годах на восьмидесяти, сгорбленная баба Груня и почти такой же комплекции, но намного младше – тетя Нина. Она так и не смогла избавиться от лагерных привычек ругаться матом и курить “ Беломор».
Баба Груня нюхала табак, от которого, несмотря на всю свою немощь, чихала так, что со всех углов двора ей кричали: «Будь здорова».
Тем не менее, несмотря на всё, что им пришлось пережить, женщины были очень добры к соседским детям. У них всегда для плачущего ребенка находилась конфетка или кусочек рафинада, пусть даже и с прилипшими крошками табака.
Несколько иной, но такой же нелегкой, была и судьба Елизаветы Викторовны. Она была из дворян. Ее отец занимал высокий пост при последнем губернаторе Самарканда, о чем свидетельствовали многочисленные старинные фотографии, которые Гек с ее внуками Колькой и Ольгой с интересом рассматривали тайком от нее. Сама она показывать их не любила, хотя и были эти фотографии одними из немногих вещей, оставшихся у нее от прежней жизни.
В первые дни захвата власти в городе, большевики на глазах дочерей расстреляли родителей. Старшую сестру арестовали и увезли. В семнадцать лет она попала в лагерь. Вернулась она, отсидев восемнадцать лет и пройдя всю войну.
Лиза смогла убежать. А было ей в ту пору всего четырнадцать лет. Полуживую от голода и горя, ее, далеко за городом, подобрал таджик и, накрыв своим халатом, на арбе привез к себе домой. Так начался ее период уже далеко не светской жизни, жизни в кишлаке.
Вскоре она стала второй женой того человека, который подобрал ее на дороге. Свадьба была настоящая, а женой она была фиктивной. Юную Лизу можно было спасти, только превратив ее в кишлачную таджичку, что и было сделано. Так дочь высокопоставленного царского сановника исчезла из поля зрения ЧК.
Как сложилась ее жизнь в новой семье неизвестно, но она всегда с чувством глубокого уважения вспоминала об этом человеке, который, несмотря на огромную опасность, спас ее, взяв к себе в дом.
Спустя десятки лет его сын часто навещал Елизавету Викторовну, всегда привозил гостинцы, возился с ее внуками. Их отношения были похожи на отношения брата и сестры, хотя он к ней обращался только на «вы».
Многим было непонятно, что могло связывать, таких разных людей.
От прошлой жизни кроме фотографий у Елизаветы Викторовны сохранилась статная осанка, гордо посаженная голова. Выцветшие с возрастом голубые глаза сохранили искорку озорства, что, в общем-то, и определяло ее весьма подвижный, резкий, и в то же время, справедливый, добрый нрав, свойственный только людям сильным духом.
Перед войной она вышла замуж за офицера. Муж погиб в первые дни войны под Брестской крепостью. От него родила сына, который был для ровесников Гека – дядей Витей. Гек гордился соседством с ним. Дядя Витя работал геологом. А для Гека это была героическая профессия.
Елизавета Викторовна оставшись с сыном на руках, была эвакуирована из Белоруссии в Узбекистан. Так она попала в город своего детства во второй раз. Где и осталась навсегда. Долгое время она пыталась отыскать могилу родителей, но так и не смогла.
Вся эта коммуналка очень много читала. Жили они общим столом на скудные пенсии.
Работала только Нина – бухгалтером на консервном заводе «Серп и молот».
У них за стеной жила шумная и многолюдная для русских семья. В двух комнатках ютилось пять человек. Старшие – т. Нюся и д. Ваня, их дочь Любка с мужем Юрой и внучка Ленка. Их звали по фамилии зятя – Бригинские.
Связано это было с Любкой. Яркая, фигуристая блондинка со взрывным, весьма шумным характером, она постоянно требовала к себе всеобщего внимания. Волосы – светло-русая копна, напоминающая прическу Ленина на октябрятской звёздочке. Она родилась и выросла сорванцом. С юности ходила в лидерах, пользовалась уважением среди вокзальской шпаны, могла постоять за себя. Существенным дополнением ее портрета был громкий голос и вызывающий смех.
Кроме всего прочего, она была крестной матерью Гека, при разнице в возрасте в 15 лет.
Что-то ей досталось от матери – бойкой и, весьма подвижной женщины, а в остальном она ушла далеко вперед.
Дядя Ваня – инвалид войны, несмотря на свою искореженную руку слыл неплохим столяром и плотником.
Гек мог часами наблюдать за его работой. Старик видел интерес ребенка к его ремеслу и учил его азам.
Юра Бригинский – детдомовец, окончил школу помощников машинистов тепловоза, и всю жизнь проработал на железной дороге. Он всегда то в поездке, то спит после поездки, то на рыбалке или охоте. Жгучий брюнет, армянского облика, этакий живчик, он не мог без движения и даже ходил вприпрыжку.
Всем в доме заправляла, конечно, Любка. Жили они по тем временам неплохо. В доме не переводились конфеты. Ленка с детства была наряжена как кукла. Из поездок Юра привозил ей невиданные в их краях игрушки.
У них у первых на улице появился мотоцикл, а лет через десять и «Жигули». Поддразнивающее хвастовство было присуще практически всем членам семьи кроме Юры.
Напротив них за стеной Гека жили Сторожевы. Славка с женой Валей, его мать и две дочери Ира и Наташка. Он железнодорожник, мастер на все руки, Валя медсестра. Дети много младше Гека, поэтому в его памяти остались лишь симпатичные детские лица.
Славка – голубоглазый блондин, здоровяк, балагур, не прочь выпить, подраться, пошуметь, погонять жену, попеть под собственный аккомпанемент на гармошке или гитаре. Приколы, анекдоты, смех – вот в двух словах его портрет. В конце концов, он бросил семью и ушел к какой-то буфетчице из вагона-ресторана.
За Сторожевыми жили Кочетковы д. Саша и т. Дуся. Она тихая женщина, всю жизнь проработала нянечкой в детском саду, он – стал инвалидом войны так ни разу и, не надев военной формы. В 1943 году их – мобилизованных ребят везли на фронт. Поезд попал под бомбежку. Он был ранен, потерял руку. Кочетков не считал себя ветераном и всегда со смущением принимал поздравления с Днем Победы. Детей у них не было. Наверное, поэтому внимания т. Дуси хватало на всю дворовую ораву.
Дальше жили Бурленковы. Т. Ася – работала фасовщицей на чаеразвесочной фабрике. Боевая женщина, народный депутат, орденоносец. Посменная работа, общественные нагрузки, партийная жизнь не помешали ей нарожать трех сыновей, и в свободное от работы время приторговывать украденным с фабрики чаем. Тогда с работы несли всё и все! Даже орденоносцы!
Д. Коля – детдомовец, после ремесленного училища окончил вечернюю школу, индустриальный техникум, работал бригадиром монтажников на механическом заводе. Мог выпить, поскандалить с женой, если она была дома, построить сыновей или, в зависимости от настроения, дать по рублю. Обычно это происходило раза два в месяц – в день аванса и в день получки, да плюс в праздники. В пьяном виде он приставал ко всем с разговорами, которые заканчивались всегда одним и тем же – жалобами на недостаток внимания со стороны жены.
Дети – старший Васька, средний Вовка, младший Сашка.
С Васькой Гек ходил в один детский сад в круглосуточную группу. Он на год старше Гека, Вовка на два – младше. Сашка младше лет на пять, поэтому он относился к разряду малышни. Васька худющий, высокий подросток с угреватым лицом заменял младшим братьям и отца и мать, которых никогда не было дома. В его обязанности входило всё: стирка, уборка, мытьё посуды, покормить и вымыть младших, присматривать за ними на улице.

