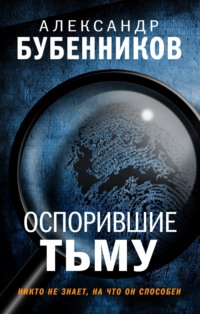Полная версия
Грозы царь – Иван Грозный
– Владыка, давно хотел спросить тебя о поездке в Николин град – Можайск, на молебен к Николе Можайскому Чудотворцу… Помнишь, владыка, ты обещал мне сказать – был ли знак от Николы Чудотворца о моем скором восшествии на царство и превращении Николина града в Священный град Русских?..
Макарий, словно что-то вспомнив, легко ударил себя ладонью по лбу и торжественно сказал:
– Был, государь, знак добрый Николы Можайского Чудотворца! Быть царю русскому Ивану Четвертому, помазаннику Божьему, в Москве – Третьем Риме! Быть Священному граду русских по такому случаю, тем более, что не было до Ивана Четвертого царей на престоле московском…
– А какой знак подал Никола Можайский?.. – спросил совершенно серьезно отрок Иван.
– Улыбнулся Никола, услышав мои молитвы, государь. Град Священный повыше к небесам поднял и мечом сверкнул, как молнией при грозе. Возможно, мне так показалось, государь…
– Да не показалось тебе владыка… Так и должно быть – и первому Священному граду русских при скором восшествии на царство первого царя русского… Грозы царя, воистину Грозного… Деда моего Ивана величали Грозным за одно, меня ж с грозой сравнивать будут… Со столь же страшной грозой для врагов Руси, сколь и очистительной для святости Руси святой и православной…
– Пусть будет так, государь…
– Так, владыка… Вот и приспело времечко подумать не только о Третьем Риме, но и о Священном граде Николы – Бога Русского…
2. Первый друг
Интриги и козни придворные занимали Думу боярскую гораздо больше, чем дела государственные, внешние и внутренние. Владыка Макарий словно в воду глядел: быстро сдувало временщиков и жалка была их незавидная участь.
Как торжествовала партия Шуйских, когда после низвержения Ивана Бельского, вслед за старшим братом Василием Немым власть в стране перешла к его младшему брату Ивану Шуйскому. Еще год назад при помощи владимирского и новгородского войска Ивану Шуйскому удалось свергнуть вместе с главой Думы Иваном Бельским и митрополита Иоасафа, сторонника нестяжателя Максима Грека и ставленника партии Бельских. Только поставленный новым властителем в митрополиты Макарий Новгородский, с опорой на тех же новгородских дворян, участвовавших в мятеже 3 января 1542 года, устранил Ивана Шуйского так неприметно и невозвратно, что, ссылаясь вначале на обрушившуюся на него тяжкую болезнь, тот сам отказался от власти, попросту перестал появляться в Думе.
А потом всеми забытый и заброшенный князь Иван тихо и быстрехонько умер в полной неизвестности и забвении… Свято место пусто не бывает… Как никак плодами переворота продолжала пользоваться победившая в войне с партией Бельских партия Шуйских. Потому освободившееся место старого правителя Ивана Шуйского с молчаливого согласия соперничавших партий Глинских и Захарьиных заняли его родственники: князья Иван и Андрей Михайловичи Шуйские, а также Феодор Иванович Скопин-Шуйский.
«Новые Шуйские» в отличие от старых матерых и крепких воевод-братьев Василия и Ивана, успевших отличиться и в воинском деле, и на хозяйственном поприще, уже не имели никаких государственных достоинств и даже не пробовали заслужить хоть какое-то уважение своих сограждан, любя только власть ради власти и господство ради господства. «Новым Шуйским», явным лидером которых стал сосланный когда-то Еленой Глинской в первый месяц ее правления князь Андрей Михайлович, не требовалась даже признательность юного государя Ивана за хоть какое-то усердие в делах Отечества Русского. Все свои силы и навыки «новые Шуйские» употребили только на интриги и козни в Думе, чтобы, играя на давней вражде и несговорчивости боярских партий, не допускать видимых противоречий и открытых поползновений на власть. Как изощрялись они, чтобы допускать до отрока-государя только единственно преданных Шуйским людей, отсекать далеко на подступе к «опекаемому» отроку всех достойных государева уважения, кто в скором времени мог бы быть опасен им государственной мудростью, благородством, смелостью и мужеством.
«Волчонок быстро растет, скоро превратится в настоящего матерого волка…» – такую фразу приписывали во дворе старшему опекуну князю Андрею, лидеру партии «новых Шуйских». Отрок Иван, необычайно остро чувствовавший тягость беззаконной опеки, всем сердцем ненавидел всех скопом Шуйских и особенно наглого, свирепого в гневе и бесцеремонного князя Андрея Шуйского. «Матушка Елена Андрея Шуйского почему-то люто возненавидела, и мне ее бешеная ненависть передалась – почему так, может, за наглость, вероломство, предательство?» – таким мысленным вопросом терзал себя тринадцатилетний отрок.
Правда, его злую фразу насчет «волчонка» Иван быстро переосмыслил и ловко переиначил по-своему. Это произошло после того, когда он задумался о своей судьбе. После беседы с Макарием. поведавшем ему о добром знаке деревянного Николы Можайского Чудотворца: блеснувшего – после мольбы владыки о венчании на царство своего ученика – небесным мечом в руках.
«А еще Никола град Отечества вознес после моления владыки… – подумал Иван. – В конце концов, грозовой меч, как, впрочем, и сам Царь Грозы, нужен только для защиты православного Отечества, его земель, его народа и веры отеческих гробов… Шуйским во главе с наглым и беззастенчивым хапугой Андреем наплевать и на защиту Отечества, и на веру, и на благосостояние подданных… Ой, как им не по сердцу будет новый царь-государь очистительной грозы над Отечеством… Волчонком обозвал меня князь-волкодав Андрей, пусть будет по его разумению… Пока с матерым волкодавом подрастающему волчонку не справиться, только волкодав старится и глупеет, теряя свои зубы и тупя некогда острые когти… А с юным волком-государем и дряхлому князю-волкодаву, думающему только о своем собственном брюхе, уже несдобровать… Волчонок наберется жестокости и властолюбия своих династических предков – византийских и римских императоров… Недаром основателей Первого Рима Ромула и Рема вскормила волчица… Так что, если верить владыке Макарию, о преемственности царской власти Москвы – Третьего Рима в московском царе обязана течь и волчья кровь – через молоко матери-волчицы… Волчонок?.. Пусть будет по-вашему – волчонок… Берегись растущего волчонка наглый и злой на язык князь-волкодав Андрей Шуйский со своим боярским собачьем отребьем – волчонок, став настоящим волком, еще посчитается со всеми вами…»
Отмеченный при рождении блестящими дарованиями, острой восприимчивостью, страстной, раздражительной натурой, самолюбивый Иван после смерти матушки уже с самого раннего детства был предоставлен самому себе и развивался быстро и преждевременно во всех отношениях. В его тринадцать лет душа уже алкала любви и, к сожалению, не могла найти предмета всецелого обожания. Как пытливый мозг отрока требовал пищи и находил ее в погружении в Библию, историю царств Давида и Соломона на иерусалимском престоле, Августа, Константина и Феодосия на римском и византийском, так и душа Ивана в предвкушении великой любви нашла пищу и отдохновение в юношеской дружбе.
Душевным расположением Ивана успел завладеть думский советник Федор Воронцов, младший брат опекуна-боярина Михаила Семеновича Воронцова. Федор был старше и опытней Ивана, но с какой-то поры, когда в их сердцах случайно и неожиданно возникла искорка понимания и признательности, между ними установились теплые дружеские, чрезвычайно близкие и приятные отношения.
Иван потом неоднократно вспоминал, когда в его сердце возникла эта странная искорка. Федор искренне, без всякой задней мысли выразил свое восхищение юным государем за то, что тот в столь раннем возрасте мог самостоятельно, без всяких учителей, прочесть и изучить священную церковную и римскую историю, чуть ли не все творения святых отцов и древнерусские летописи.
Ничто так могущественно и вдохновляюще не действует на чувство, ум человека, как безыскусная похвала, восхищение юным талантом, преклонение перед ним. После такого искреннего признания Федора отроку Ивану и в самом деле показалось, что он стал еще умней, образованней, талантливей, наконец, и мысли новые и стремительные с необыкновенной быстротой рождались в государевой голове, чтобы поразить и восхитить собеседника.
Разговор об истории Первого и Второго Рима свернул на новую колею, и Федор Воронцов, кроме восхищения эрудицией и тонкостью исторических оценок Ивана, проявил незаурядный дар слушателя в задушевном понимании с полуслова самых изощренных политических и династических коллизий. Замечания его во время речей Ивана были изящны, тонки и остроумны настолько, что побуждали государя на новые и новые размышления – и разговор их мог показаться неистощимым.
Неожиданно Федор задал странный, озадачивший Ивана вопрос:
– Что тебя движет, Иван, так глубоко изучать библейские и римские сюжеты о царствах и царях, древние русские летописи о княжествах и князьях? Как будто твоя голова занята одной испепеляющей мыслью о борьбе за престол, династических войнах, о своих правах, о бесправии врагов, о том, чтобы дать силу своим правам и доказать бесправие противников, обвинить их – не так ли?
Иван был потрясен и обрадован одновременно, взволнованно подумав: «Наши с Федором души воистину настроены на один лад, так тонко и великолепно настроены, что легкое, казалось бы, совершенно случайное прикосновение к какой-либо одной струне одного из нас моментально находит отголосок, чистейший ясный отзвук в другом… Это душевное понимание, восхитительная душевная гармония – от Господа… То, чего я был лишен с первых лет жизни – душевного взаимопонимания с несчастным братом – оказалось мне предписанным в теплом дружественном общении и душевном созвучии двух близких душ…»
Иван порывисто обнял за плечи старшего друга Федора сказал, как на духу, все, что скопилось у него на этот счет на душе:
– Друг мой Федор, как всегда, ты оказался прав… Во всем, что я ни читал – в церковной, римской и русской истории, я искал священных доказательств в пользу своих попранных царских прав… Занятый рассуждениями на этот счет, мыслями о нелегкой борьбе за свои права искал и до сих пор ищу средства выйти победителем в этой борьбе, войне, если хочешь… Ищу везде… И знаешь, где я нашел главные доказательства в пользу своей царской власти, против беззаконных своих слуг-бояр, отнимавших эту власть у меня… Вспомни, Шуйские Василий и Иван, Бельские, сейчас Андрей Шуйский – все они эту власть у меня отнимали, на правах опекунов… И вот даже против могущественных опекунов я нашел свидетельства и доказательства их ущербности и корыстолюбия, что противны Господу… Знаешь, Федор, где нашел?
– Где же, государь?..
– В Священном писании, Федор… Потому и Библию наизусть знаю – от корки до корки… Владыка Макарий, сам назубок ее знающий, строго проверил меня… Говорил, много знавал он балаболов, якобы затвердивших Библию… Так вот, я не из тех балаболов…. Известно, что слабы и тщеславны людишки – приписывают присваивают себе то, чем не владеют, на что прав не имеют… Тебе первым, друг мой Федор, я признался, почему наизусть выучил Священное Писание – чтобы в сердце моем проросли доказательства правоты моей царской власти против беззакония бездарных слуг-опекунов… Так-то, мой друг, даже владыка Макарий не знает о том… Его знание наизусть Библии даст силы святые помочь своему Отечеству утвердить меня на царском престоле… Только когда это будет?.. Я больше о врагах своих думаю – как их переиграть и на место поставить…
Федор со смущенной улыбкой, стыдливым румянцем на щеках с восхищением выдохнул:
– Государь, признаюсь честно, от всего сердца, никак и никогда до наших задушевных бесед не думал, что ты так умен и образован…
Иван тоже неожиданно залился густым стыдливым румянцем и залепетал странные слова признательности и благодарности:
– Ну, что ты, что ты, друг мой верный… Это я тебя должен благодарить больше… Никто меня так не слушал и не побуждал к рождению мыслей поразительных… Я сам в полете мыслей, как на крылах, возвысился… Да не я один в нашем разговоре летал… Мы с тобой оба парили в заоблачных высях…
Пока государевы уста что-то лепетали – восторженное признание в дружбе и любви, или нечто подобное – только что родившиеся мысли Ивана делали новые пируэты. «Как сладко зарождение дружбы двух родственных душ… Сегодня вдруг я сам осознал свое новое рождение – в товариществе, в понимании… Созвучие душ так редкостно, почти невероятно… И вот это созвучие произошло… Даже в том наше созвучие, что Федору нельзя было мне не сказать свои восторженные похвалы моему уму и таланту, а мне нельзя было их не принять, ибо неприятие похвал было бы так же фальшиво, как и замалчивание их… Созвучие дружеских душ удивительно и волнительно… Как прекрасно, что мы с Федором находим отчаянное удовольствие именно в чистейшем и ясном звучании различных тонких душевных струн, которые мы затрагиваем в наших доверительных беседах… И мы готовы говорить и говорить вечно, будто никогда не наговоримся… Будто оторвут нас друг от друга – и не сумеем мы выговориться в дружеском святом порыве, когда души нараспашку и струны обнажены для счастливого чудесного созвучия… Боже, мне кажется, что нам недостает времени, возможно, даже слов любви, чтобы выразить друг другу все искрометные мысли и чувства, которые вырываются наружу из глубины наших обнаженных душ… Созвучие струн душевных, душ мятежных и нежных вдохновляет на подвиги, ибо чувство дружбы всесильно…»
Установление теплых дружественных отношений между Федором Воронцовым и государем Иваном не могло не остаться незамеченным при дворе. Шуйские сведали, что расположение юного опекаемого ими государя завладел думский советник Федор Семенович Воронцов, брат опального опекуна-боярина Михаила Семеновича, что могло как-то ущемить права их партии и лично князя Андрея Михайловича Шуйского. Иван обратил внимание, что при посторонних под неприязненными взглядами Андрея Шуйского, Федор Воронцов даже нарочито не обращает на государя никакого внимания. Но сразу после убытия князя Андрея, как только случалось остаться без лишних глаз и ушей сторонников партии Шуйских, Федор приглашал Ивана в уютный уголок дворцовых палат – и они, позабыв про все на свете и не замечая, как стремительно летит время, бросались в свои раскованные беседы и рассуждения.
Они тянулись друг к другу, и это было видно невооруженным взглядом… Шуйские и их сторонники к этим живым доверительным беседам не допускались – и все это вызывало их неприкрытую ревность, зависть и даже приступы злобы и ненависти к Федору Воронцову…
Федор с Иваном могли часами напролет говорить о священной церковной истории, писаниях святых отцов, о Геродотовой Скифии, летописной жизни древнего Русского государства… Меняли темы бесед, и также живо и остроумно толковали о будущей жизни, о возводимом, пока недостроенном Третьем Риме, об искусствах, о народных праздниках и обычаях… И никому из друзей в голову не приходило жаловаться на собственные неудачи и проблемы…
Ивана уже с самых первых доверительных разговоров с Федором удивило одно наблюдение за своим другом: он мог бы воспользоваться своим положением близкого друга и попросить государя за себя или за кого еще… Только Федор словно зарекся ни просить, ни требовать, чтобы не бросить даже тени на бескорыстную юношескую дружбу, где не может быть места расчету, хитрости, продуманных нечистых ходов…
В Федоре Ивана всегда поражали сосредоточенное внимание собеседника, тонкое чувство понимания осознания, кто есть кто – кто государь, а кто простой советник Думы, потому и не лез друг государев в интриги и козни боярские, давал обтекаемые советы государю по сложным вопросам взаимоотношений с боярскими партиями… Только душу отводил, когда они с государем заплывали к дальним берегам их судеб и будущности русского государства, ибо в юности все силы души направлены скорее на будущее, чем на настоящее… Ибо не столь интересна в юности куцая синица в руках – подавай юности в мечтаниях хотя бы жаворонка, что поет высоко в небе…
Опять так все это было созвучно душе Ивана тринадцатилетнего, его тогдашним умонастроениям: в юности все силы души, весь задор душевный направляются на неизвестное будущее, известность настоящего не бодрит и не пьянит – этим все сказано… А воздух будущего пьянит и завораживает, потому все мысли и чувства отданы не нынешнему настоящему, каким бы хорошим и устроенным оно ни было, а новому, неизвестному будущему, к которому обращены все надежды несбывшиеся юности…
Как парил в доверительных разговорах с другом Федором юный Иван-государь, какие живые и обворожительные формы принимали надежды и мечты сладкие – в них мало было от опыта прошедшего и настоящего, но безумно много от воображаемых возможностей личного человеческого счастья, процветания и счастья всей Отчизны… И самое главное, не было никаких оснований не видеть ущербности, несбыточности надежд юности, потому что все надежды и мечты этого вдохновенного пьянящего возраста просто обязаны сбыться…
Иван как-то не выдержал и задумчиво спросил Федора:
– Почему ты меня ни о чем не просишь?
Федор рассмеялся и ответил:
– А ты – почему меня?..
Иван на секунду замешкался, но все же нашелся:
– Но ведь я все же государь?..
– Но ведь еще не царь! – парировал Федор.
– А царя просил бы о чем?..
– Вот когда будешь царем, Иван, тогда и видно будет… – сверкнул глазами Федор и сменил тему разговора.
Слава Богу, им всегда было о чем говорить… И снова отрок Иван возносился в фантазиях о будущности все выше и выше, постигая всю необъятность мечтаний и мыслей о возможностях воплощения юношеских надежд… Еще бы, как бы мозг государев не был занят текущими мыслями о попранных правах, дерзко нарушаемых боярами, мечты и надежды о будущем так или иначе касались средств борьбы – как дать окончательное освящение правам царским, возвысить их до совершенной недосягаемости грызущихся за власть боярских партий…
Один только раз кольнуло сердце Иваново недоброе предчувствие: «Возможно, Федор и не просит меня сейчас ни о чем, потому что хочет наверстать все упущенное ныне в «царское» время…» Ивану стало неловко за собственные подозрения насчет единственного близкого друга – «Вот и я увидел какую-то корысть там, где ее нет и в принципе… Сколько еще воды утечет, когда мне будет дано венчаться на царство… А я уже дал волю не только своим мечтам и надеждам, но и подозрениям своим… Как это низко – подозревать друга в его будущих грехах…»
Ивану не давала покоя эта его мысль о своих нелепых подозрениях в греховных намерениях друга использовать его царство в каких-то своих корыстных устремлениях. Иван не мог терпеть больше и решительно вознамерился разобраться в своих сомнениях и позициях друга. Он сам нашел Федора и, когда они остались наедине, порывисто обнял его за плечи, приблизил его лицо к своему и, глядя тому прямо в глаза, промолвил не своим голосом:
– Знаешь, Федор, почему мы так быстро сошлись с тобой?.. – У Ивана перехватило дыхание, но он все же справился с ним. – Отчего я люблю тебя больше всех других, наверное, даже больше родного брата?.. Я обязан тебе это сказать… Нас связывает не только удивительное созвучие душ, но и редчайшее человеческое качество – откровенность… Я всегда был предельно откровенен с тобой… У тебя не было причин сказать о моей не откровенности… Я считал, что и ты со мной так же откровенен, как я с тобой… Но я хочу быть уверен в тебе, как в себе…
– Ты меня хочешь о чем-то спросить – спрашивай… – Сказал посерьезневший Федор с кроткими грустными глазами. – Ты, государь, должен быть во мне уверен, как в себе… Я догадываюсь, о чем ты меня хочешь спросить… Впрочем, догадки – догадками… Знай, Иван, только одно, я всегда говорю искренне, без всякого лукавства – так никому не говорю, кроме тебя, потому что, как никто ценю нашу дружбу…
– Но… – Иван старался как можно четче и уверенней подобрать слова, чтобы не обидеть друга. – Самые важные и сокровенные мысли, в которых мы боимся даже признаться друг другу, в которых даже стыдно признаться самому себе, – это невысказанные мысли… Но если мучит душу именно от недосказанного, может твой друг, Федор, просить тебя об одном одолжении…
– Конечно, какие там могут быть одолжения?.. Спрашивай, и я, как на духу отвечу тебе – своему другу, своему государю…
– Ну, что ж, Федор, наверное, это будет первым испытанием нашей дружбы…
– Пусть будет первым испытанием… – промолвил тихо Федор Воронцов. – Спрашивай, государь…
– И спрошу, Федор…
– Спрашивай, Иван…
– Иногда мне так хотелось, чтобы мой друг о чем-то попросил меня, но страх был – друг с какой-то корыстью хочет использовать государя, а это уже равносильно смерти дружбы бескорыстной… – Выдохнул Иван одним духом. – …А я вот о чем задумался и о чем спросить хочу моего друга… Может быть, сейчас ты, Федор, ни о чем меня не просишь с дальней перспективой – захочешь наверстать все упущенное ныне уже тогда, когда я царем стану… Ведь не сможет же царь отказать просьбе друга – как, Федор?.. Ответь…
Ивану чувствовал неловкость за вопрос и испытание своего единственного друга – но отступать было уже некуда…
– Нет никакой моей корысти сейчас, и не будет никакой корысти в будущем… – тихо промолвил Федор. – Но я бы солгал и тебе, и себе, если бы сейчас пообещал тебе, Иван, что, после венчания твоего на царство ни о чем бы тебя не попросил… Жизнь – она ведь штука странная… Нельзя давать обещания, что ни о чем не попросишь царя, причем царя-друга…
Иван стоял столбом, пораженный бесхитростной искренностью друга… А он еще его вздумал в чем-то подозревать, вот, испытание другу выдумал… На глазах Ивана навернулись слезы при старых мыслях: «Вот и я дал волю подозрениям своим… Как это низко – подозревать друга в его будущих грехах…»
Федор побледнел. Проглотив соленый ком, с такими же слезами на глазах спросил глухим прерывистым голосом:
– Я что-то не то, не так сказал?.. Ты хотел услышать нечто другое?.. Но ведь ты не заподозришь меня в лукавстве?..
Иван нежно обнял друга и поцеловал его в щеку… Сказал таким же глухим голосом, глотая слезы:
– Ну, что ты, что ты… Какое там лукавство… Какая там корысть может быть в дружбе… Прости меня, Федор…
Они стояли, обнявшись, и плакали… Каждый думал о своем и общем: нельзя подвергать дружбу испытаниями, тем более такими, которые придумывает не великая выдумщица жизнь, а на которые собственная коварная человеческая мысль в дурной подозрительной голове изощряется…
3. «Грубство» и унижение
После встреч и бесед с другом Федором Воронцовым юный государь любил поздним вечером погрузиться в чтение. При свечах он склонялся над житиями святых, сочинениями Иоанна Златоуста, киевскими летописями Нестора, Сильвестра, подготовленными по его просьбе наставником владыкой Макарием. Библейские пророчества в его мыслях переплетались с древнерусскими летописными легендами. Иван высоко ценил помощь владыки-наставника в Законе Божьем, в церковных таинствах, а также истории земли Русской…
Чтение перед сном побуждало Ивана к сочинительству, его обуревала всепоглощающая страсть к слову, к писанию повествований. Творя ради собственного удовольствия и невероятной тяги – преобразовывать мысли в слова и складывать слова в великолепные фразы! – Иван вдруг осознал свой новый дар сочинителя… А как Ивана вдохновляет возможность озвучить только что сочиненное произведение! Упиваясь звуками собственного голоса, он предавался и ораторскому искусству – со всем юношеским пылом и врожденным артистизмом. Естественно, писания и речения отрока напоминали по стилю библейские, он высокопарен, многословен, и в то же время по-юношески пылок и вдохновенен…
А вокруг государя, с раннего утра до позднего вечера новые козни и интриги боярские… Вроде бы и первенство князя Андрея Шуйского несомненно и бесспорно, да только сам князь, мучаясь воспоминаниями, когда его самого после смерти государя Василия втравил в династические интриги его брат Юрий Дмитровский, ревнует всех подряд к опекаемому им Ивану. После свержения и умерщвления в темнице первого боярина Ивана Бельского и отстранения от реальной власти Дмитрия Бельского у главенствующей партии Шуйских не могло быть новых соперников, сильных собственными средствами и яркими талантливыми лидерами. К тому же партии Глинских и Захарьиных, испуганные скоропостижными смертями Василия и Ивана Шуйских и возможностью мести со стороны их могущественных родственников из «новых Шуйских», как бы самоустранились от борьбы за власть, отошли в сторону.
И все же было чего опасаться тщеславному и мстительному Андрею Шуйскому: опасность ему и его партии являлась с той стороны, откуда раньше ждать не приходилось – не по дням, а по часам рос и мужал государь. И с растущим, бурно развивающимся – физически и умственно – Иваном, явно вырывающимся из-под опеки самозваных регентов из партии Шуйских, на государственную сцену могли уже скоро выступить два лица, облеченные полной доверенностью государя Ивана, далеко уже не младенца. Шуйские не только ревновали, но и ненавидели духовного наставника отрока-государя митрополита Макария и сердечного друга Ивана, Федора Воронцова.