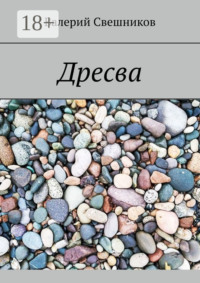Полная версия
Свобода, овеянная ветром
Наконец, наступил день премьеры. Все волновались, и только мы со Славкой были спокойны. Слов нам учить не надо, хотя мы могли бы их даже ночью произнести наизусть. За две недели наслушались их множество раз.
Мы натянули свои шаровары почти одинакового цвета – грязноватой охры. На ноги нам постановщики велели надеть ботинки черного цвета. На наши спины накинули одеяло той же масти, что и наши шаровары. Наконец, на меня натянули маску и долго устанавливали ее так, чтобы я видел дорогу.
На сцене в это время шли другие инсценировки, но мы уже их слышали на репетициях и поэтому не особенно сожалели о том, что их не видим.
Было, правда, непонятно, почему в зале так веселились зрители. Часто совершенно неожиданно раздавались смех и аплодисменты, хотя, по нашим представлениям, там вообще не было никакого повода для такой реакции зрителей.
Наконец-то наступила и наша очередь. Уже скоро, минут через десять, мы скинем эти одежды, а то нам уже надоело стоять без дела, да еще и в теплых шароварах.
Вначале все шло хорошо. Мы не пропустили середины сцены, и вот началось развитие главной мизансцены – беседы автора с Мужичком с ноготок.
Но от испуга «мужичок» забыл слова. А я их помнил, но не мог в маске понять, где стоит наш коновод. Я повернул голову в его направлении и прошептал нужные слова. «Мужичок» их повторил, но оказалось, что он стоит далековато от меня, и я попытался ногой его подтянуть к себе поближе.
Но ничего не получилось, лишь мужичок пнул меня, чтобы я отстал, – вроде бы, он вспомнил слова. В зале же раздались смешки на наши непредусмотренные сценические движения.
Но тут опять у него получилась заминка. Я пытался подсказать «мужичку» его слова. Но зрители из зала, они же и болельщики за свой класс, крикнули: «А чего лошадь подсказывает, так не честно!». Мне пришлось замолчать.
Наконец, мы добрались до финальной сцены. И чтобы скорее закончить наше представление, я немного сильнее рванул при словах о «мертвой лошади». Но Славка при этом отстал, поэтому съехало наше покрывало-одеяло. Кроме того, после подсказок «мужичку» маска так сползла, что я не видел пути-дороги. Неожиданно я наткнулся на какой-то стул, и тут мы рухнули вперемешку с дровами и салазками.
В зале стоял гомерический хохот. Мы быстро сбросили наши одеяла и вышли для прощания со зрителями. Аплодисменты продолжались.
Мы, конечно, не заняли призового места, но зато ощутили что-то вроде неожиданной радости, слегка смахивающей на артистическую славу.
Та маска лошади еще несколько раз использовалась в разных представлениях, пока, наконец, к ней не приделали рога северного оленя, нужные в пьесе «Снежная королева». Такую модификацию маска выдержала с трудом, но мы к тому времени уже оканчивали начальную школу.
Что стало с той маской, покрыто мраком неизвестности. Да теперь бы в нее уже и не влезть – как не вернуться в детство с его беспричинной радостью.
Mea culpa
Моя ошибка (лат.)
В детстве у нас всегда было много обязанностей по дому и поручений разного рода. Но одно из поручений для меня стало почти постоянным. Потому что приходилось выполнять роли: няньки, защитника, сторожа, короче, быть чем-то вроде телохранителя моей младшей сестры.
Это поручение оказалось довольно сложным, хотя бы потому, что сестре Ире исполнилось три года, а мне всего восемь. И, кроме того, она отличалась, как все детишки в этом возрасте, простодушием, любопытством и способностью исчезать из поля зрения, так быстро, как это могут делать только ниндзя.
Как у всякой девочки, у нее водились подружки. Тут нам всем не повезло. Все потому, что в соседних домах сверстниц Иры не оказалось ни одной, кроме Гали С.
У Гали были еще старшие брат и сестра, но имелась и младшая сестричка. Другими словами, в этой семье наблюдался большой запас детей и, возможно, поэтому сложился довольно свободный стиль поведения.
С утра эти дети выходили погулять и являлись домой, только когда чувствовали голод. Может быть, это и правильный способ воспитания, но мне-то от этого не легче.
От избыточного чувства свободы Галя, например, могла уйти от дома куда угодно, и никто из взрослых не задумывался, где она находится. Но уходила Галя не одна, а с моей подопечной – Ирой.
Я старался следить за сестрой, но не всегда это удавалось. Часто мы начинали играть в какую-нибудь игру, к примеру, в прятки, и стоило мне чуть-чуть увлечься, как я обнаруживал, что сестра исчезла со двора. Обычно было достаточно обежать ближние дворы, и я находил свою Иру.
Поэтому недаром ее мы стали называть «Заброда Иванна». Потому что случалось, уходила Ира со своей подружкой в самых неожиданных направлениях, и всегда для нас врасплох.
То, что это случалось только в компании с Галей, давало возможность понять, кто был заводилой этих отлучек. Но мне это только усложняло поиски.
Самые необычные маршруты юных путешественниц оказывались длиной в несколько километров. Однажды такой невероятный «загул» был совершен в направлении Заречья, а это примерно три километра от дома.
Трудность поисков состояла в том, что мне приходилось, как героям фильма «Подкидыш», бежать и спрашивать у встречных, не видели ли они двух маленьких девочек.
Уже через два-три подобных случая я понял, что замечают таких идущих девочек только женщины, а мужчин об этом спрашивать не имело смысла.
Тот «поход» в Заречье казался так нелеп и непредсказуем, что я с трудом нашел концы, то есть установил направление их передвижения. Все потому, что предыдущие «походы» совершались на вокзал и на пристань.
Эти долгие метания от одной встречной женщины к другой привели к тому, что девочки удалились очень далеко. Я нашел их идущими уже почти на окраине города. Это настолько большое расстояние, что даже обратная дорога домой заняла не меньше часа.
Вернул я бродяжек домой. И теперь стал бдеть еще сильнее. Даже при игре в прятки или городки я старался не спускать глаз с Иры, а это, поверьте, трудно.
И вот однажды, в ненастную погоду, Ира с более старшими подружками пошли играть в соседний дом. Среди них была сестра бродяжки Гали – Тамара. Да и Галя тоже пошла туда же, поэтому я понимал, что в поход сегодня никто не уйдет, и немного расслабился.
Девочки в том большом доме играли в прятки. Почему-то старшие из них решили попугать младших. Одна из них выскочила из темноты навстречу Ире. Для большего впечатления эта девица еще накинула на себя тулуп, вывернутый мехом наружу. Ира очень испугалась этой «шутки».
Правда, сначала она весь вечер плакала, видимо, от испуга. А утром мы обнаружили, что Ира стала заикаться.
С тех пор я чувствую свою вину. Ведь, если бы я немного более внимательно смотрел за сестрой, то могло бы все обойтись без таких последствий.
К сожалению, вся жизнь Иринки с тех пор пошла по-другому. Моя ошибка дорого ей обошлась, и исправить ее не представлялось возможным. Усилия врачей не давали должного эффекта.
Чем более взрослыми мы становились, тем горше было у меня на душе за эту оплошность.
Как незначительный дефект может иметь большой эффект
Будь осторожен или осторожна – говорим мы детям. Жизнь, мол, полна неожиданностей и опасностей. И чувствуем себя, выполнившими родительский долг, предупреждая таким способом малышню от возможных неприятностей. Но, оказывается, такие советы и для взрослых могут оказаться к месту.
Ира с мамой однажды колесили по городу в поисках подходящей детской обуви. Обошли они уже два или три магазина, но не нашли ничего стоящего. А, если и встречались какие-то туфли в продаже, то иногда не покупали их из-за одной «хитрости» нашей Иры.
Когда примеряли ей какую-нибудь обувь, родителям следовало быть начеку. Все дело в том, что Ира, если ей понравились туфли, могла по малости лет и наивности, подогнуть пальцы на ноге, только чтобы ей купили обновку.
Так уже получилось пару раз, когда купленная обувь через день носки вдруг оказывалась мала, и мала настолько, что Ира едва могла в ней ходить.
После двух таких невольных обманов мама уже старалась больше не доверять четырехлетней дочке, и приготовилась к «радостям шопинга», как теперь говорят.
В тех магазинах, где уже они побывали, Ире даже не пришлось примерять что-либо подходящее из имеющейся там обувки. То есть нужных туфелек там не нашлось.
И вот они собрались выходить из универмага, как маму остановил какой-то высокий и статный подполковник. Обратился он со странной просьбой. Она была настолько нелепа, что мама просто испугалась, и вместо посещения очередного магазина, они тотчас направились домой. Причем довольно быстрым шагом,
Можно понять маму и ее испуг, потому что военный предложил… купить у мамы ее дочку. Он обещал какие-то безумные деньги, говорил, что устроит это «дело» легко и просто.
А когда мама спросила, понимает ли он до конца нелепость того, что он предлагает, военный согласился, что понимает, но объяснял тем, что Ира очень красива, и похожа на его жену, а у нее, по какой-то причине, детей не будет. Подполковник пытался объяснить всю несуразность своего предложения только этим поразительным сходством Иринки и его жены.
Хорошо, что жили мы не очень далеко от центра, а дорога к дому обычно многолюдна. Мама потащила за руку дочь домой, но маленький ребенок не мог идти быстрее, чем хотелось.
Минут через пять-десять мама успокоилась – погони, вроде бы, не видно. Похоже, все обошлось.
Мама с Ирочкой шли по бульвару и уже подходили к парку, впереди был виден дом Засецких, а там и наш дом рядом, и тут их догнала легковая машина с тем самым военным.
Мама поняла, что приключения продолжаются. Она хотела уже просить помощи у прохожих, но военный оказался опять один и просил лишь его выслушать. Мама чуть-чуть успокоилась – с одним мужчиной она надеялась справиться, и не отдать дочку в чужие руки. Тем более, на бульваре было полно прохожих.
Подполковник попросил разрешить поговорить с Ирой, он, видимо, хотел привлечь ее большой и красивой и, похоже, очень дорогой куклой. Он просил хотя бы пять минут поговорить с девочкой и подарить эту игрушку.
И вот тут мой промах, моя роковая ошибка, как ни странно, помогла разрешить эту опасную ситуацию. Наша Ира уже полгода как начала заикаться. А некоторые буквы, в смысле, звуки, говорила она с большим трудом. Последствия испуга не проходили, несмотря на занятия с логопедами. Поэтому беседа не состоялась.
Дальнейшие просьбы о продаже ребенка отпали, как бы сами собой. Военный подарил Ирочке куклу, чему она была несказанно рада. Размеры игрушки оказались немногим меньше самой Иринки.
Эта дорогая, видимо, златокудрая красавица стала любимой игрушкой у сестры. Но со временем ей на смену пришли другие игрушки, а эта красавица хранилась всегда отдельно от других игрушек. То ли размеры ее были тому причиной, то ли история появления.
Эта игрушка так и осталась в нашей семье, но была она своего рода памятью об этом странном случае.
О попугаях и кроликах
В послевоенное время долго сохранялась в народе острая нужда в услугах психотерапевтов, но их почти не встречалось в наших краях. Между тем, судьбы многих так и оставались поломанными войной и прочими невзгодами.
Неуверенность в будущем и, тем более, неизвестность путей и мест пребывания родных, разбросанных военными вихрями, порождали потребность во врачевании душ.
Как во всякое сумбурное время, появилось много гадальщиков и прочих «оракулов». Особенно часто подобные «специалисты» встречались на рынке и на вокзале.
Оборудование у такого доморощенного гадальщика самое простое: попугай или кролик да ящичек с конвертиками, в которых находились готовые ответы на разные жизненные ситуации.
Желающий узнать свою судьбу, платил деньги этому «пророку», тот что-то шептал своему ассистенту – попугаю или кролику, который направлялся к ящичку, и начинал исследовать содержимое. Кролик, похоже, обнюхивал конвертики, а попугай их осматривал. И тот и другой вытягивали один из конвертиков и передавали их хозяину.
Наверное, здесь и начинались манипуляции с сознанием желающего узнать судьбу близких или родных – конверт можно было легко подменить любым другим, более подходящим по ситуации. Этот конверт вскрывался «пророком» или отдавался клиенту.
Слова, определяющие судьбу, прочитывались вслух, и все ахали, если их смысл поражал воображение окружающих. Если же слова оказывались непонятными, то доморощенный «оракул» разъяснял их потаённый смысл, и изумление окружающих наступало несколько позднее.
Самыми честными в этой игре оказывались, пожалуй, кролики и попугаи – они-то честно отрабатывали свою пайку.
Начальная школа
В год окончания войны я пошел в начальную школу. Она размещалась близко от дома в деревянном особняке. Он был не так богат, как соседний – дом Засецких, в котором тоже располагалась школа. У нашей интерьер, да и экстерьер выглядели попроще, хотя печи также были изразцовыми, правда, не такими богатыми и красивыми, как у соседей.
С этими печами, помнится, мы не очень почтительно обращались. Так меня сразу научили извлекать искры с помощью обычного стального пера. Для этого следовало тыльной частью его быстро провести по шву между изразцовыми плитками. При достаточном нажиме удавалось получить неожиданно яркий сноп искр. А что для парнишки может быть желанней, чем владение каким-нибудь новым приемом, фокусом или умением.
Первую нашу учительницу звали Зоя Николаевна Прозоровская. Она жила в соседнем доме. Я уже говорил, что для меня это стало сущим наказанием, так как обо всех моих проделках родители узнавали в этот же день.
Так Зоя Николаевна сообщила, что я очень тихо говорю, отвечая на уроках. Меня пытались увещевать, стыдить и воспитывать, но это плохо помогало. Какая-то особенность моего организма не давала громко говорить на уроках, но почему-то эта особенность не мешала мне орать, наравне с другими, на переменках.
Возможно, сказывались издержки моего домашнего воспитания. В детском саду я, может быть, научился бы говорить громко, и даже смог бы, встав на стульчик, преодолеть робость при выступлении со стишками. Но чего не было, того не было.
Не знаю почему, но я слыхом не слыхивал о прививках, и поэтому первый визит нашего класса для каких-то прививок стал для меня серьезным потрясением.
Я долго не давался эскулапам в лапы. Говорят, что я орал от страха, но сильный аргумент: «Мальчики же не плачут!» и «А как же солдаты на войне?» – сделал свое дело, и мне что-то там привили. Сказалась ловкость рук врачей и медсестер и лживый яд из их врачебных уст.
Известно, что эти послевоенные годы были довольно голодными. Не знаю по какой причине, но я выглядел очень худым, в смысле, тощим, однако не настолько же мы недоедали. И все-таки школьный врач однажды спросил родителей, не из блокады ли я.
Чего мне не хватало, не знаю, но про меня долго говорили – «кожа да кости». Постепенно я догнал своих сверстников по весу, и вопросы исчезли сами собой.
Остались воспоминания о попытках системы образования как-то нас подкармливать. Иначе говоря, сформировать у нас что-то вроде пищевого рефлекса, как у собак Павлова. Но кормить-то поначалу оказалось нечем, кроме хлеба и сахарного песка.
Вот и давали нам на большой перемене кусочек черного хлеба и маленький кулечек (фунтик) с двумя чайными ложками сахарного песку и, само собой, со стаканом жидкого чая.
Удивительно, что до сих пор сочетание вкусов хлеба и сладкого чая вызывает воспоминания об этих годах учебы. А все говорят, что мы люди, и ничем не похожи на собак того самого Павлова!
Весной, когда, наконец, теплело в природе, нам однажды вместо хлеба выдали булочки-жаворонки. Это событие стало для нас праздником!
Однако антирелигиозная пропаганда так запудрила всем мозги, что никто из окружающих не смог нам объяснить традиции такого праздника, как Благовещенье. Только кто-то из домашних: либо моя бабушка Саша, либо монашка Маша, живущая на первом этаже, рассказали мне об этом празднике и его традициях. Правда, я ничего не понял – рассказанное, пока не укладывалось в голове.
Иногда нас наказывали за шалости, но не всегда справедливо. Первый раз меня выгнали с урока, потому что описался, правда, не я, а мой сосед.
В первом классе, еще в сентябре, он не дотерпел до переменки и подмочил, можно сказать, мою репутацию. Теплая водичка потекла по скамье парты в мою сторону. Как только я ощутил это наводнение, то приподнялся и пропустил ручеек наружу.
Это заметила учительница и решила, что мне следует выйти из класса. Хотя я и пытался восстановить справедливость, но нет ее на свете.
На переменке едва смог доказать свою невиновность, ведь штаны-то у меня за это время высохли, хорошо, что у соседа еще нет.
Запомнилось упорное тщание учителей сделать из нас каллиграфов. Сначала всю первую четверть мы писали карандашом в тетрадях с тремя горизонтальными и частыми косыми линиями. А потом нам в качестве индивидуального поощрения за успехи разрешали писать перьевой ручкой. И мы старались изо всех сил, чтобы добиться преодоления этого порога!
Когда мы перешли во второй класс и уже начинали писать в тетрадях с редкими косыми линиями (какой прогресс!), нам показали ученика-первоклашку с почти каллиграфическим почерком. Фамилия его была Марков. Этот каллиграф росточку был не очень большого, но пыжился он, как будто свершил что-то необыкновенное, вроде перехода через Северный полюс. Жаль, не удалось узнать его дальнейшую судьбу.
Позднее я понял, что хороший почерк никак не гарантирует наличия высокого ума и других талантов. Из всех моих знакомых самый красивый почерк оказался у человека простоватого и не глупого, но не более того.
Да, надо бы немного сказать и о перьевой ручке. Это простое на вид изделие, но сколько старания нам приходилось прикладывать, чтобы научиться писать им.
Поначалу чернила то расплывались, то перо рвало бумагу, то возникали кляксы, и только спустя полгода мы начинали писать, и получать при этом хотя бы тройки и четверки. Странно, но девчонки умудрялись получать еще и удовольствие от письма. Нам, парнишкам, это пришло много позднее.
А сколько при этом существовало дополнительных, как теперь бы сказали, девайсов. Одних перьев имелось такое разнообразие, что легко случайно перепутать их, и тем самым, нарушить табу, наложенное учителем.
У перьев существовала какая-то хитрая иерархия. Она определялась порядковым номером, всегда обозначенным на пере. Строгой системы в этой номенклатуре не было. Но учитель настойчиво советовал пользоваться перьями с определенным номером.
Думаю, что главным показателем в этой системе была мягкость пера, или способность его к написанию волосяных и жирных – нажимных линий. Современным ученикам этих терминов не понять.
Много значило качество чернил. Готовили их из порошка, но все старания в поддержании их качества легко разбивались небольшим кусочком карбида кальция, опущенным в чернильницу. Этот прием позднее закоренелые двоечники использовали для того, чтобы не писать контрольную работу. Ну, если и писать, то в сокращенном варианте.
Другие хитроумные проделки могли сорвать и объяснение нового материала. Для этого наши проказники натирали доску воском и все – написать на ней что-либо мелом становилось невозможным.
Иногда мешали хорошо писать ручкой какие-нибудь волоски и прочий мусор, попадающий в чернильницу. Избавиться от этих «добавок» удавалось с помощью специальных перочисток – суконных кружочков, сшитых заботливыми матерями для своих первоклашек.
Как архаизм до сих пор сохранились в школьных тетрадях розовые или зеленоватые листки – промокашки. Они скоро, я думаю, исчезнут за ненадобностью, как, впрочем, и само это слово.
А в наше время промокашка была нужна, как воздух. Ведь, если ты не промокнешь последние (нижние) написанные строчки на правой странице, и перевернешь ее, то испортишь написанное, чернила размажутся, и все старания пойдут прахом.
Необходимо немного сказать о чернильницах-непроливайках. Что-то в организации образования не срабатывало, и нам приходилось таскать в школу особые чернильницы, из которых чернила не выливались при опрокидывании. Это, конечно, удобно, но лучше бы иметь в школе нормальные чернильницы.
Школа, естественно, освещалась электричеством, но у переменного тока в те далекие времена была дурная черта – непостоянство. Поэтому в каморке, где заправляли чернильницы, стояли наготове ряды керосиновых ламп.
Если внезапно гаснул свет, то в класс приносили с десяток горящих керосиновых ламп. Ставили их по одной на две парты, и продолжался урок.
Класс при этом становился какой-то декорацией для сказочных сюжетов. К сожалению, учителя не пользовались ситуацией и продолжали прерванный урок, вместо того чтобы провести урок чтения.
Тут надо бы упомянуть о больших возможностях, открывающихся перед самыми инициативными сверстниками. Мы еще не знали о том, что темнота – друг молодежи, но догадывались о ее прелестях. В темноте можно сесть поближе к соседке по парте, если на то имелись причины и желание.
Еще одна возможность открывалась в такой полутьме – это самодеятельный театр теней с помощью рук. Наиболее ловкие ребята могли сотворить пару десятков подвижных теней, порой очень уморительных.
На всю школу имелись только одни часы. По ним подавались звонки на урок. Часы эти явно старинные, возможно, оставшиеся от прежних хозяев. Располагались они около учительской на втором этаже здания.
Уборщица тетя Паша – незаменимая, как сестра-хозяйка в больнице, поднималась по лестнице до того места, откуда можно увидеть стрелки на часах, и ждала до окончания урока или его начала. Звонила она довольно звучным колокольчиком с непонятной тогда для нас надписью «Даръ Валдая».
На пространстве перед дверями в учительскую кипела самая активная жизнь – здесь образовалась наша вечевая площадь. Тут же стоял рояль, потому что здесь проходили уроки пения.
Стоя на уроке пения, я мог видеть ворота и даже пару окон первого и второго этажа родного дома. Я давно понял, что слава Козловского мне не грозит, поэтому больше наблюдал за жизнью соседей и обитателей дома, чем постигал азы хорового пения.
Надо признать, что наблюдать, а иногда и просто глазеть, уже тогда стало моим любимым занятием. Поэтому со мной воевали учителя и жаловались родителям – на уроке, мол, сидит, но ничего не слышит, и смотрит в окно.
Но я не смотрел, а наблюдал, как примерно на третьем уроке второй смены на балкон директора нашей школы залезал ее сын. Он учился в десятом классе, и возвращался с уроков в это время. Чтобы не отвлекать мать от занятий, он забрасывал на балкон свой портфель, а следом и сам забирался по столбу – опоре балкона. Меня восхищала его ловкость.
А после окончания этого зрелища, я включался в урок и успевал уловить, о чем шла речь по ходу объяснения нового материала.
Хотя петь я не любил, но с удовольствием слушал пение. Наши девочки на большой перемене выстраивались в два ряда в разных концах вечевой площади и начинали игру-дуэль.
Один ряд, притопывая и напевая, надвигался на противную сторону: «А мы просо сеяли, сеяли!» Соперники отвечали: «А мы просо вытопчем, вытопчем!..» И так далее… до конца перемены. Были и другие игры с распеванием каких-то рифмованных слов.
На этой же площади вывешивались школьные стенгазеты. Они были настолько неживыми, что читать их никто не хотел. Только новогодние поздравления и странное предупреждение «Экзамены не за горами» вызывали какие-то человеческие чувства. По крайней мере, у меня – четвероклассника – это предостережение об экзаменах вызывало некоторый трепет, но не страх.
Уже в четвертом классе мы сдавали четыре экзамена – два письменных и два устных по русскому и арифметике. Лет в сорок я, воодушевляя своих детей перед экзаменами, решил пересчитать их количество, сданное нами за все прошедшие годы. Оказывается, их набралось почти с сотню! Может быть, эта необходимость постоянно сдавать экзамены дала нам какие-то знания и что-то помимо них.
Когда я перешел во второй класс, то впервые увидел зачатки дедовщины. Но это была, можно сказать, безобидная дразнилка, а не издевательство и унижение человека. Вся нелепость ситуации состояла в том, что мы, сопляки, выкрикивали почти сверстникам какие-то бессмысленные слова: «Малыши – карандаши по тарелке попляши!»
В душе я понимал, что для второклассника наши «речевки» – это ничем не оправданный гонор, но почему-то нам хотелось показать свою взрослость и самостоятельность.
Из воспоминаний о школьной поре хотелось бы сказать пару слов о летних каникулах. Первый день их – двадцатое мая – мы, естественно, считали началом лета. А подтверждали это событие, началом купального сезона.
Как же холодно иногда бывало, но мы упрямо следовали нашей традиции. Но зато потом, победив свою слабость, собрав волю в кулак и выкупавшись, все с удовольствием согревались под лучами солнца.