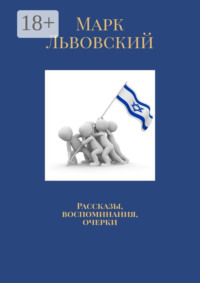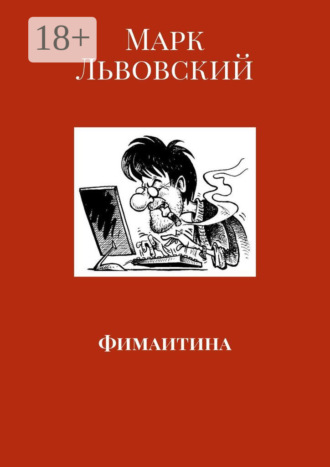
Полная версия
Фимаитина
Ироничное отношение евреев к «Памяти» пытался выразить Фима в фельетонном рассказике «Пресс-конференция», который он хотел дать в копилку собираемых материалов для «Симпозиума по отказу». Вот он:
«В клубе «Новый россиянин» состоялась долгожданная пресс-конференция неформального объединения «Память». Вёл пресс-конференцию видный представитель этого объединения, социолог Чернов.
Вашему вниманию предоставляется сокращенный протокол состоявшейся пресс-конференции.
Чернов (с нескрываемой грустью). – Память… Господа, у нас выбили из голов память! Кто мы? Чьи мы? Откуда мы? А мы – русские! Я не знаю, что такое советский народ! Не знаю! Во мне есть литовская кровь? Азербайджанская? Бурятская? Не дай бог, еврейская?! Нету! Я – русский! И вы – русские! Православные!! Да, мы – особый народ! Мы – не гнилые европейцы! Перефразируя Александра Блока, да, мы – азиаты, да, мы – скифы! Мы стоим между Западом и Востоком! На нас возложена великая миссия спасения христианского мира от грядущего нашествия Востока на Запад, нашествия, как орудия Божьей кары погрязшему в грехах Западу. И мы станем Востоком Христа! Мы берём на себя нравственную миссию спасения и последующего обновления христианского мира! Я схожу с ума, когда думаю, что предстоит нам, русским людям! Но чтобы иметь нравственное право спасать Запад, мы и сами должны нравственно измениться! Поэтому лозунгами «Памяти» стали: православие, самодержавие, народность, антикоммунизм, антисионизм, антимасонство. Ура, господа! А теперь можете задавать вопросы. Я отвечу даже на самые жгучие из них!
Вопрос. – Православие – не проблема, все мы православные. Что касается самодержавия – и здесь я не вижу проблемы: кликните, и мы пойдём за государем! Народность – я понимаю так, что надо заразить вашими идеями весь народ. Пойти всем нам в народ – тоже не проблема. Только надо подумать о достойной зарплате – ведь нам придётся уволиться, идти в народ – это ж весь день идти, а то и ночью. Антикоммунизм тоже не проблема – наелись коммунизмом досыта! Хватит! Насчёт антимасонства я не очень понимаю, но уверен, что и это не проблема. А вот как быть с антисионизмом? Вот это – проблема! Как обнаружить сионистов? Чем они отличаются от просто евреев?
Чернов. – Спасибо вам, дорогой друг за глубокое проникновение в суть проблемы! Мы различаем три типа сионистов: сионист открытый, сионист скрытый и жид пархатый. Нашей социологической группой разработан ряд методов, позволяющих различать эти типы. Расскажу вкратце об одном из них. Социологу нужно наклониться к уху человека семитской наружности и отчётливо прошептать: «Израиль – фашистское государство!» Сионист скрытый покраснеет и опустит глаза, жид пархатый радостно пожмет социологу руку, а сионист открытый непременно даст ему по морде. Но метод не безупречен. Недавно, подойдя с такой вот фразой к десяти евреям, семеро из которых, как нами предполагалось, были всего лишь жидами пархатыми, наш социолог восемь раз получил по морде, и три раза в него густо плюнули…
Голос из зала. – Но восемь и три – это одиннадцать. А подошли только к десяти евреям!
Чернов (растерянно). – Действительно… Видимо, один из испытуемых евреев не только дал по морде нашему социологу, но и плюнул в него. Тяжёлая у нас работа, товарищи.
Вопрос. – А как вообще отличить еврея от не еврея? Страшная иногда путаница происходит!
Чернов. – Общий принцип – по обрезанию! Но, увы, сегодняшний уровень перестройки еще не позволяет определять это в общественных местах.
Вопрос. – Каково отношение «Памяти» к евреям, покидающим страну?
Чернов. – Со всей присущей нам откровенностью отвечу: пусть едут! Но только в Израиль! Ибо Израиль расположен в таком месте, что сионистам там не до мирового господства. Как говорится: не до жиду, быть бы живу! (в зале гомерический хохот). Но, дорогие товарищи, в нашем обществе «Память» есть течение, требующее не отпускать евреев… э-э-э э, простите, сионистов в Израиль, чтобы они не смогли избегнуть заслуженного наказания за те преступления, которые они совершили по отношению к многострадальному русскому народу. Вопрос этот сложный. Сходу его не решить, и, как говорится, «первоисточники» здесь не помогут. Мы думаем, товарищи!
Крики из зала. – Пока думаете, они все и смотаются!
– Мебель всю вывезут!
– Почему разрешают им брать с собой мыло и туалетную бумагу?
– Таможня продана сионистам!
Раздается еще много оскорбительных криков в сторону министерств, ведомств, а также заслуженных деятелей партии и правительства. В конце концов, зал успокаивается.
Вопрос. – Ваше отношение к верующим евреям?
Чернов. – Мы никогда не простим им распятия Христа! (Весь зал в едином порыве встает и осеняет себя крестным знамением). Товарищи, хочу сообщить вам радостную новость: изучение зданий, в которых располагаются синагоги, показало, что никакой исторической и культурной ценности они не представляют! А нашей славной молодежи негде зимой потанцевать! (Негодующие крики в зале).
Вопрос. – Делается ли что-либо для усиления ассимиляции евреев?
Чернов. – Товарищи, ассимиляция нами приветствуется! Мы не фашисты! Мы не за чистоту расы, а за чистоту народа! И мы много делаем для усиления процесса ассимиляции. Установлено, что евреи-мужчины тяготеют к молодым, пышногрудым, длинноногим блондинкам с небольшим количеством веснушек. И сейчас к нам поступили такие девушки-добровольцы. Работа им противна, но они знают, что от их усилий во многом зависит очищение России от чужеродного элемента. Их дети – наполовину наши! А по еврейской вере – уж и вовсе не евреи! (Аплодисменты). Что касается еврейских девушек, то доступность многих русских девушек мешает нашим патриотам заняться малодоступными еврейскими девушками. Как видите, борьба с сионизмом есть одновременно борьба за моральное оздоровление женской части нашей нации. (Бурные аплодисменты. Раздаются женские крики: «Мы тоже станем недоступными! Станем!» Крики переходят в бушующие, очистительные рыдания. Трех девушек выносят, хотя они сопротивляются).
Вопрос. – На вас, представителей «Памяти», льют ушаты помоев! Почему вы молчите, бедненькие?
Чернов (в его глазах кипят слезы). – А кому сейчас жить на Руси хорошо? Честному патриоту? Труженику? Русскому писателю? Нет! На Руси жить хорошо сионистам и мракобесам, подкупленным ими! Да, мы облиты помоями и не только! Но придет время, и они своими шершавыми языками слижут с нас эту гадость!
Крик из зала. – Царя-батюшку!! (Все встают и, плача, поют «Боже, царя храни»).
Вопрос. – Есть ли у вас боевые отряды?
Чернов. – Друзья, не надо задавать вопросов, ответы на которые очевидны. (Овация)
Вопрос. – И пулемёты есть? (В зале раздаются возмущенные крики: «Провокатор!» «А может, это сионист?» «Снять с него штаны!» Слышится возня, пыхтение, крики. «Товарищи, он – наш. Он больше не будет». Зал успокаивается.)
Вопрос. – Много ли в вашем обществе творческой интеллигенции?
Чернов. – Непростой вопрос. Знаете, с этой интеллигенцией, как с той девицей: «И хочется, и колется, и мама не велит» (хохот). Они все хотели бы войти в наше светлое, очищенное от сионистской скверны общество, не замарав своих белых воротничков. Не выйдет, товарищи дорогие! Только облитые, как хорошо здесь было сказано, «ушатами помоев», мы войдем в наше завтра! (Крики «Ура!» «Не боимся замараться!» «На всех говна хватит!»)
Вопрос. – Как вы относитесь к заселению нашими сионистами исконных арабских земель?
Чернов. – Велики страдания нашего младшего брата, тоже великого, но арабского народа. И объединяет нас не только то, что и у них, и у нас есть нефть, а то, что и у них, и у нас – один общий враг. Наш младший брат переживает тяжелейшую минуту своей истории. Но мы с тобой, братишка! (Крики «Ура!» «Да здравствует Аллах Акбар!» «Все запишемся в общество «Джихад!» «Не отдадим Нагорный Карабах!»)
Вопрос. – Есть ли филиалы «Памяти» в других странах?
Чернов. – Отвечу так: ширится международная солидарность в борьбе с сионизмом! Понятно, товарищи? (Овация)
Вопрос. – Можно ли начинать бить сионистов в необщественных местах?
Чернов. – Друзья! О тактике и стратегии «Памяти» вы скоро прочтете в нашем легальном журнале «Узелки на память» (Аплодисменты). Да, товарищи, теперь у нас есть свой орган, и мы не дадим сионистам обрезать его! (Хохот. Бурные аплодисменты).
Вопрос. – А кто такие жидомасоны?
Чернов. – Великий русский человек, общественный деятель эпохи императора нашего Александра Первого, Михаил Леонтьевич Магницкий впервые произнёс это слово в отношении масонов, использующих в своих ритуалах иудейскую, каббалистическую, ветхозаветную символику и прославляющих Сион. Жидомасонство – заговор против России! И это доказано в классическом труде «Протоколы сионских мудрецов». Кто из вас читал их, а? (Поднимается одна единственная дрожащая рука старика в линялой соломенной шляпе, грязноватом, когда-то белом, чесучовом пиджаке. Оратор, увидев это, с великой грустью продолжает). Больно мне видеть такое… Конечно, куда увлекательней читать писульки всяких там Довлатовых, Аксёновых, Войновичей, Бродских и прочих семитофилов и евреев. Но если бы вы только открыли «Протоколы», вы бы уже никогда не закрыли их, а вышеназванных литераторов выбросили бы на помойку.
Вопрос. – Где ж их взять-то, «Протоколы» эти?
Чернов. – Нами готовится академическое издание этой великой книги по доступной любому русскому человеку цене! (бурные аплодисменты)
На этом пресс-конференция была завершена».
Фельетон этот Фима показал одному из руководителей «Симпозиума по режиму», умнице, доктору технических наук, многолетнему «отказнику» Милану Менджерицкому. Тот, читая, пару раз соизволил улыбнуться и по прочтении спросил:
– Ну, и какое это имеет отношение к нашему симпозиуму?
– Никакого, – ответил Фима. – Просто напоминание о времени, в которое проводится симпозиум.
И Милан ехидно продолжал:
– А лирический стишок о симпозиуме ты уже написал?
– О симпозиумах стихов не пишут. Даже такие поэты, как я.
– А где порученный тебе фельетон?
– Не получается.
– Как же так? Я помню, ты говорил про некоего Рабиновича, изобретшего автомат, стреляющий вбок…
– Не получается… Не смешной он…
– Тогда напиши обоснованное опровержение так называемой «важности для государственной безопасности» твоей бывшей секретности.
– Вот это я могу. В нескольких могучих строчках. Скажи, Милан, твоя квартира прослушивается?
– Понятия не имею. Но не исключено…
Фима поднял к потолку гордую голову.
– Тогда я громко заявляю следующее: да, я знал и знаю сейчас, что на известных мне химических комбинатах вырабатывают отравляющие вещества. Но существуют ли в мире химические комбинаты, на которых не вырабатывают эту гадость?! И каждому ясно, что расположение всех до единого советских химкомбинатов американские спутники знают лучше любого гражданина СССР! Эти комбинаты вопиют к небу огромными вертикальными трубами, которые ещё и дымят! Они опоясаны километрами разноцветных труб, по которым во всех направлениях текут исходные химикалии, готовая продукция, вода, пар, отходы! Они огорожены огромными заборами. К ним ведут десятки подъездных дорог! Вокруг них на десятки километров нет жилья! И стоит разбомбить хоть небольшую часть химкомбината, как вырубятся все его производства, включая и производство ядов, ибо все они обслуживаются одной системой. И что, американцы тупее меня?
– Очень эмоционально и логично. Меня только сильно смущает твой призыв к американцам бомбить советские химкомбинаты.
– Милан, ты превратно понял мой монолог…
– Я его понял точно так, как это понимают гебешники. Смягчи, добавь, что и у славных советских лётчиков есть точно такая же возможность, и вперёд! Только, пожалуйста, не зарифмовывай…
– 18 —
Засверкала новая фамилия – Борис Ельцин. В декабре 1985 года он стал первым секретарём московского городского комитета КПСС. Придя на эту должность, выгнал из горкома многих руководящих работников и многих первых секретарей райкомов. Лично проверял магазины и склады, ходил, плохо одетый, в нечищеных сапогах и завалящей кепке пешком по московским улицам, ездил на общественном транспорте. Охранники, не успевавшие влезть в троллейбус, бежали следом. Организовал в Москве продовольственные ярмарки. Начал публично критиковать руководство партии. Но отношение его к «отказу» оставалось неясным.
«Перестройка»! Она легонько трепала поседевшие локоны «отказников», смутно обещала перемены, открыла форточку для более полноценного дыхания и, главное, перестала сажать в тюрьмы. «Отказники» выходили на редкие демонстрации с плакатами, милиция грубо, но без мордобития изымала их и… уезжала. Обезличенным «отказникам» не оставалось ничего другого, как разъезжаться по домам.
Но самое главное – в феврале 1986 года был выпущен из лагеря Толя Щаранский и уже на следующий день после освобождения прибыл в Израиль. А в мае получили разрешение на выезд его мама Ида Петровна и родной брат Лёня с семьёй.
Ида Петровна… Как она натерпелась за эти проклятые девять лет сыновних лагерей и бесчисленных в них карцеров и голодовок! Упрямый, несгибаемый сын… Ида Петровна ездила к нему на свидание в Чистополь в страшный холод и за три дня свидания пыталась отогреть, откормить сына.
Шатаясь, шла завьюженною КамойВ чужую даль, в чужую тьму,Шатаясь, шла, обмотана шарфами,На краткое свидание к нему.Потом, нелепо суетясь, кормила сына,Такого маленького, худенького, чтоМогла бы с лёгкостью взвалить его на спину,И снова через Каму, через шторм.Потом лежала, успокоенная, рядом,И так естественно, свободно потеклоСквозь каждый наболевший мамин атомК нему последнее старушечье тепло.Потом, сращённая с тюремной решёткой,Рыдала сыну обречённо вслед,И шла обратно тяжкою походкой,В холодный, рыхлый, бесконечный снег.И только об одном молила Бога,Не поднимая к небу мокрых глаз:– Дай, Господи, пожить ещё немного…И Он её услышал в этот раз…Четыре года тому назад Фима вручил Иде Петровне это стихотворение, и она, прочитав, так разрыдалась, что перепуганный Фима не знал, куда деваться. А 23 августа 1986 года Ида Петровна напилась на собственных проводах! У Фимы хранилось фото, на котором она запечатлена с огромным и уже пустым стаканом. Речь её была бессвязной. Она со всеми целовалась и приговаривала: «Мы скоро увидимся, мои родные! Мы скоро увидимся!» А Фиме шепнула на ушко: «А твоё стихотворение я выучила наизусть. Хочу видеть, как эти сволочи отнимут его у меня!».
Нет, это были не обычные проводы – это были проводы «отказа»! Так осязаемо было высокое чувство сие, так вдохновенно повторяла Ида Петровна «мы скоро все увидимся», так весел был Володя Слепак…
Возбуждённые этими событиями, «отказники» решили наведаться к тогдашнему министру внутренних дел. Но он не принял. Занят. Не приняли и несколько его замов. Заняты. И вдруг согласился принять некто Гундарев с неясными полномочиями.
На улицу Огарёва, в небезызвестный дом номер шесть прибыло двенадцать старых «отказников». Принял их пожилой человек в генеральской форме, с тяжёлыми крестьянскими руками, хитрым мужицким лицом и сиплым, махорочным голосом.
– Ну, товарищи, что там у вас?
Очень ободренные тем, что впервые их, «сионистов», «предателей», отбросов социалистического общества» и так далее, называют «товарищами», «отказники», жестикулируя, всхлипывая, перебивая друг друга, принялись рассказывать седому генералу о несправедливостях, творимых подопечным министерству ОВИРом по отношению к ним.
Он ни разу не перебил. Он сказал, что проверит. Что виновных накажет. Он вытащил огромный носовой платок и так высморкался, что «отказников», до единого, вынесло из кабинета.
Как потом оказалось, это был уже год как уволенный из органов МВД на пенсию генерал, в прошлом – крутой специалист по борьбе с бандитизмом.
– Надо к Ельцину! – сказал один из очень старых «отказников».
И «отказники», униженные и оскорбленные, бросились к нему с жалобой на МВД. Но Ельцин не принял. У него накопилось дела поважнее. Не приняли и восемнадцать его замов. Но согласился принять некто, ответственный по организационно-идеологическим делам. И «отказники» увяли. Три очень старых «отказника» не пошли, так как сочли унизительным встречаться с лицом, не известным широкой мировой общественности.
– Хватит с нас! – сказали они.
Еще три очень старых «отказника» не пошли, потому что не пошли три первых. Еще один в этот день встречал полинезийских социал-демократов, а другой дописывал вторую главу своей книги «Мой путь в Сион» (предварительное название).
Из оставшихся великих, пойти на приём решил Володя Слепак, неожиданно выбравший себе в напарники Фиму. Одному идти на приём ему показалось скучным.
В приемной маялась обыкновенная очередь из обыкновенных советских людей, как и Володя с Фимой, предварительно записанных на прием.
Темп приема был ошеломительный. Каждые пять минут из двери кабинета выскакивал потный, красный посетитель и, матерно ругаясь, бросался к двери, ведущей на улицу. Было ясно, что в кабинете сидит не шутник. И уж совсем стало интересно, когда оттуда выскочил пожилой полковник в форме с криком:
– Я найду на тебя управу, сука!
«Перестройка» давала себя знать. Еще год тому назад, даже получив по физиономии, из такого вот кабинета выходили бы, лучезарно улыбаясь. Теперь же чувствовалось, что отношения между партией и ее народом приобретают искренний, деловой характер.
– Слепак! – возопила секретарша. И Володя с Фимой встали. Неупоминание Фиминой фамилии нисколько его не обидело. На допросы, с последующей в 1978 году ссылкой на пять лет, Слепака вызывали тоже без Фимы.
Вошли. Это был небольшой кабинет, почти заполненный огромным письменным столом. На стене в простой рамке висел портрет с кепкой хитро улыбающегося Ленина. А за самим столом спиной к портрету сидел чернявый, востроносый ответственный работник с явными признаками бессонницы. Глаза его были как у хорька: круглые, темные, безбровые, жутко злые и, одновременно, заспанные. Честно говоря, Фима никогда бы не поверил, что в ответственные партработники можно попасть с такой вот физиономией. Видимо, был талантлив.
– Слушаю вас.
И Володя Слепак, с известной всему миру хрипотцой, спокойно, деловито начал излагать проблемы «отказников». Ответственный работник, явно чтобы не сорваться, в первые три минуты речи Слепака, что-то энергично жевал. И по окончании трёх минут, прожевав, он прервал Слепака и сделал это очень эффектно: ударил ладонью по кипе бумаг и затем резким, отлично поставленным голосом, выстрелил:
– Хватит! Я теперь буду говорить!
И в тишине, последовавшей засим, он раздельно произнес:
– Будь моя воля, я бы прямо отсюда отправил вас в Сибирь, навсегда, чтобы духа вашего сионистского не было в Москве, чтобы не мешали нам жить (он стал подниматься), чтобы не гадили священную нашу московскую землю (он встал и направился ко второй, ранее не замеченной Фимой, боковой двери), чтобы не отравляли наш чистый воздух (Володя с Фимой поворачивали вслед ему головы, завороженные его ненавистью), не заражали наши водоемы (он взвизгнул), ручьи и реки, озера и плавни!
И исчез из кабинета.
Стало ясно, что этот человек, будучи в прошлом ответственным за чистоту окружающей его среды, был в суете «перестройки» брошен на организационно-идеологическую работу. И Володя с Фимой остались вдвоем в пустом кабинете.
Что и говорить, хозяин этого кабинета был действительно талантливым человеком: в такой вот ситуации, поди, ответь ему, возрази, нагруби, наконец! Ничего – бейся головой о стенку и восхищайся методами партийной работы! А, может, он побежал только справить нужду и вернётся?
Зычный голос секретарши потребовал от них очистить священные покои…
Но уже в разгаре была весна, и хотя месяц март из последних сил цеплялся за московские крыши, его последние льдины таяли и вместе с серым снегом с грохотом проваливались в водосточные трубы…
– 19 —
Менялась не только страна, менялась, причём, на глазах, и Фимина жена Тина. Декабрь 1986-го года прошёл под знаком её резко увеличивающегося живота. Фима нервничал, а Тина деловито готовилась к родам. Уволившись, она сохранила дружеские отношения с несколькими бывшими коллегами, звонила им, рассказывала о симптомах, получала ценные советы и сияла. Через день звонила из Израиля её мама и кричала Тине, чтобы она «главное, не нервничала и не занималась „отказными“ делами». И всегда спрашивала: «А он (то есть, Фима) помогает тебе?» И содержалась в этом вопросе удивительная проницательность, ибо Фима, как и многие другие «отказники», окрылённые гуманным к себе отношением властей, стал частенько вечерами отлучаться от дома, по причине возросшего объёма общественных дел. Тина не протестовала даже тогда, когда муж возвращался чуть навеселе. Она понимала, что «общественные дела» были весьма разнообразны. Впрочем, Фима всегда многословно рассказывал ей, где был, с кем, по какому поводу выпил и даже что пил.
Звонила раз в неделю Фимина мама и наставляла:
– Ты до сих пор не знаешь, кого родит Тиночка? С ума можно сойти! У нас это узнают на четвёртом месяце беременности! Теперь слушай: если мальчик, дашь имя дедушки – Юда, в Израиле переделают его, как полагается, а если девочка, дашь бабушкино имя – Хая…
– Мама, но я собираюсь в Израиль, а не в Бердичев! Кроме того, и у Тины были дедушка и бабушка.
– Так что, у вас будет только один ребёнок?!
– Мама, ты лучше расскажи мне, как у Сеньки дела! Он не пишет и не звонит!
– Сыночек, я должна тебя огорчить – о нём говорят нехорошо. Будто назанимал денег, долги не возвращает, непонятно, чем занимается. Ко мне он ни разу не приезжал. Только один раз позвонил, и всё. Учти, что всё это, конечно, слухи, но уж очень упорные.
– Мама, что с моими стихами?
– Ждут тебя!
– А ты не можешь отправить их в какую-нибудь русскую газету?
– Я пыталась, но мне сказали, что они стихов не печатают. Скоро приедешь и сам во всём разберёшься.
– Мама, откуда ты знаешь, что «скоро»?
– Мы, родители «отказников», недавно встречались с русскоязычным евреем Яшей Кедми, – он большой человек в Израиле, – и он сказал, что не сомневается в скором приезде многих советских евреев, включая «отказников». Сыночек, я так скучаю…
Далее следовал мамин плач, взаимные признания в любви и горькие слова о невозможности больше терпеть разлуку…
…И наступило одиннадцатое января 1987 года, и в это ясное морозное утро заявила Тина Фиме, что надо идти в роддом. Что она чувствует, что пришло время рожать. Перепуганный Фима засуетился, стал носиться по квартире и громко спрашивать Тину, где находятся её вещи. Тина долго смотрела на взмокшего мужа и, наконец, сказала: «Я собрала свои вещи ещё три дня тому назад. Неужели ты думаешь, что я могла оставить это на последний день? Ты бы лучше оделся поскорей».
Тина потребовала идти пешком. Роддом находился в двадцати минутах ходьбы, и Тина вошла в его светлый вестибюль с раскрасневшимися щёчками, весёлой улыбкой и совершенно потерянным Фимой. Через минут пятнадцать её увели, а Фиме велели ждать – вдруг придётся отправляться домой. Прошёл целый час, прежде чем Фиму позвали к крайнему окошку в регистратуре, и пожилая, полная женщина сообщила, что Тину оставляют, что всё в порядке, что вечером, но не позже семи часов, он может прийти и узнать, что и как…
– А звонить вам можно?
– Звони, милок, если телефон у тебя в личном кабинете.
И пошёл Фима по белой тропинке, скрипучей, очищенной ретивыми дворниками от выпавшего ночью снега и уже утоптанной мужьями, пошёл прочь, на каждом шагу оглядываясь на серое, невзрачное трёхэтажное здание районного родильного дома с множеством окон, на четверть запорошённых снегом. И сердце его ныло от тревоги и радости, и приветливая ворона отчётливо и раздельно каркнула ему: «Па-па!»
Работалось тяжело. Фима то и дело застывал с молотком, поднятым для удара по шляпке гвоздя, или отвёрткой, нацеленной на головку шурупа. Едва кончился рабочий день, он примчался в роддом и узнал, что Тина ещё не родила. Он вышел в роддомовский садик и стал пристально вглядываться в окна. В них, через изуродованные наледью стёкла, мелькали разные лица, однажды ему показалось, что он увидел Тину, но лицо быстро исчезло, и Фима поплёлся домой.