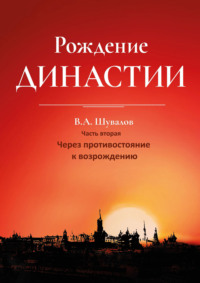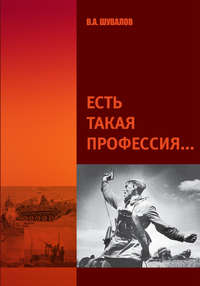Полная версия
Сабля императора
В соборе архиепископ накинул на царственную чету пурпурные мантии, отделанные горностаем. Короновать новоявленного императора должен был прибывший из Рима сам папа Пий VII.
Это было против церковных правил – монархи ездили на коронацию к папскому Престолу. Но разве можно было отказать Бонапарту, войска которого стояли у стен Ватикана.
По протоколу церемонии папе следовало возложить монаршую корону на голову нового императора Франции.
Но утомленный долгой дорогой и потрясенный роскошью церемонии престарелый понтифик после Папского благословения не смог поднять дрожащими руками тяжелую корону, чтобы возложить ее на голову Бонапарта.
Бонапарт и сам понимал, что должен склонить голову перед папой.
Но, вокруг стояли его соратники, с которыми он защищал Революцию, его солдаты, с которыми он штурмовал монаршие троны, вокруг был народ Франции.
Звенела революционная Марсельеза и Наполеон мыслил себя хоть и императором, но революционным.
Гордость и мятежный дух не позволили ему склонить голову, перед каким-то там папой.
В конце концов, революционная Франция уже давно оплачивает из своей казны все расходы Ватикана.
Да и наконец-то исполнилось предсказание Ленорман о заветном седьмом троне.
Наполеон Бонапарт будет императором!
Нетерпеливый Бонапарт, вместо того, чтобы склонить голову перед Папой Римским, вырвал корону из его рук и сам возложил ее на себя.
Он забыл пророчество «черной» Марии о том, что ему следует быть терпеливым и склонить голову перед короной.
Он не хотел этого и поэтому не дождался коронации судьбы, выхватив у нее корону.
Он не смог удержаться и… короновал себя сам!
Время начало обратный отсчет!

Коронация Жозефины Богарне. Жак Луи Давид. Лувр, Париж
Началась эпоха империи Наполеона, которая закончилась ровно через 10 лет в марте 1814 года.
Рядом с императором всегда были два «оберега», в которые он свято верил: его жена Жозефина и сабля, врученная ему как талисман от имени французского народа.
Эти два «оберега» не только защищали его от превратностей судьбы, но и способствовали его политическим и военным победам.
Но не думал великий император, что может с ним произойти при утрате этих «оберегов».
Как императрица Жозефина, благодаря своей доброте, щедрости и такту, пользовалась во Франции большой популярностью, однако несколько лет спустя, когда неспособность Жозефины родить ребёнка больше не вызывала сомнений, Наполеоном было принято решение о разводе.

Император Бонапарт объявляет Жозефине о разводе.
Формальным поводом к расторжению брака послужило отсутствие приходского священника на церемонии венчания 1 декабря 1804 года.
Развод вступил в силу 16 декабря 1809 года, после чего император смог сочетаться браком с австрийской принцессой Марией-Луизой, которая в 1811 году родила ему желанного наследника.
Начало сбываться второе предсказание пророчицы, смысл которого Наполеон понял много лет спустя, когда всеми забытый, умирал в заточении на далеком острове Святой Елены. Последнее слово, которое прошептал он перед смертью, как говорили очевидцы, было… «Жозефина…».
Жозефина, сохранившая по настоянию Наполеона титул императрицы, поселилась в оставленном ей по условиям развода Мальмезоне, где жила пышно, окружённая своим прежним двором.
По-прежнему привязанная к Наполеону, с которым они, расставшись, оставались в дружеских отношениях, она переписывалась с императором и с участием следила за его судьбой.
Больше император с гадалкой не встречался, но последнее предсказание ее все же получил через Жозефину Богарне.
В один из осенних вечеров 1810 года императору передали письмо Жозефины:
«Милый Друг! Пишу тебе с тайной мыслью напомнить о себе. В последнее время я все больше с теплотой и печалью вспоминаю о тебе.
Наверное, прошедшие годы, несмотря на то, что мы принесли друг другу немало сердечных мук, были не самыми худшими в нашей жизни.
Я всегда гордилась тобой, твоими делами и поступками и была счастлива, находясь рядом с тобой на вершине твоей славы.
И сейчас я молю бога о твоем величии и благополучии. Сегодня виделась с нашим добрым другом Марией Ленорман.
Так вот, она сказала мне, что конец твоего величия наступит, если ты начнешь войну со „страной варваров“.
Будь осторожен и береги себя, мой Друг!
Любящая тебя Жозефина».Трагическое пророчество Ленорман взбесило Наполеона.
– Шарлатанка! Лжепророчица! Что она возомнила о себе? Что может решать судьбы мира? – кричал он, метаясь по кабинету.
Немного успокоившись, он вызвал маршала Бернадотта и поручил собрать доказательства лживости предсказательницы.
Маршал под видом богатого коммерсанта назначил гадалке встречу, но разговора не получилось.
– Не нужно обманывать меня, Вы не коммерсант, вы один из высших военных чинов империи. Я не буду отвечать на ваши вопросы.
Что касается вас лично, то вам суждено стать королем.
– Во Франции уже есть император, – усмехнулся Бернадотт.
– Не во Франции. В другой стране, – ответила гадалка.
Император приказал выслать Марию Ленорман из Франции. На родину она вернулась уже тогда, когда империя пала.
А через некоторое время на ее имя пришла из Стокгольма посылка: резная шкатулка, в которой было великолепное кольцо с аметистом. На карточке было написано: «От короля Швеции Карла XIV Юхана».
Это был бывший маршал Франции Жан-Батист Бернадотт.
Последний талисман
Наполеон свято верил в охранную силу своего «талисмана». Он никогда не расставался с подаренной ему саблей.
Она была с ним на дипломатических встречах и торжественных церемониях.
Она была с ним, когда Бонапарт переходил Альпы во время второй итальянской кампании, в битве при Маренго, во время австрийской, прусской и польской кампании, под Аустерлицем, где Наполеон сказал свою знаменитую фразу:
«Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном», при заключении Тильзитского мира, по итогам которого Бонапарт был награжден высшей наградой Российской империи – Орденом святого Андрея Первозванного…
Только однажды он чуть не лишился своего талисмана. Это было в небольшой русской деревушке Городня – на берегу речки Городенки в сотне километрах от Москвы, откуда уходила французская армия.
Здесь, в небогатой избе ткача Кирсанова разместился штаб Наполеона в ночь с 12 на 13 октября 1812 года. Вместе с Наполеоном находилась его личная охрана – рота мамлюков под командованием капитана Франсуа Антуана Кирмана.
Ночью Наполеона разбудил взволнованный телохранитель мамлюк Рустам:
– Ваше величество! Русские казаки прорвали фланг. Сейчас они будут здесь!
Наполеону едва хватило времени, чтобы набросить шинель и вскочить на коня. Еще немного и он оказался бы в плену. Через час, когда Наполеон уже находился под прикрытием своих войск, он вдруг резко осадил коня.
– Моя сабля… – хрипло проговорил он: – она осталась там…
Начальник личной охраны всмотрелся в искаженное отчаянием лицо императора, резко повернул лошадь. Прозвучала короткая команда и мамлюки исчезли в снежной круговерти.
Уже под утро капитан Кирман вошел в комнату, где возле ярко горящей печи задумчиво сидел император.
– Ваша сабля, государь, – тихо сказал командир мамлюков.
Глаза Наполеона сверкнули влажным блеском.
– Спасибо, Франсуа! Я этого не забуду… полковник.
В глазах Наполеона снова засияла уверенность.
Еще минуту назад Наполеон вспоминал переданное ему Жозефиной предсказание Марии Ленорман и думал, не совершил ли он ошибку, отмахнувшись от предсказания гадалки. Да нет. Он чувствовал, что удача снова с ним: надо только отбросить полки Кутузова от Малоярославца, выйти на Калужскую дорогу, а дальше богатые южные районы России…
Император тяжело поднялся с неудобного стула, подошел к грубо сколоченному столу и положил руку на ножны сабли.
Но вместо тепла, которое излучала сабля раньше, он почувствовал только холод металла.
Все, талисман потерял свою силу! Ведь Наполеон не просто утратил его. Он его бросил, оставил врагу!
Предсказания «черной» Марии сбылись. Он потерял все.
Что ждет его дальше?
Кончилось тем, что Наполеон русскими штыками заживо вырыл себе могилу и остался после похода в Россию с опустошенной и разочарованной душой, с угасшим верованием в счастье и разрушенными победными грезами.
Казалось, что в течение шестнадцати лет стяжал он огромную славу только для того, чтобы растерять ее в борьбе с Александром.
После битвы под Малоярославцем у Наполеона не осталось никаких сомнений в том, что нужно уходить из этой страшной страны, чтобы сохранить свою честь, достоинство, власть.
Наполеон понимал, что все, происшедшее с ним, это не божественное провидение, это результат его собственных ошибок.
Блестящий полководец и стратег, гроза европейских монархий, с позором бежал из России. При этом, он не проиграл, формально, ни одного крупного сражения во время кампании 1812 года! Император ошибался. И эти ошибки стоили его армии победы, к которой он был очень близок вначале. Что же Бонапарт сделал не так?

Отступление Наполеона.
Еще до начала кампании, когда Наполеон принял решение идти на Москву, его маршалы в один голос отговаривали его.
Почему Бонапарт пошел на Москву, а не на российскую столицу – Петербург?
На этот вопрос он сам по сей день не может дать ответ.
В Петербурге находился царский двор, государственные учреждения, дворцы и поместья высших сановников. В случае приближения неприятельских войск, опасаясь за сохранность имущества, они могли оказать влияние на царя с тем, чтобы он заключил с французским императором мир на невыгодных для России условиях.
Да и просто удобней было идти к Петербургу из Польши, откуда начался французский военный поход.
Дорога с Запада к российской столице была широкой и добротной, не в пример московским.
К тому же по пути в Первопрестольную требовалось преодолеть дремучие брянские леса.
Видимо, он сделал это потому, что европейцы всегда считали подлинной столицей России, ее духовным центром именно древнюю Москву. И желанием Наполеона было нанести удар по России наиболее болезненно.
Похоже, у полководца Бонапарта амбиции преобладали над разумом. Известны его слова: «Если я займу Киев, я возьму Россию за ноги. Если овладею Петербургом, возьму ее за голову. Но если я войду в Москву – поражу Россию в самое сердце».
Наполеон совсем не собирался захватывать Россию. Ему нужно было только мощным ударом в пограничном сражении разгромить Русскую армию и принудить Александра к миру, чтобы поставить Россию в общий ряд сателлитов Французской империи.
У него даже была мысль позднее заключить с русским императором договор и совершить совместный поход в Индию.
Накануне русской кампании Наполеон заявлял Меттерниху (министру иностранных дел Австрийской империи): «Торжество будет уделом более терпеливого. Я открою кампанию переходом через Неман. Закончу я её в Смоленске и Минске. Там я остановлюсь».
Но в ночь с 23 на 24 июня 1812 года, когда Наполеон во главе первого батальона своей Старой гвардии по вновь наведенному мосту перешел на правый берег Немана, он понял, что что-то пошло не так.
Не было развернутой армии, преграждающей ему путь, не было вообще никого, ни единой души, только холмистая, с редкими перелесками земля до самого горизонта, да небольшие казачьи дозоры на дальних холмах, которые время от времени появлялись и снова исчезали.
Разведка доносила, что Великой армии Наполеона противостоят три русские армии, общей численностью, примерно 180 тысяч человек, перекрывающие дороги на север к Петербургу, в центральные губернии и на Киев. Расстояние между ними было около 120 километров.
– Значит, Александр струсил и отказался от сопротивления, – размышлял Наполеон. Это не входило в его планы. Отступление русских армий вглубь России застигло его врасплох, заставив в нерешительности задержаться в Вильно на 18 дней: таких колебаний император раньше никогда не допускал.
Он совсем забыл о «тактике скифов», описанной еще персидским царем Дарием, когда неприятель заманивался вглубь территории, отсекался от всех ресурсов, изматывался многочисленными короткими столкновениями, голодом и непогодой, затем окружался и уничтожался.
Да, Наполеон никогда и не применял эту тактику. За спиной его армии всегда был крепкий тыл стран, насильственно или добровольно присоединенных в качестве союзников, материальные и людские ресурсы.
Александр Первый не хотел войны. Он тут же направил к французскому императору личного посланника генерала Александра Балашова с письмом, в котором просил Наполеона объяснить мотивы «этого нашествия среди полного мира» и предлагал предотвратить войну, если французы возвратятся за Неман.
«Если Наполеон намерен вступить в переговоры, то они сейчас начаться могут с условием одним, но непреложным, то есть, чтобы армия его вышла за границу; в противном же случае государь дает ему слово, докуда хоть один вооруженный француз будет в России, не говорить и не принять ни одного слова о мире».
Бонапарт принял генерала 30 июня в захваченной Вильне.
Он отказался от мира. Но пригласил Балашова на обед вместе с бывшим своим послом в России Коленкуром.
Там Наполеон произнес исторический тост:
«Я пришел, чтобы раз и навсегда покончить с колоссом северных народов. Шпага вынута из ножен. Надо отбросить их в их льды, чтобы в течение 25 лет они не вмешивались в дела цивилизованной Европы.
Прошло то время, когда Екатерина делила Польшу. Заставляла дрожать слабохарактерного Людовика Пятнадцатого в Версале и в то же время устраивала так, что ее превозносили все парижские болтуны. После Эрфурта (город в Пруссии, где в 1808 г Александр I и Наполеон заключили формальный союзный договор), Александр слишком возгордился.
Приобретение Финляндии вскружило ему голову. Если и ему нужны победы, пусть он бьет персов, но пусть не вмешивается в дела Европы. Цивилизация отвергает этих обитателей севера. Европа должна устраиваться без них».
В конце разговора Наполеон иронично спросил Балашова о кратчайшей дороге до Москвы, на что Балашов ответил: «Есть несколько дорог, государь. Одна из них ведёт через Полтаву».
Раз русские армии отступали, у Наполеона не было другого выхода, как только догнать их, заставить объединиться и одним ударом разгромить обе.
До нападения на Россию на его счету было тридцать пять побед и всего три поражения. Эти невиданные успехи вместе с неумеренной лестью, как сторонников, так и врагов породили уверенность в собственной непобедимости, высокомерие, пренебрежение к противнику (чего в первые годы он не допускал, считая ведущей к поражению самоуверенностью) и гордыню.
Именно гордыня стала причиной одной из решающих его ошибок, которой мудро воспользовались оба русских главнокомандующих: в России он продолжал следовать стратегическим принципам, которые раньше неизменно приносили победы.
Но то, что было когда-то его нововведением, его открытием (разделение армии противника и уничтожение её по частям; окончательный разгром во время генерального сражения), стало вполне предсказуемым стандартом. Так что ни для Барклая, ни для Кутузова стратегия Наполеона тайной не была. И они сумели навязать ему свою стратегию: уклонялись от решающего сражения, заманивали всё дальше вглубь России, изматывали внезапными нападениями арьергарда. А он послушно шёл в ловушку…
1-я и 2-я Западные русские армии все же соединились под Смоленском. Произошло первое сражение с Великой армией Наполеона.
Собственно, сражением это назвать сложно: русские сожгли все ценное в городе, уничтожили все запасы и ушли, ограничившись арьергардными боями. Наполеону достались руины.
Наполеону оставались два варианта: или вернуться назад, во Францию, признав кампанию не состоявшейся.
Но тогда что же будет с его славой великого завоевателя?
Как поведут себя подвластные ему государства Европы? Как будут издеваться над ним его недоброжелатели?
Или догонять русских, чтобы все-таки разгромить их. Наполеон выбрал второе.
Гордыня опять взяла верх.
Он все-таки догнал русскую армию в непосредственной близости от Москвы. Правда, ему пришлось перенести некоторые лишения: если уже под Смоленском армия начала испытывать недостаток продовольствия и фуража, то здесь, под Москвой коммуникации были полностью разрушены. Впрочем, Наполеона это мало беспокоило: впереди была Москва – один из богатейших городов мира. До нее оставалось 125 километров.
Утром 6 сентября у села Бородино Наполеон увидел в подзорную трубу сомкнутые ряды русских войск. Первые лучи солнца играли многоцветием белых, голубых и зеленых мундиров.
Еще задумывая военную кампанию против России, Наполеон представлял себе русских как полудикие племена, в беспорядке расселившиеся по территории огромной северной страны.
Только сейчас он понял, что обманывал сам себя. Разве могут быть у полудиких племен такие гениальные полководцы, как Суворов, такие выдающиеся военачальники, как Кутузов.
Разве могут полудикие племена легко ломать сопротивление великолепно подготовленных и обученных полков Французской армии.
Сам Наполеон в сражении под Аустерлицем видел, как кавалергарды, которые, по сути, никогда не участвовали ни в одном сражении, являясь только почетной охраной русского императора, в своих расшитых золотом мундирах, с белыми крестами на груди и в блестящих кирасах, в одно мгновение смяли в кучу легкую кавалерию, которую Наполеон бросил во фланг русского войска. И все-таки Наполеон должен разгромить русскую армию.
Сражение начали французы, ударив из ста орудий по Шевардинскому редуту. Потом, под рокот барабанов, пошла в бой непобедимая Великая армия.
Французы стремились любыми путями смять русские полки, русские стремились любыми путями отстоять свои позиции.
Шевардинский редут несколько раз переходил из рук в руки, из последних сил держалась батарея Раевского, настоящей крепостью стали Багратионовы флеши.
В момент, когда Наполеон понял, что в сражении наступило равновесие, он решил бросить в бой последний резерв – свою Старую гвардию.
Но в это время во фланг и тыл французских войск ударили кавалеристы генерала Уварова и казаки атамана Платова. И Наполеон не стал рисковать своим последним резервом.
Затемно сражение прекратилось. Стороны отошли на свои старые позиции. Позже, вспоминая о Бородино, Наполеон говорил: – В этом сражении французы оказались достойны победы, а русские снова оказались непобежденными.
На следующее утро разведка сообщила: русские позиции пусты. Армия ушла.
Опять ушла! Русские будто издевались над Наполеоном.
14 сентября Наполеон со своими войсками приблизился к Москве. Ему оставалось пройти последнюю возвышенность, прилегающую к Москве и господствующую над ней, это была Поклонная гора. Она называлась так издревле, потому, что каждый, входящий и покидающий Москву, должен был остановиться здесь, перекреститься и поклониться древней столице.
Французский император не спешил въезжать в Москву, он остановился на Поклонной горе и, вооружившись подзорной трубой, рассматривал Первопрестольную. Обилие золотых куполов города произвело на французов сильное впечатление.
Ни одна покоренная столица не поразила их своей красотой так, как Москва!
Стоя на Поклонной горе, Наполеон ждал ключи от Москвы, а также «хлеб-соль», по русскому обычаю. Однако, время шло, а ключей все не было. Офицеры, посланные им в Москву, возвратились ни с чем: «Город совершенно пуст, ваше императорское величество!».
Осознание Наполеоном того факта, что он остался без ключей, что Москва не сдалась ему так, как он хотел бы и как это было в Вене и Берлине, когда власти европейских столиц преподносили ему ключи на «блюдечке с голубой каемочкой», вывело Бонапарта из себя.
Наполеон вошел в Москву, где его войска быстро исчерпали все запасы имевшегося там продовольствия. Это вынудило французские отряды, обеспечивавшие снабжение продовольствием, покрывать все большие расстояния с все большим сопровождением и с все возраставшим риском попасть в засаду.
Однако, настоящая опасность, грозящая императору и его армии гибелью, ждала его впереди. В то время как по Москве разносились звуки «Марсельезы» в воздухе уже пахло гарью.
Постепенно пожары начали возникать в разных частях города, и через несколько дней пылала уже вся Москва.

Пожар в Москве. Наполеона эвакуируют из Кремля в Петровский подъездной дворец.
Сначала загорелся Гостиный двор на Красной площади, напротив Кремля. Потом заполыхало на Солянке и Яузской улице, возле Воспитательного дома, загорелся Винно-Соляной двор, барки с сеном, стоявшие на Москве-реке. На следующий день занялось Замоскворечье. Днем загорелись Китай-город, Покровка и Немецкая слобода, Остоженка, Пречистенка, Арбат, хлебные и артиллерийские склады на Москве-реке, полыхнуло в Каретном ряду. По деревянному городу пожар распространялся стремительно.
Наблюдая за пожаром с Кремлевской стены, Наполеон топал ногами и кричал:
– Что это за народ! Они уничтожают свою столицу! Уничтожают ценности, которые сами создавали столетиями! Что это: священный героизм или дикая глупость? Скифы, вандалы, варвары!
Кремль, где находится император и его Гвардия, солдаты пытались защитить изо всех сил, но тщетно. Наполеона пришлось эвакуировать в Петровский подъездной дворец.
Только сейчас понял Наполеон, куда завела его «тактика скифов» Кутузова.
Было ясно: нужно немедленно уходить из этой проклятой и непонятной страны. Но как?
18 сентября Наполеон направил послание в Петербург, в котором отметил, что почитает Александра по-старому и желал бы заключить мир. Но Наполеон, по-прежнему, намерен был требовать отторжения Литвы, подтверждения блокады и военного союза с Францией. Ответа не последовало. Через два дня Наполеон написал Александру личное письмо, где отказался от всех требований.
На него он тоже не дождался ответа.
4 октября, доведенный до отчаяния французский император, направил своего личного посланника генерала Лористона к Кутузову в Тарутино для пропуска к Александру I с предложением мира:
«Мне нужен мир, он мне нужен абсолютно, во что бы то ни стало, спасите только честь».
Кутузов прочитал письмо, усмехнулся и сказал:
– Война, батенька, только начинается.
За время нахождения в обезлюдевшей и сожженной Первопрестольной Бонапарт потерял не только надежду на почетный мир, но не получил даже жалкого перемирия. Ему оставались только иллюзии.

«Мир во что бы то ни стало». Перед отправкой посланника Лористона к Кутузову. Худ. Верещагин
Наконец-то перед Наполеоном открылась простая, но жестокая истина:
Его армия достаточно большая, чтобы завоевать Россию, но она чересчур, огромная, чтобы обеспечить ее продовольствием и всем необходимым в условиях России. Из Москвы император Франции уходил со 100 тыс. солдат. Из них 20–30 тыс. человек составляли гвардию, на которую император мог полностью положиться. Остальное войско – это обманутые солдаты. Армия буквально на глазах теряла боеспособность и дисциплину. У Наполеона возникла новая мысль: сломить сопротивление русских и выйти на Калужскую дорогу в южные богатые губернии.
Там можно было бы привести в порядок армию, перезимовать, а весной… Он все еще продолжал верить, что успех будет на его стороне, но в душу все глубже и глубже проникала мысль, что фортуна отвернулась от него раз и навсегда.
Это показало первое же крупное сражение под Малоярославцем. Восемь раз город переходил из рук в руки, но дорога на Калугу так и осталась закрытой для французов.
Тогда же Наполеон, впервые за 15 лет своей победоносной карьеры, уклонился от решительного сражения, повернув на опустошенную войной, старую смоленскую дорогу – туда, куда к этому его активно понуждал неприятель.