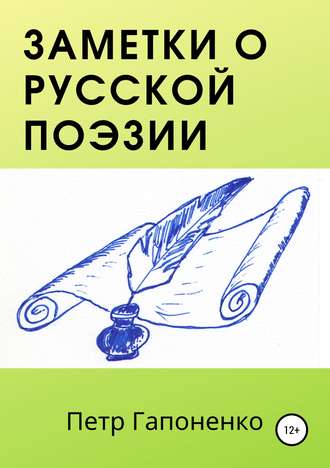 полная версия
полная версияЗаметки о русской поэзии

Перечитывая Пушкина
Перечитываешь Пушкина – и с удивлением замечаешь, как становишься невольным участником непрерывного процесса: постижения искусства, преодолевающего стихийную бесформенность «сырого» словесного материала. Завораживает пушкинская гармоническая уравновешенность «волшебных звуков, чувств и дум», вовлекающая в новые, иной раз неожиданные состояния духа, в особый мир со своими радостями и беспокойствами.
Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.
Что в них особенного, в этих хрестоматийных строках – 1‑й строфе 7‑й главы романа «Евгений Онегин»? Почему они так тревожат душу – и в раннем детстве, и в поздней зрелости? Что за внутренняя сила заключена в них? Сочувственное отношение к природе позволяет поэту создавать запоминающиеся образы.
После Пушкина, сказавшего: «Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года» – мы уже не задумываемся, может ли природа «улыбаться» весне, а вслед за поэтом одухотворяем природу и только удивляемся нестареющим эпитетам и сравнениям («Еще прозрачные, леса / Как будто пухом зеленеют.»).
В четырнадцати строках, пробуждающих в читателе приподнятое чувство весеннего обновления природы, запечатлены целые картины в нарастающей динамике. Подвижность природных состояний (в воздухе, в воде, на земле) привычна для мировосприятия человека, и стихи Пушкина «резонируют» с естественной гармонией.
Время года соотносится здесь с временем суток: весна – «утро года»; в эмоциональной основе этого сравнения – упоение молодостью и надеждой на радостные перемены.
Отличаясь кажущейся минимальностью художественных средств, произведение не выглядит блеклым – высокая пушкинская простота захватывает нас, затрагивая в душах все лучшее, погружая воображение в особый мир поэтических звуков и красок. Каждая строка дышит выразительностью и прелестью.
Первые четыре строки рисуют стремительный бег весны (это передано через краткое страдательное причастие гонимы, глагол сбежали), а полное причастие потопленные вследствие аллитерационного средоточия согласных т, п, т подчеркивает в половодье полноту, завершенность.
И потому интонации следующих пяти строк спокойные, уравновешенные: ключевые образы в них – синеющие небеса и зеленеющие пухом леса. Рядом стоящие лексемы синея, блещут оттеняют торжественную красоту пробуждающейся природы, – нежная акварельная цветопись пейзажа…
Последние строки живописуют зрелую весну; ее приметы переданы через конкретику: пчелу, летящую за «данью полевой», сохнущие и пестреющие долины, шумящие стада, поющего в «безмолвии ночей» соловья. Обратим внимание, как в конце стихотворения нарастает стремительность действия (за счет глаголов летит, сохнут, пестреют, шумят, пел).
Стихотворение построено на реальных деталях, но они таковы, что передают свежесть и неповторимость воскресшей от зимней спячки природы – высшей творческой силы нашего мира. «Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия: никакого наружного блеска, все просто. Все прилично, все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; все лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства…» (Н. В. Гоголь).
Высокая поэзия и … стада («стада шумят»). Художественные открытия Пушкина в отображении природы состоят и в том, что для него не существовало «высоких» и «низких» уровней миросозерцания. Поэт разрушал отжившую и более непродуктивную иерархию высокого и низкого, смело пересматривал границы возможностей поэзии и прозы. Для Пушкина источник поэзии – действительность, жизнь во всем многообразии, в динамическом сплетении высокого и низкого, в их диалектических связях и взаимопереходах. Напомним слова Белинского: «Как истинный художник, Пушкин не нуждался в выборе поэтических предметов для своих произведений, но для него все предметы были равно исполнены поэзии… Что для прежних поэтов было низко, то для Пушкина было благородно; что для них была проза, то для него была поэзия.»
«До Пушкина, – отмечал Н. А. Добролюбов, – отвращение от всякого естественного чувства и верного изображения обыкновенных предметов простиралось до того, что самую природу старались искажать.»
«Обыкновенные предметы» Пушкин возводит в сферы поэзии. Соседствующие в стихотворении «стада» и «соловей» не вызывают ощущения дисгармонии, напротив, органически обогащают картины, дорогие русскому сердцу.
Разнообразие в чередовании рифм (перекрестной, смежной, опоясывающей), ритмический строй речи (стихотворение написано самым «разговорным» размером – любимым Пушкиным четырехстопным ямбом) придают произведению живость, стройность, цельность. Стихотворение приобретает законченность вследствие прочного мужского созвучия заключительного двустишия: «Стада шумят, и соловей / Уж пел в безмолвии ночей.» Афористическая концовка как бы заключает тему, заявленную в первых четырех стихах и развитую в последующих.
Алмазы пушкинской поэзии ничего не утратили при шлифовке временем: ими наслаждались и первые читатели, наслаждаемся и мы, вот уже более полутора веков рассматривая их «сквозь магический кристалл» волшебного имени Пушкин.
Отдельные мотивы шедевра «Гонимы вешними лучами…» приятно узнаваемы в творчестве мастеров поэтического слова.
В стихотворении Ф. И. Тютчева «Еще земли печален вид…» одна из строф является олицетворяющей метафорой, по духу и смыслу родственной пушкинской:
Еще природа не проснулась,
Но сквозь редеющего сна
Весну послышала она
И ей невольно улыбнулась.
В другом стихотворении – «Первый лист» – Тютчев по-своему обыгрывает пушкинский образ прозрачных, как будто пухом зеленеющих лесов:
…Смотри, как листьем молодым
Стоят обвеяны березы,
Воздушной зеленью сквозной,
Полупрозрачною, как дым…
То же – у А. К. Толстого. О только-только покрывшемся листьями лесе сказано: «Юный лес, в зеленый дым одетый…» («Вот уж снег последний в поле тает…»).
А это А. А. Фет: «Сквозной деревьев хоровод / Зеленоватым пышет дымом…» («Пришла, – и тает все вокруг…»).
И Ф. Тютчев, и А. Толстой, и А. Фет каждый по-своему проникновенно воспел вешнее обновление, освобождение от ледяных оков, используя опыт первого поэта России. Разумеется, речь идет не о подражании Пушкину – в конечном счете, стихи рождаются не от стихов, а от ссадин и кровоподтеков, которые оставляет в душе поэта жизнь. Если мы увлечемся контекстами и подтекстами, «интертекстуальными анализами», то рискуем дело жизни (Пушкин: «для звуков жизни не щадить») превратить в простую игру.
Речь, повторим, не об эпигонстве, подражательности, а о другом: о сочувствовании на том же эстетическом и образном уровне, дотянуться до которого – все равно что причаститься блистательной музы Пушкина.
Современному поэту (да и читателю), переживающему экологическое насилие над природой, остается отдыхать душою разве что в чистом пространстве поэзии Пушкина и учиться у него любить Отечество – в каждой травинке и капле росы, в живом плеске вод, в раздолье лугов и хлебных нив, в необозримости лесов и блеске погожих небес…
В заключение уместно напомнить совет известного пушкиниста М. Гершензона: «Всякую содержательную книгу надо читать медленно, особенно медленно надо читать поэтов, и всего медленнее надо из русских писателей читать Пушкина, потому что его короткие строки наиболее содержательны из всего, что написано по-русски. Эту содержательность их может разглядеть только досужий пешеход, который движется медленно и внимательно смотрит кругом. Его глубокие мысли облицованы такой обманчивой ясностью, его очаровательные детали так уравнены вгладь, меткость так естественна и непринужденна, что при беглом чтении их и не заметишь. Но пойдите пешком по Пушкину – какие чудесные цветы у дороги!»
***
Смерть на взлете. Д. В. Веневитинов
Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805—1827) – один из зачинателей философской лирики, современник Е. А. Баратынского и Ф. И. Тютчева. Восемнадцатилетним юношей вступил он в основанное В. Ф. Одоевским Общество любомудрия, в котором возглавлял прогрессивную группу, признававшую необходимость «произвести в России перемену в образе правления». Кружок любомудров изучал немецкую философию, главным образом Шеллинга.
Поиски молодых философов сфокусировались на эстетике, которая, по их мнению, нуждалась в прочной философской основе. Идейные искания любомудров были по существу своеобразной формой бегства от острых общественных противоречий в канун 14 декабря. Наступившая после трагических событий 1825 г. реакция усилила стремление уйти от реальности в мир философских и поэтических идей. Веневитинов, однако, был натурой деятельной. А. И. Герцен отзывался о нем, как о юноше, «полном мечтаний и идей 1825 г.».
Веневитинов сочувствовал декабристскому движению. Осенью 1826 г. его арестовали по подозрению в причастности к тайному обществу, но по отсутствию улик скоро освободили.
Месяца через четыре после ареста Веневитинов внезапно, на двадцать втором году жизни, умер. Современники считали, что причина гибели заключалась в подрыве арестом слабого здоровья и в моральном потрясении. По словам Герцена, «нужен был другой закал, чтобы вынести воздух этой мрачной эпохи… надо было дать вызреть в немом гневе всему, что ложилось на сердце». А «Веневитинов не родился способным к жизни в новой русской атмосфере».
Веневитинов был разносторонне талантлив. В четырнадцать лет читал в подлиннике античных авторов: Софокла, Эсхила и Горация. Плодотворно изучал языки: латинский, греческий, французский, немецкий, английский. Серьезно занимался живописью и музыкой. Был знатоком европейской и античной философии, глубоким и многогранным критиком и филологом.
На него возлагали большие надежды. Но в количественном отношении он успел сделать мало: несколько философских и критических статей и около 50 лирических стихотворений. Его творчество свидетельствует скорее о возможностях, чем о художественных достижениях. Белинский справедливо назвал поэта «прекрасной надеждой, разрушенной смертью».
Творчество Веневитинова падает на самую середину 1820‑х гг. Лирик по преимуществу, он насытил поэзию философским содержанием. В статьях Веневитинов теоретически обосновал философское направление в поэзии. У философии и поэзии, писал он, одни и те же задачи. Цель философии есть «согласие природы с умом». И это «согласие» более всего доступно поэту. В поэзии и через поэзию человек приобщается к природе. Примечательно, что своим друзьям – А. Норову и А. Кошелеву – Веневитинов советовал: «Занимайтесь, друзья мои, один – философией, другой – поэзией, обе приведут вас к той же цели – к чистому наслаждению.»
Преобладающими в поэзии Веневитинова являются мотивы романтического идеализма: воспевание природы, благочестивое преклонение перед искусством, перед личностью поэта и художника. «Поэт» – одно из ключевых стихотворений Веневитинова. Тема «поэт и общество» разрабатывалась в ту пору в сугубо романтическом плане (см., например, программные декларации Кюхельбекера, стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом» Пушкина, «Ты зрел его в кругу большого света» Тютчева). Веневитинов дает также романтическое, «идеальное» решение темы поэта. Его поэт – «сын богов», погруженный в «высокие думы» и «священные тихие сны», резко противостоит простым, земным людям. Это вдохновенный провидец истины.
В том же ключе, что и «Поэт», написано стихотворение «Люби питомца вдохновенья…»:
Люби питомца вдохновенья
И гордый ум пред ним склоняй;
Но в чистой жажде наслажденья
Не каждой арфе слух вверяй,
Не много истинных пророков
С печатью власти на челе,
С дарами выспренних уроков,
С глаголом неба на земле.
Для Веневитинова общение с природой не всем доступно, она открывает свой покров «с таинственного чела» только «избраннику небес», «жрецу искусства» («Поэт и друг»).
Познавая тайны природы, поэт преодолевает трагизм повседневного человеческого существования, забывает «в океане красоты» «обман любви, обман свободы» («Смерть Байрона»).
Подчеркнем, что представление Веневитинова о назначении поэта расходилось с романтическими взглядами других любомудров. Поэт у него, как и у Пушкина, был не только жрецом «чистого искусства», но и олицетворял оппозицию, протест. Тема свободного поэта в условиях последекабристской действительности обречена была звучать не только романтически. Очень живо воспринимался также и мотив «толпы бездушной и пустой», этого мира,
Где взор и вкус разочарован,
Где чувство стынет, ум окован
И где тщеславие – кумир…
Показательно в этом плане стихотворение «Утешение», которое перекликается со знаменитым ответом Пушкину поэта-декабриста А. Одоевского. Веневитинов мечтает о «сильном слове», которое, вырвавшись из груди поэта, «чужую грудь зажжет», в нее «как искра упадет, в ней пробудится пожаром» (ср. «Из искры возгорится пламя» в ответе Пушкину А. Одоевского).
Тема поэта и поэзии проходит красной нитью через всю лирику Веневитинова. Но это не означает тематической однобокости, однообразия. Стихи Веневитинова о дружбе («К друзьям», «К друзьям на Новый год», «К Рожалину», «К Скарятину» и др.), о любви (цикл, посвященный Зинаиде Волконской) содержат идеи, которые выходят за пределы мотивов любви или дружбы. Философская основа этих стихотворений так или иначе связана с темой поэта. Таково, например, стихотворение «Элегия». Оно не укладывается в традиционные рамки жанра любовной элегии. Любимая женщина причастна миру красоты и поэзии. Оттого и любовь поэта отмечена интенсивностью и напряженностью.
В системе идей Веневитинова все неразрывно связано: и любовь, и любимая, и искусство, и Италия – «отчизна красоты». Контекст поэтических и философских взглядов Веневитинова помогает глубже уяснить суть того или иного стихотворения. Справедливо замечание Л. Гинзбург, что для полного понимания каждой отдельной вещи у Веневитинова «читателю необходима перспектива на творчество поэта в целом».
Политические настроения Веневитинова отразились в его гражданских стихотворениях – «Новгород», «Смерть Байрона», «Песнь грека», «Освобождение скальда» и др., идущих от поэзии декабристов, главным образом К. Ф. Рылеева («Думы», «Войнаровский»). Так, образ древнего Новгорода воспринимался поэтом в декабристском освещении как колыбель древнерусской вольности. Веневитинов называет вечевую площадь святым местом и сожалеет о падении новгородской свободы. В «Песне грека» Веневитинов, как и поэты-декабристы, восторженно откликается на греческое восстание 1821 г.
После поражения декабристского восстания в поэзии Веневитинова усиливаются пессимистические настроения, перекликающиеся со стихами Баратынского и в известной мере предваряющие некоторые произведения Лермонтова. Таковы стихотворения «Жизнь», «Жертвоприношение», «К моей богине», «Завещание», «Моему перстню». Поэт приходит к убеждению, что «счастья с пламенной душою нельзя в сем мире сочетать». Единственным разрешением мучительных противоречий ему видится смерть: «Ах, не дрожи: смерть не ужасна, / Ах, не шепчи ты мне про ад: / Верь, ад на свете, друг прекрасный!» О характерности для того времени последней формулы свидетельствует то, что она встречается в незаконченном отрывке Пушкина «В еврейской хижине лампада» («Не смерть, жизнь ужасна»), в стихотворении Тютчева «Malaria» («Люблю сей божий гнев! Люблю сие, незримо / Во всем разлитое, таинственное Зло…»). Эта глубоко личная лирика Веневитинова остро отразила общественный кризис эпохи. Пессимизм поэта был своеобразной формой протеста против действительности, так обманувшей его.
Высоко оценила Веневитинова демократическая критика. Белинский отмечал: «Веневитинов сам собою составил бы школу, если б судьба не пресекла безвременно его прекрасной жизни, обещавшей такое богатое развитие.» Чернышевский писал: «Проживи Веневитинов хотя десятью годами более – он на целые десятки лет двинул бы вперед нашу литературу.»
Для современного читателя стихи Веневитинова остаются живым эстетическим явлением русской культуры.
***
«Мое сердце – родник…» Я. П. Полонский
Яков Петрович Полонский (1819—1898) дебютировал в поэзии двумя сборниками – «Гаммы» (1844) и «Стихотворения 1845 года», благосклонно встреченными критикой и читателями. Белинский отметил в начинающем стихотворце «чистый элемент поэзии».
В середине 50‑х годов ХIХ века вышло большое собрание произведений Полонского, составленное из написанного за пятнадцать лет. Некрасов отозвался на него рецензией, в которой поэт оценивался как «честный и истинный», наделенный «живым пониманием благородных стремлений своего времени».
В гражданско-публицистических и философских стихах 1860—70‑х годов («Признаться, сказать я забыл, господа…», «В мае 1867 г.», «И в праздности горе, и горе в труде…», «В альбом К. Ш…», «Блажен озлобленный поэт…»), Полонский выразил себя как «сын времени», сочувствовавший тому, что совпадало в прогрессивном движении эпохи с идеалами его юности. Общественные беды он ощущал как личные, сочувствуя страдающим, но не поднимаясь до возмущения и негодования. По своему мягкому и добродушному нраву, он не был способен «проклинать» и ненавидеть: «Мне не дал бог бича сатиры… В моей душе проклятий нет», – признавался он в стихотворении «Для немногих».
И. С. Аксакову, автору «жестких, беспощадных» стихов, он пишет: «Ты больше мыслил, я – любил.» Разница между Аксаковым и Полонским в том, что первый изучал «корень общественного зла» «как врач», в то время как второй
…выжал сок его, пил, душу отравляя
И заглушая сердца плач.
«Плач сердца» и неспособность «проклинать» – неотъемлемые свойства души и лиры Полонского, предопределившие особенности его поэтики. Своеобразие своей гражданственности он удачно описал как поэзию «душевной» и «гражданской» тревоги:
Тревоги духа, а не скуку
Делил я с музой молодой.
Я с ней делил неволи бремя —
Наследье мрачной старины,
И жажду пересилить время —
Уйти в пророческие сны.
(«Муза»)
Несмотря на искушения «демона сомненья», он так и не пришел к «последнему ожесточенью…» («К Демону»).
По мере обострения социально-политической борьбы и размежевания творческих и гражданских позиций Полонский не ушел ни в резкость «отрицательного» направления, ни в отрешенную надмирность «чистой» поэзии. В этом смысле он мог бы повторить вслед за А. К. Толстым: «Двух станов не боец, а только гость случайный…» Вот почему подвергся он упрекам Добролюбова и жесткой, несправедливой критике Салтыкова-Щедрина.
Лучшее в творчестве Полонского – несомненно, лирика, которую высоко оценили Тургенев и Страхов, Ап. Григорьев и Фет, Некрасов и Достоевский, Чехов и Бунин.
Тургенев так отзывался о Полонском: «Талант его представляет особенную, ему лишь одному свойственную смесь простодушной грации, свободной образности языка, на котором еще лежит отблеск пушкинского изящества, и какой-то иногда неловкой, но всегда любезной честности и правдивости впечатлений.» В творчестве Полонского он находил то, что не удовлетворяло его в современной поэзии: гармоничное сочетание гражданских настроений с красотой художественной формы.
Ап. Григорьев отмечал особое очарование «в туманном, мечтательном, вечерней или утренней зарею облитом, колорите вдохновений Полонского».
По оценке Бунина, голос поэта «будил в людях лучшие думы и чувства, облагораживал и возвышал всех, у кого есть в душе "искра Божия"».
Подобно Фету, Полонский был новатором в разработке жанров лирической поэзии – романса, песни, элегии. Известно, как много дало его творчество молодому Блоку.
Для понимания индивидуальности поэта интересно его собственное сравнение с Фетом, талант которого – это круг, совершеннейшая, то есть наиболее приятная для глаз форма. Свой талант Полонский уподобляет линии, которая имеет то преимущество перед кругом, что может и тянуться в бесконечность, и изменять направление.
Его стихи, действительно, «тянутся в бесконечность», они способны к расширению и обобщению заложенных в них смыслов, идей. Эту особенность чутко уловил Достоевский. Не случайно в его душе отозвалось одно из замечательных поэтических созданий Полонского 1870‑х годов – психологическая новелла «Колокольчик», которую он ввел в свой роман «Униженные и оскорбленные». Словами героини Наташи Ихменевой говорит сам писатель: «Какие это мучительные стихи <…> Канва одна, и только намечен узор, – вышивай, что хочешь.»
В основе сюжета «Колокольчика» – трагедия несоединившихся судеб, история бедной девушки, брошенной неверным возлюбленным. Поэт намечает только «канву» пережитого в расчете на то, что читатель, применительно к собственной ситуации, дополнит, «дорисует» картину, выведет нечто общее из намека или детали.
«Колокольчик» имеет четкую завязку, отнесенную в прошлое и возникающую через ретроспективный план:
Улеглася метелица… путь озарен…
Ночь глядит миллионами тусклых огней…
Погружай меня в сон, колокольчика звон!
Выноси меня, тройка усталых коней!
Это стихотворение-воспоминание. В нем – мечтательность, сдержанность при неподдельности эмоций, мелодичность. Сюжет – это типично для Полонского – лишен законченности. В финале нет замыкания, исчерпанности темы. Главной лирической эмоцией является пронизывающая каждую строчку тоска одиночества, сожаление об уходящей молодости, о проносящейся вместе с тройкой жизни.
Поэт ничего не навязывает читателю, пользуясь обаянием намека или недосказанности, умея высветить будничную жизненную ситуацию, продлить ее в бесконечную даль, и тогда в самой незавершенности откроется таинственный смысл.
«Колокольчик» по своей ситуации отдаленно напоминает петербургские повести гоголевской школы 1840‑х годов. Показательны в этом отношении также ранние опыты Полонского, в известной степени сближающиеся с его романсной лирикой: «сюжетные» стихотворения, поэтические миниатюры очеркового или новеллистического характера («Встреча», «Зимний путь», «Уже над ельником из-за вершин колючих…», «В гостиной», «Последний разговор»). Интерес к герою «разночинского» слоя, мироощущение которого мотивируется его социальной подавленностью, «мечтательностью» и неприятием светских правил; внимание к обыденной жизни в ее реалиях, деталях быта; насыщенность стиха демократическими идеями и веяниями времени – во всем этом видно воздействие «натуральной школы».
Так, в стихотворении «Встреча» передан комплекс чувств, типичных для демократически настроенной молодежи 1840‑х годов. Герой по первому движению души готов осудить «погибшую» подругу:
О Боже, как она с тех пор переменилась;
В глазах потух огонь, и щеки побледнели.
И долго на нее глядел я молча строго…
Однако внутренняя деликатность героя, понимание того, что в ее падении виноваты обстоятельства жизни, исключают упреки и обиды, уступая место взаимному сочувствию:
Мне руку протянув, бедняжка улыбнулась;
Я говорить хотел – она же ради Бога
Велела мне молчать, и тут же отвернулась,
И брови сдвинула, и выдернула руку,
И молвила: «Прощайте, до свиданья».
«Уже над ельником…», «Последний разговор» – маленькие повести из жизни небогатой интеллигенции – в духе ранних тургеневских повестей.
Многие из этих стихов щедры на бытовые и портретные подробности, передающие психологическое состояние лирического героя:
Пришли и стали тени ночи
На страже у моих дверей!
Смелей глядит мне прямо в очи
Глубокий мрак ее очей;
Над ухом шепчет голос нежный,

