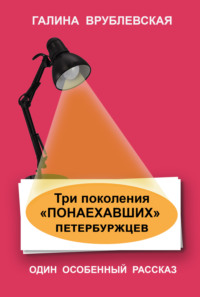Полная версия
Вальс одиноких
Постепенно общее внимание к главному герою ослабело, теперь откровенничали парами-тройками. Обособленность Иветты стала особенно заметной: единственный сосед повернулся к ней спиной. Зато Амосов переходил от группы к группе, одаривая одноклассников толикой внимания. Не обошел он и сидящую на отшибе Иветту.
– Что, Ива, скучаешь? – Владимир присел на пустующий рядом стул.
Иветта растерялась и ничего не ответила. Тогда он задал более традиционный вопрос:
– Как муж? Дети, поди, уже взрослые?
– Школьники, – тихо ответила она.
– Не слышу гордости! – наигранно возмутился Амосов. – А сама как? Где пашешь?
– На обувной фабрике работаю, технологом.
Пока Иветта думала, что бы интересного сообщить о своей работе, Владимир широко улыбнулся и переметнулся к другим ребятам.
«Что ж, хотя бы имя вспомнил», – подбодрила себя Иветта, одновременно понимая, какая она дура: столько лет любить того, кто никогда не думал о ней. Да и о ком думать? По рукам передавалась общая фотография, где она, Иветта, располагалась опять же в крайнем овале-окошке: прилизанные волосы, глуповато-растерянные глаза – такими они становились, когда она снимала очки, – пунцовые угри на лбу. Конечно, на фотографии они незаметны, но Иветте казалось, что все помнят о ее угрях. Она безусловно заблуждалась: каждого в то время занимали собственные прыщи. Сейчас чистой и здоровой коже Иветты могли позавидовать многие одноклассницы. Впрочем, до нее никому не было дела.
Шум за столом нарастал. Теперь, перебивая друг друга, говорили о вещах совсем обыденных. Обсуждали породы собак, осторожно злословили о порядках в государстве, сетовали на низкую зарплату специалистов. Хвастливо упоминали о добытых должностях. И разумеется, судачили о детях, бабушках и дефиците. Обо всем этом можно было говорить в любом месте, не обязательно для этого собираться в школе. Лишь одно печальное событие ненадолго вернуло всех в прошлое: недавно умер их классный руководитель, физик по прозвищу Вольт. Молодой Вольт учил ребят не только премудростям физики. Часто на классном часе он читал стихи, открывая для ребят имена Евтушенко, Рождественского, Вознесенского. Вольта помянули очередной рюмкой, как принято, не чокаясь. Благодаря Вольту Иветта и сама начала писать стихи, хотя так и не решилась их обнародовать. Затем разговор, очертив круг, вернулся к Владимиру Амосову.
Каждая встреча с Амосовым, случайная или запланированная, только расстраивала Иветту Николаевну. Образ, выстроенный в ее душе, рассыпался от соприкосновения с действительностью. В юности она все надеялась, что вот однажды он одумается, прозреет, поймет, какая замечательная она, Иветта, девушка. Что подойдет и скажет: «Как долго я шел к тебе, какой был дурак, что не обращал внимания. Но теперь мы все исправим, еще не поздно». Так она грезила и в восемнадцать, и в двадцать два, когда выходила замуж за другого человека, и даже когда уже родился сын. Но появление на свет дочки отрезвило Иветту. Глупые мечты растворились в мыльной воде огромного таза с пеленками. Постепенно образ Амосова поблек в ее памяти, съежился. Оказалось, что время действительно лечит. Но испытание встречей она не прошла, сейчас ей вновь стало больно. Больно смотреть на того, кто отверг ее когда-то и кто не замечал сейчас. Тем временем Владимир Амосов по просьбе остальных исполнил свой коронный номер: хорошо поставленным голосом с большой экспрессией прочитал стихотворение Есенина «Собаке Качалова», сорвав бурные аплодисменты. Потом в паре с Жанной разыграл какую-то репризу: та выглядела достойной партнершей именитому однокласснику. Вспомнили школьные спектакли, в разговоре всплыли и какие-то проказы, смешные случаи. Иветта тоже вдруг вспомнила эпизод:
– Володечка, помнишь, как нас с тобой выставили из этого самого класса, с урока истории?
Амосов виновато посмотрел на соученицу:
– Хоть убей, Ивочка, не припомню. Да меня редкий день не выгоняли из класса. Однажды чуть из школы не исключили…
И снова воспоминания завертелись вокруг героя класса, не отличавшегося примерным поведением. Иветта незаметно выскользнула из класса. «Никто и не заметит моего отсутствия», – промелькнула у нее грустная мысль.
2
Иветта шла школьным коридором, одинокая и чужая всем. Ощущение своей неуместности на этом вечере усиливалось шумным многолюдьем вокруг. Там и тут стояли группки недавних выпускников, очень юных и очень громких. Доносились обрывки чужих разговоров. Свежеиспеченные студенты торопились похвастаться успехами перед учителями и одноклассниками, каждый воинственно отстаивал свой вуз, искренне считая его самым замечательным и важным. Иветта поднялась на верхний этаж, сама не понимая, почему она все еще здесь, почему не уходит домой. Она точно знала, что больше никогда не вернется в школу, это уж точно. И потому хотелось в последний раз пройти ее коридорами, взглянуть на знакомые кабинеты. Иветта приоткрывала одну, другую двери. Картина в кабинете ботаники заставила ее, забыв о приличии, задержаться у щели. Три бабушки и один дед склонились над классной фотографией, с ее помощью объясняя друг другу, кто они такие. Тыча пальцами в потускневшие изображения, они доказывали свою общность с девочками и мальчиками из далекого прошлого. Возможно, каждый из них не мог взять в толк: почему так изменились другие, если я остался почти прежним. Иветта тихо прикрыла дверь и пошла дальше. Вот как выглядит общение самых старых выпускников: они даже не узнают друг друга! Нет, Иветта попрощается со школой сегодня!
У кабинета физики она остановилась. Сказали, их Вольт работал почти до последнего дня жизни, хотя неизлечимая болезнь давно подтачивала его изнутри. Минувшим летом он принимал выпускные экзамены. Как жаль… Никаких голосов из кабинета слышно не было. Иветта приоткрыла дверь: в классе было темно, только отдаленный уличный фонарь бросал молочно-голубоватый свет в крайнее окно. Иветта на ощупь добралась до второй парты в колонке у двери. Это было ее место. Физика в школе с театральным уклоном давалась в минимальном объеме, но ребята, как ни странно, любили этот предмет. Вольт был учитель от бога. Все, о чем он говорил, было интересно и ново. Нашумевший кинофильм, книжная новинка, песни популярных бардов – все преломлялось в сознании ребят через взгляд Вольта. И все они были благодарны ему впоследствии. Он возбудил в них заряд любознательности – так электричество возбуждало старинное колесо, по-прежнему стоящее на учительском столе. Его металлические пластины тускло отражали блики уличного фонаря. Глаза Иветты уже привыкли к полутьме. Она приблизилась к колесу и крутанула ручку. Несколько синих искорок выскочило ей навстречу.
– Браво, браво! – откуда-то с последней парты прозвучал странный голос: то ли низкий женский, то ли высокий мужской.
Обернувшись, Иветта увидела женщину с длинными, спадающими на плечи волосами, но, приглядевшись, поняла свою ошибку. Пиджак с широкими плечами и темнеющая полоска галстука на белом треугольнике рубашки принадлежали явно мужчине.
– Извините, я думала, что одна здесь, – оправдываясь, отозвалась она. – Вы тоже в этом классе учились?
– Мы все учились понемногу чему-нибудь и где-нибудь, – перефразировал незнакомец Пушкина.
Иветта Николаевна спохватилась, что находиться в темном классе с незнакомым мужчиной не очень прилично, и, пошарив по стене, нащупала выключатель. Свет вспыхнул неожиданно и ярко, будто заработало в полную мощь, брызнув искрами, доисторическое колесо.
Иветта увидела, что ее собеседник совсем молод, возможно студент, вчерашний школьник.
– Давайте знакомиться, раз наши души прильнули к одному месту, – привстал «студент». – Глеб.
– Иветта… Николаевна.
– Вы какого года выпуска? – спросил Глеб.
Иветта назвала год. Глеб присвистнул:
– А я-то считал, что у меня дата солидная! Пять лет, как последний звонок отзвучал.
– Что же вы, Глеб, уединились, оставили своих товарищей?
– Я мог бы спросить вас о том же, Иветта Николаевна.
Лицо Глеба оказалось узким и сильно удлиненным. Пепельно-серые волосы, закрывающие уши и шею, лишь отчасти маскировали неправильную форму лица. Но большие выразительные глаза с темными, расширенными зрачками смотрели на Иветту с грустью и пониманием. Глаза были старше их владельца. Такие глаза располагали собеседника к откровенности.
– Видите ли, Глеб, у нас был замечательный физик, Вольт мы его звали. К сожалению, он недавно скончался. Вот я и зашла сюда, понимаете? Вы, случайно, у него не учились?
– Случайно учился. Вольт даже был нашим классным руководителем. Не знаю, как в ваше время, а у нас он и литератора замещал, неформально, разумеется. Знакомил нас с теми поэтами, которых не было в программе: с Ахматовой, Бродским. Теперь ведь его имя на Западе гремит, а у нас не печатают.
Собеседник заинтересовал Иветту. Может, он и сам поэт? И, как положено поэту, размышлял в уединении пустого класса. Иветта уважительно посмотрела на юношу:
– А вы, Глеб, тоже поэт?
– Нет, скорее художник.
– Студент?
– В студенты еще пробиться надо. Посещаю подготовительные курсы при Академии художеств.
– Там, наверно, конкурс страшный, с первого раза трудно пройти? – деликатно поинтересовалась Иветта.
– Да. Многие год за годом поступают, но я еще не пробовал, – признался Глеб и охотно поведал свою историю.
Оказалось, после школы Глеб умудрился поступить на физический факультет в университет, однако вскоре понял, что ошибся в выборе, и махнул рукой на учебу. После отчисления попал в армию. Благодаря какой-то пустяковой болезни его признали ограниченно годным, так что служба прошла спокойно, в канцелярии военкомата. Там он наловчился делать стенгазеты и вообще приохотился к краскам. Теперь вот постигает основы рисунка и живописи на курсах. На следующий год будет поступать в академию или Муху – еще не решил.
И снова Глеб удивил Иветту: выпускник театральных классов поступает на физический факультет.
– Зачем же вы пришли в эту школу? Не разумнее ли было выбрать математические классы, если вы собирались точные науки штурмовать?
Глеб смущенно подергал себя за ухо, но потом раскололся:
– Была причина, и очень веская. Почему-то мне кажется, Иветта Николаевна, что вы меня поймете. Я учился в этой школе с первого класса, жил-то неподалеку. А к девятому, когда надо было выбирать профиль, я еще не определился толком. И было тут еще одно обстоятельство… В детстве я был трудноуправляем: и сам ребят часто задирал, и мне от них доставалось. Одним словом, трудный ребенок. Но за восемь лет ко мне привыкли, да и я стал поспокойнее. Я же не со зла бузил, все искал правду, добивался истины. Мне повезло: в седьмом классе я попал к Вольту, и тот из меня начал человека делать. А позднее сестре посоветовал не забирать меня из школы. Сестра посчитала, что игра в школьных спектаклях приобщит меня к литературе. Она сама профессиональный литератор, а я к книгам равнодушен в ту пору был. А Вольт пообещал со мной дополнительно по физике заниматься. Я под его влиянием в предмет влюбился, потому и на физфак пошел.
– А почему ваши дела решала сестра?
– Она меня с десяти лет воспитывает, тогда родителей не стало.
– Вижу, человек вы непростой. С таким характером в армии, наверно, нелегко пришлось?
– Всякое было, даже вспоминать неохота. Но за битого, как говорится, двух небитых дают. В школе я слыл чудаком – физик в театральном классе. А тут еще и физиком не стал… Ребята все институты пооканчивали, некоторые женились, а я – никто.
– Почему никто? Вы – мужчина, отслужили армию. Теперь обнаружили в себе художественный дар. Поверьте, о вас еще заговорят.
Иветта почувствовала в Глебе родственную душу – он тоже был не понят бывшими одноклассниками. Приободренный Глеб разоткровенничался:
– Вы меня понимаете, Иветта Николаевна. Я действительно изменился, армия прибавила мне уверенности. Разве иначе я решился бы профессионально заняться живописью? А одноклассники меня не то за шута, не то за убогого держат. Снова подначки пошли, шпильки… Хотелось с ними о жизни поговорить, ведь теперь многое видится иначе. Но ребята не видят меня настоящего, я для них не изменился.
– Знаете, Глеб, – высказала пришедшую ей на ум догадку Иветта. – Может, дело не в одноклассниках, а в нас самих. Мы, попадая в эти стены, залезаем в старые шкуры. Меня, честно вам скажу, тоже в классе не жаловали. Не задирали, а просто не замечали. И представляете, сегодня – та же история: я как была серой мышкой в десятом классе, так ею для одноклассников и осталась.
– Шутите! Вы же красивая женщина! У вас такие выразительные глаза. Это я вам как художник говорю.
Глаза Иветты и впрямь вспыхнули и обдали Глеба мягкой волной нежности. От смущения она, не зная, чем занять руки, стала наглухо застегивать платье.
Глеб оживился:
– Иветта Николаевна, вы не согласились бы мне позировать для поясного портрета? Я сейчас тему человека прохожу на курсах. Из вас выйдет замечательная модель!
– Это интересно: посмотреть на себя глазами художника, – улыбнулась Иветта, – но у меня совсем нет времени. Я инженер, весь день на фабрике, да еще семья. У меня двое детей.
– Двое детей? – поскучнел Глеб. – Ну, как хотите. Но если надумаете – вот телефончик, звоните.
Глеб вырвал из записной книжки листок и черкнул несколько цифр.
«Глеб Четвергов», – прочитала Иветта, убирая записку в сумочку.
Они поговорили еще немного, и каждый получил ту порцию внимания и уважения к себе, которой был лишен в среде одноклассников. Потом вышли из класса, и Иветта заторопилась домой.
– Вы больше не вернетесь к своим? – поинтересовался Глеб.
– Нет, Глеб, побегу к деткам. Их без меня в постель не загнать.
– Приятно было пообщаться, Иветта Николаевна. Благодаря вам я кое-что понял: люди видят нас такими, какими мы сами себя ощущаем. И теперь я чувствую себя иначе. Пойду-ка докажу ребятам, что Глеб Четвергов больше не клоун.
3
Понедельник начался для Иветты Николаевны чередой привычных забот. Впечатления от школьного вечера потускнели, и сухая встреча с Владимиром уже не расстраивала. Его как не было в жизни Иветты, так и нет. А знакомство с Глебом подвело итог: кончилось время ее любви. Первоклассники, которые дарили ей цветы на выпускном вечере, уже стали взрослыми людьми! Почему-то это соображение даже успокоило ее и придало ощущение свободы – свободы от новых влюбленностей и разочарований.
Шумное взбалмошное утро задавало привычный, ускоренный темп. Дети, как всегда, капризничали, исподтишка дразнясь, когда мать отворачивалась к плите, и хором ябедничая друг на друга, когда она пыталась их приструнить. Отец в разборки не вмешивался. Он сосредоточенно наворачивал обжаренные картофелины, сдабривая их крепкими груздями собственного засола.
– Эх, зря закуска пропадает, – крякнул он, заглатывая очередной гриб. Это была дежурная шутка: Валентин не прочь был пропустить при случае рюмку-другую и поговорить о водочке любил. – Ну ладно, я пошел, – бросил он через некоторое время и, не дожидаясь ответа, хлопнул дверью.
Когда-то Иветту обижало, что Валентин не ездит на работу вместе с ней. Они работали на одной фабрике, правда в разных отделах, и их рабочий день начинался в разное время. У Валентина – на полчаса позже, и он предпочитал отдать их сну. В этом году Иветта оформила сдвиг рабочего графика, но выбраться из цейтнота удавалось с трудом – приходилось вести детей в школу. И опять Валентину было сподручнее ездить одному. Правда, вечером ребят с группы продленного дня забирал он, а Иветта спешила готовить ужин.
Каждое утро взвинчивало Иветту. После школы предстояло штурмовать троллейбус. Он ходил редко, но точно по расписанию, и сегодня она опять не успела на «свой». Водитель видел бегущую Иветту, однако с садистским удовольствием захлопнул дверь перед ее носом. Значит, выговора не избежать…
Начальник ее экспериментальной лаборатории, Георгий Андронович Бузыкин, представлял собой гибрид тирана и труса – терроризировал подчиненных и пресмыкался перед начальством. Он возглавлял лабораторию почти год, но Иветта Николаевна никак не могла подстроиться под его требования. Выглядел Бузыкин старообразно: несколько приглаженных седых прядей на розовой макушке, мохнатые «брежневские» брови, темный костюм в едва заметную полоску, твердый, как картонная упаковка. Статью Бузыкин не вышел – однако, коротконогий и низкорослый, он умудрялся смотреть на подчиненных сверху вниз. Бузыкин перевелся на фабрику из НИИ, где за много лет работы так и не смог защитить диссертацию, а потому рассчитывать на хорошую должность был не вправе. Однако он имел связи, потому и получил тепленькое местечко на фабрике. Своим обликом и поведением он опровергал представление Иветты о научном работнике: ни интеллигентного обхождения, ни проблеска мысли, ни демократичности во взглядах. Лишь одно качество Бузыкин вынес из стен института – умение о любом предмете говорить долго и не сказать ничего. Лаборатория под его началом напоминала ветряную мельницу, не подключенную к генератору: ни четкого направления работы, ни сроков, ни конкретного выхода. Общая задача – повышение качества обувных изделий – распылялась начальником на академические вопросики, исследуемые им в диссертации. Работу над ней он под сурдинку продолжал и на фабрике. Иветту удивляло, что старик еще пытается вымучить научную степень. Однако в действительности до пенсии Георгию Андроновичу было еще далеко – в отделе готовились к его пятидесятилетию.
Иветте поручили сочинить стихотворное поздравление. Ее способности выплыли случайно: раньше от каждого сотрудника требовалось сочинить две-четыре строки, посвященные очередному имениннику. В неявном конкурсе строки Иветты неизменно были изящнее других. В итоге ей единогласно присудили звание лабораторного поэта, а сочинение поздравлений превратилось в общественную нагрузку.
Когда подошел следующий троллейбус, у Иветты родилась первая строка: «Трудно поверить, что Вам пятьдесят!» Затем, уже в салоне, прижатая к заднему стеклу, Иветта стала жонглировать словами дальше. Алгоритм поздравлений был известен. Любого юбиляра было принято считать молодым, изумляться неумолимым датам, затем сообщать об успехах виновника торжества, желать побед в труде и счастья в личной жизни.
В лабораторию Иветта Николаевна опоздала на четверть часа. Начальник, выгороженный стеклянной клеткой при входе в помещение, многозначительно постучал пальцем по циферблату наручных часов и грозовым голосом произнес:
– Иветта Николаевна, почему у меня на столе до сих пор нет сетевого графика техпроцесса? Прошу написать докладную!
Таким жестким, официальным тоном он всегда говорил с Иветтой в присутствии коллектива. Вздумай она сейчас оправдываться, вполне мог бы грянуть гром. Начальник на примере каждого воспитывал и запугивал всех. А между тем два дня назад в частном разговоре Георгий Андронович даже похвалил Иветту за злополучный график. Но выполненное задание, очевидно, не соответствовало представлениям дирекции о техпроцессе, а поперек вышестоящего мнения Бузыкин никогда не шел. Жертвой противоречий между директором и начальником лаборатории становились рядовые сотрудники. О том, что надо сделать иначе, Иветта узнала лишь сейчас, но промолчала. В начале правления Бузыкина было время, когда она пыталась напоминать начальнику его же слова. Но однажды он обрушил на ее голову крики и брань, а потом схватился за сердце и с мученическим видом застонал. Иветта испугалась и мгновенно со всем согласилась. Именно этого эффекта аморальный начальник и добивался; трудно было поверить в серьезность его страданий, ибо подобные приступы проходили на удивление быстро. Иветта поняла: спорить – себе дороже. Она старалась помнить об этом.
Иветта села за стол. Место хорошо просматривалось с командного пункта, поэтому она взяла в руки черновик графика, чтобы создать впечатление, будто думает о работе. Она кипела от обиды и возмущения. Старый пень, ни черта не разбирается в производстве, да и в науке не шибко, а строит из себя… Почему он позволяет себе так хамить подчиненным?
Не в силах сосредоточиться на графике, Иветта резко чиркнула по нему карандашом, сломав грифель. Она прошла в дальний угол зала, где за шкафами размещался опытный стенд. Лаборантка Светочка растягивала в механическом аппарате кусочек свиной кожи, а затем измеряла степень ее возврата в исходное состояние. Иветта присела рядом и присоединилась к опытам. Тут же к ним подошел третий сотрудник лаборатории, Водорезов, с сочувствием улыбнулся Иветте, мол, не горюй, знаем мы этого психа, и сделал несколько дельных замечаний. К Иветте вернулось утраченное равновесие.
Что ни говори, с коллективом ей повезло. Их крепко спаянная тройка понимала друг друга с полуслова. По сути, именно Водорезов руководил работой группы, начальник был им совсем не нужен. Однако тот руководил и приписанными к лаборатории измерителями – те работали непосредственно в цехах. Когда все подчиненные собирались на профсоюзные собрания, стулья приходилось занимать у соседей. Эти сборища были звездным часом Бузыкина. Половина аудитории засыпала, склонив голову на грудь, но пафос начальника только крепчал. Реакция слушателей его интересовала мало, он видел только себя.
Незаметно подступила середина дня, после звонка на обед Водорезов и Светочка поспешили в столовую. Там, в многолюдном зале, протекал их невинный служебный роман. Для Светочки он был не первым, и все с интересом ожидали, когда под ее натиском падет добрый семьянин Водорезов. Иветта с легкой завистью посмотрела вслед уходящей паре. Подруг на работе она так и не завела. Обедать с Валентином? Они и дома не могли найти общего языка. Чтобы избежать нудных очередей в столовой, Иветта перекусывала на рабочем месте. И так получалось – в компании Бузыкина. Но в последнее время она стала подумывать об общепите. Георгий Андронович бессовестно отбирал у Иветты законные минуты отдыха, занимая их бесконечными разговорами, ей совершенно ненужными.
Трудно приноровиться к человеку, чье поведение зависит от настроения: никогда не знаешь, чего ждать в ближайший момент. Бузыкин был опасен для окружающих не только в минуты гнева. Пока закипал общественный чайник, Георгий Андронович начал беседу. Присел у чайного столика, пристроенного рядом с вешалкой, и задал Иветте провоцирующий вопрос:
– Веточка, ты ничего не хочешь мне сказать?
Он часто ошарашивал Иветту непонятными вопросами или заявлениями. Иногда высказывания звучали совсем туманно: «Думается мне, что контрапункт вашего нахмуренного лобика в инверсии с антагонистом, когда резонанс созвучий преобразуется в свою противоположность…» Иветта теряла нить его рассуждений, и ее охватывало раздражение, но начальник ничего не замечал. Вообще, в его арсенале было много средств поражения – чередование «ты» и «вы» в обращении к сотрудникам, высокопарные непонятные слова, глубокие протяжные вздохи. Никогда нельзя было предвидеть, чем поразит Бузыкин на этот раз: выговором или видимостью дружеского участия.
И сейчас Иветта неуверенно ответила:
– Я поменяла в сетевом графике вторую позицию, объединила две операции на конвейере, так что…
Но Бузыкин ее оборвал:
– Как успехи у детей? Радуют мамочку пятерками?
Иветта уже поняла, что, как бы она ни ответила на этот в общем-то дежурный вопрос, далее разговор пойдет по накатанному руслу мнимой эрудиции начальника. Он будет рассуждать об отвлеченных материях: космосе, геополитике и иже с ними. Закипел чайник, но остановить словоизвержение Бузыкина было невозможно. Иветта, не чувствуя вкуса, жевала бутерброд с сыром. Хотелось одного: избавиться от сверлящей, непрерывной речи начальника, каким-то сверхъестественным образом разъедающей душу. Тот, кто не подвергался атаке энергетического вампира, не поймет ее состояния.
Иветта прошла с чашкой к своему рабочему столу, открыла «Иностранную литературу» и, прихлебывая чай, уткнулась в страницы. Это была безнадежная попытка отгородиться от агрессора: повесть о кубинских революционерах не перебила кошмар въедливого голоса. Только закончив трапезу, Бузыкин прекратил монолог. Вот он вышел из комнаты – до конца обеденного перерыва будет играть в шашки в соседнем отделе. В комнате стало тихо и приятно. Читать Иветте расхотелось. Эти блаженные минуты покоя были для нее самыми счастливыми за весь день.
Иветта заложила руки за голову и потянулась. Запыленные стекла будто просветлели от выглянувшего солнца. Заводская труба одиноко и независимо тянулась вверх тоненьким прутиком громоотвода. Но все попытки были тщетны, не оторваться ей от земли… Иветта встала из-за стола и провальсировала к окну, взмахивая руками, словно птица крыльями. Синхронно с ее движениями задышала и труба, выпустив в осеннее небо несколько клубов серого дыма. Иветта тоже выдохнула, и вместе с отработанным легкими воздухом растаяли тяготы перешагнувшего через точку зенита дня.