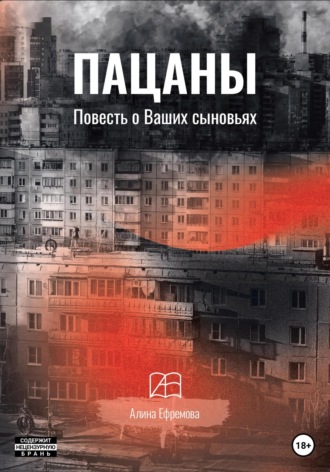
Полная версия
Пацаны. Повесть о Ваших сыновьях
– Да? Типа все помирятся?
– Да нет. Нет такого прямо – «война и мир» ха-ха-ха. Дело не в этом. Просто, если ты говно сделал – должен заплатить. Сам подумай, если бы все друг другу всё припоминали, то никто бы не общался. Вообще! Понимаешь?))) Люди ж все из одного говна сделаны. Бывает… – Ваня развёл руками.–Ладно, братка, я домой. На созвоне завтра! – весело заключил Вано, пожал мне руку, и чуть вприпрыжку направился в сторону своего подъезда. Я как дурак стоял, улыбался и смотрел ему вслед. Не знаю почему, но тогда мне очень радостно было от мысли, что он сказал «завтра», а значит, завтра я снова пойду с ними гулять.
***
Ранчо…Я весь вечер ржал, вспоминая это слово. Ковбои чёртовы))). Мне не давала покоя история с Олегом, я всё прокручивал в голове Ванин рассказ, ковыряя за столом бабушкин суп с сосисками. Человек кидает тебя раз, другой, третий, а ты продолжаешь общаться с ним. Зачем? Пережиток советского общества? Коммуна, община? Брат за брата? «Они живут по доисторическим принципам», – размышлял я.
Там, где я «дозревал» как личность, царствовал индивидуализм. Человек – индивид; его свобода, его достижения, его личная выгода – вот что имело ценность. Там есть жизненный набор, позволяющий дышать ровно: частная собственность, свобода слова и вероисповедания, безопасность, радость потребления – всё это обеспечено мощной защитой государственного аппарата, стеной стоящего за спиной человека. Тут же, дома, государство никогда не стояло на стороне личности, а скорее – ей противопоставлялось, и потому человек искал другую опору. Для выживания необходима была сплочённость. Общинный строй давал пацанам чувство защищённости.
«Ну мы же не бабы, – говорили они, – чтобы поссориться из-за какой-то фигни на всю жизнь. Брат есть брат. Братские отношения превыше жизненной мишуры!» Нерушимый идеал не кровного родства. Случись что Олегом, вроде как и не «братом», но парнем с твоей территории, то все пацаны пошли бы не задумываясь за него. Пусть вчера сами его били. «Каменный век, ей-богу!» – думал я тогда, не отдавая себе отчёта в том, что это нравится мне на каком-то очень глубоком, подсознательном уровне, на котором я определял себя не как личность, а как мужчина – участник стаи самцов, грезящий стать вожаком.
* * *
Моё противостояние продлилось недолго. На следующий же день я впервые накурился. Первые минуты на меня будто упала бетонная глыба. Потом ощущения стали растягиваться как приторный детский «Орбит», стремительно теряющий вкус и твердеющий от слюны. Время замедлилось. Секунды обернулись минутами. Звуки стали громче. Мельчайшее дуновение ветерка оставляло рябь по всему телу. В словах говоривших я слышал то, что в обычном состоянии невозможно уловить: их истинные намерения, заключённые в малейших переменах интонации, мимики и взглядов. Мысли путались и цеплялись одна за другую, уводя меня вглубь совершенно безумных размышлений.
Я плохо помню обстоятельства, при которых это случилось, но помню, что потом мы пошли в пустеющий во время летних каникул сквер университета, недалеко от моего дома.
Я был абсолютно потерян, пацаны подтрунивали надо мной, но я не мог не то что ответить, а даже толком разобрать, что они говорили. В ушах звенело. Всё происходившее вокруг обретало огромное значение: каждый жест, каждое слово, каждый наш шаг сопровождались сотнями моих мыслей. Точно я прозрел, получив наконец возможность увидеть действительность под другим углом, и угол этот раскрывал мельчайшие детали реальности, которые раньше я бы даже и не заметил.
Солнце, заигрывающее с ветром, путалось в молодой июньской листве, и мысль об этом приводила меня в восторг. Я видел, как старые бетонные плитки, которыми была вымощена территория сквера, местами потрескались, раскололись или вовсе отсутствовали. Через несколько лет на их место ляжет замысловатый узор гранита, скрывающий в своих тонких щелях миллионы ушедших в небытие рублей, но тогда лежал битый бетон, и его несовершенство очаровывало меня. Неаккуратно растущая трава придавала скверу заброшенный вид, уносящий в размышления о времени, что властно над всем: над архитектурой, над державами, империями. Над знанием. Над жизнью.
Такой непричёсанный парк. Дикорастущие пучки травы промеж кладки и бордюрных плит. Некошеный бурьян под высокими тополями, пух – вездесущая пыль – сбился в комки на стыке бордюрных плит с землёй. Шум шоссе, наполнявший сквер, переливался через высокую ограду и путался в кустарнике. Тёплое вечернее июньское солнце. Всё это было так красиво. Я не мог найти слов. Я думал о том, что никогда ничего подобного не увидел бы в вылизанной Англии, где в каждом метре ощущается присутствие человека, уничтожившее настоящее течение жизни, необузданность природы и неотвратимость времени.
Мы посидели, потупили, пошли за пивом, пацаны взяли мне две бутылки, я начал жадно глотать холодный хмель и наконец почувствовал, как потихоньку разваливается навалившаяся бетонная глыба. Меня отпускало. Я возвращался в сознание, получая власть над своими разбегающимися мыслями. Пацаны по-прежнему стебались надо мной, но в их подколах чувствовалась зависть к тому, что я впервые испытывал эти ощущения. Их же только «поправило», как они выражались. «Ну вот и поправило», – произносил всякий, выдохнув остатки сизого дыма из лёгких.
– Америкос, пойдёшь рисовать? – спросил Захар.
– Чего? – не понял я.
– Чего, чего… Рисовать.
– В смысле – рисовать? Чего рисовать?
– Бля, ну ты в натуре тупой, пи***ц. Акварелью ё*т! – затянул он.
Заха был человеком, самоутверждающимся за счёт других. Такому человеку, как он, только покажи слабое место – сразу вцепится. Для битья он всегда выбирал кого-то слабее (или умнее). Того, кто не станет ему возражать. И никогда не выбирал тех, кто мог бы быть ему полезен (причём смотрел он на сто шагов вперёд). С «полезным» человеком он сближался, долго его окучивал, братался, быстро входил в круг близких людей и с такой же лёгкостью выкидывал человека после использования, скатываясь на откровенную грубость, высокомерие и вечные неприятные подстёбки (он всегда был чрезмерно груб, но не терпел грубости в свой адрес). В итоге «жертва» сама от него отворачивалась, а Заха на публике лишь пожимал плечами, безразлично сообщая: «Да чегой-то он сливается».
Почти каждый из тусы ни по одному разу прошёл по кругу от Захиной милости в немилость и обратно. Захар виртуозно жонглировал понятием «друг» и «брат», руководствуясь лишь своей, жадной до наживы, логикой. Многие пацаны робели и искали его снисхождения, никогда не говоря ему ни слова против, отмалчивались, вынося всё безропотно, ожидали перемены Захиного настроения. А настроение его требовало вымещать на ком-то агрессию, из-за чего он раз за разом находил очередного козла отпущения, пару недель делал его жизнь крайне неприятной, а потом подпускал к себе, чему тот и был несказанно рад.
Ко мне же Захар с самого начала нашего знакомства (и почему-то неизменно) был благосклонен. Во-первых, он не знал, чего от меня ожидать. Во-вторых, я только приехал из Британии, а значит был потенциальным источником бабла и полезных знакомств. В-третьих, он знал, что в ближайшее время я буду центром всех событий, и он, привыкший быть в центре внимания, не мог позволить себе оставаться в тени. В-четвёртых, меня привёл Вано, а Вано был один из немногих, с кем Заха никогда не борзел. Вано и Саша. С Сашей всё было ясно – он был морально сильнее Захи, и потому они не приятельствовали, но всегда чувствовалось Захино уважение. К тому же – Саня всегда был при бабле, а перед такими людьми Заха попросту лебезил. А Вано… Да Вано просто был человек такой доброй и открытой души, что даже у Захара никогда не находилось слов на него наехать.
Я так кудряво рассказываю о нём, будто всё это было ясно, как белый день. На деле же, мне потребовалось время, чтобы разгадать его натуру. Заха был хитрым. Прекрасным актёром. Искусен во вранье и притворстве. Лесть была ещё большим оружием, чем моральное давление. И, чтобы услышать эту лесть, которая была пряником после кнута, многие сами набивались к нему в друзья.
Мне, слава богу, не пришлось. Несмотря на то, что я просёк Захину натуру и в принципе готов был с ней бороться, в душе я всё-таки стряхивал со лба пот облегчения, радуясь, что не слышу его нападок. «Бомбить, братан, – дружественно сказал Вано, хлопнув меня по плечу, – граффитосы рисовать»…
***
В эту ночь моя жизнь вновь перевернулась с ног на голову. Любому мальчику, юноше, мужчине нужно быть частью стаи. Бывают и одиночки, но таких мало. Мы хотим принадлежать узкому сообществу, бороться за положение в нём, грезим стать вожаками и повести сообщество своею дорогой. Это у нас в крови. Иногда мужчина находится не в волчьей стае, а в стаде овечек. Бывает, он жаждет принадлежности, но нигде не находит себе места. Так было со мной.
В школе я был слишком умён, чтобы общаться с хулиганами, которые казались мне тогда откровенно тупыми, и слишком горяч кровью, чтобы довольствоваться обществом зубрил, не видящих ничего дальше монитора. Духу быть одиночкой у меня не хватало, поэтому все школьные годы я чувствовал себя потерянным.
В ту ночь меня посвятили в стаю. И я ликовал. Душа моя делала тройное сальто-мортале от радости при мысли о том, что я нашёл своё место. Как сейчас помню: вбежал я на свой седьмой этаж, проскакивая по три ступеньки одним шагом, остановился как вкопанный, на пятом пролёте, уставившись на солнце, поднявшееся над панельками, сам себе улыбнулся, преодолел ещё один пролёт и трясущимися от радости руками еле попал ключом в замочную скважину. А потом долго не мог заснуть, вертелся в кровати, смакуя воспоминания о прошедшем дне.
Мы договорились встретиться после заката в «нашей беседке». Большой деревянной шестиугольной беседке стоявшей на отшибе леса – где заканчивается жилой массив и начинается институтский сквер. Чуть поодаль от пешеходной дорожки она стояла, спрятанная в тени деревьев, овитая диким виноградом, такая наша и такая уютная: со скамейками по периметру и удобным столиком для карт и выпивки по центру.
Вано зашёл за мной, привёл на место встречи. Он был одет в чёрный спортивный костюм и чёрные кроссовки. В руках держал чёрный пакет из плотного полиэтилена с узором из косых тонких золотистых полосок. «Чего это у тебя?», – кивнул я. «Краски», – коротко и по-заговорщически тихо ответил Ваня.
Вано был не просто главным, но, по сути, единственным райтером, втянувшим в своё ремесло всех наших пацанов. То, что остальные и рядом не стояли, мне стало понятно в первую же ночь, но Ваня будто совершенно этого не замечал, стараясь привлечь всех в дело или помочь тем, кто неумело рисовал рядом с ним. Он был настоящим уличным художником, делал всё ловко, быстро, видно было, что имел набитую руку и своё видение. Оказалось, что состоит в какой-то продвинутой граффити-команде, но своих родных ребят не забывает.
«У меня одна стеночка на примете, – сказал он пацанам, – перекрыть Фарму надо. Это в трёх остановках отсюда». Мы сели на один из последних автобусов, совершенно пустой, ехавший в сторону центра, чтобы забрать у метро последнюю партию уставших горожан, развернуться и развести их по району, тянущемуся вдоль шоссе до самой столичной границы.
Вышли на освещённую высокими фонарями обочину и скрылись в тени дворов, огибая безликие многоэтажки, плотно запаркованные машины, тёмно-зелёные навесы над мусорными баками и ограды детский площадок, пока не упёрлись в свежевыкрашенный белой краской куб трансформаторной будки. На одном из его боков красовалось явно недавнее, яркое граффити.
– Это не наш район, – сказал мне тихо Ваня, – но, видишь, тут свеженький кусок Формеса. Этот чувак приезжает к нам на район и перекрывает все мои куски. Настал и его черёд!))
– А кто этот Формес? – спросил я.
– Да в том-то и дело, брат, что мы не знаем. Но как встретим, набьём морду однозначно.
– Вообще, – вклинился в наш шёпот Заха, – на этом районе училась бывшая тёлочка Дэнчика. Так вот есть подозрения, что это её старший брат. По крайней мере – они единственные местные, кто тусует на нашем районе.
– Ладно, хорош языком чесать, давайте по-бырику.
Ваня единолично закрасил имя Формеса своим псевдонимом, разобрать который было довольно сложно. Часть пацанов стояла на стрёме по обеим сторонам дороги, часть молча наблюдала. После того, как он закончил, пацаны налетели на пакет, похватали баллоны и начали рисовать на прилегающей стене куба свои клички и какие-то надписи. Не слишком умело. Видно было, что линии контура дрожали, рисунки к концу суживались или, наоборот, становились слишком большими. Цвета не сочетались. В общем, их работы выглядели очень неуверенно, но они были в полном восторге от процесса.
Закончив, мы двинули в сторону остановки, по пути пацаны оставляли маркерами замысловатые каракули, объясняя мне суть своих «творческих псевдонимов». Габо, Бизе, Мелкий, Бездарь, Саунд – чего только не выдумали они. Вернувшись на район, мы пошли к школе, где я тогда встретил Ваню, перелезли через забор и начали «заливать» школьную стену, но через несколько минут послышался вопль, и мы увидели приближающийся силуэт дяди Толи, бегущего к нам. В высоко поднятой руке он держал какую-то ровную палку (видать, черенок от швабры), его качало из одной стороны дороги в другую, так пьян он был, но мы всё равно бросились бежать (больше из уважения к его персоне), громко смеясь. Прыжок – и я на заборе. Прыжок – я уже на дороге. Два прыжка – и я в черноте леса. Ловкость никогда не была моим вторым именем, и я безумно гордился собой за откуда-то появившуюся прыть.
Вано успокоился лишь спустя несколько дней, когда ему удалось ближе к ночи выцепить охранника на крыльце и набухать его пузырём водки, припрятанным в тот же пакет с золотыми полосками, где были краски. Когда охранник засопел на кушетке (пацаны буквально на руках сами отнесли его в каптёрку), мы быстренько закончили начатое.
– Блин, а вы не думаете, что охранник поймёт, кто нарисовал? – спросил я.
– Кто, Толик? Не смеши! Он каждый раз нас как впервые видит. Мало того, что он контуженный, так ещё и пропил весь мозг, не соображает ничего. Забей, брат, даже если и поймёт, что он сделает? Где доказательства?
– А камеры, Вань?
– Да мы когда пошли его относить, выключили всё. Так что всё схвачено))).
– Ого, да это целая операция))).
– Ну так, конечно! – Ваня хлопнул меня по плечу. – Ты вообще не представляешь, чего мы проворачивали. Это так, понты, мы и на крыши забирались в самом центре Москвы, и на объекты охраняемые, и прямо на Садовом на мостах куски заливали.
– С пацанами?
– Не, не с нашими. Там, с корешами моими, с которыми я рисую. У нас типа команда. И, кстати, довольно известная в кругах граффити! – он с усмешкой поднял брови и пожал плечами, словно извиняясь за хвастовство. – С пацанами я так, на местности рисую. Тренируюсь, так сказать. Хочу приобщить их к культуре. Это ведь культура целая, понимаешь? Со своими фишками и правилами. Например, самое почётное – это рисовать напанельках («поездах» – пояснил он сразу, увидев мой озадаченный взгляд), ну и вообще – чем сложнее объект, тем ты круче. Я всё хочу пацанов подбить забраться в местное депо. Это уже уровень, понимаешь?
Так мы и дошли до дома под его вдохновлённую болтовню о граффити.
Подружки
«Это Ася, Марго, Дима», – поочерёдно представил мне Вано только подошедших к бревну ребят. «О, вот это уже интересно», – подумалось мне.
– Понимаете, херня в том, что они вроде как бабы, а вроде как друзья. То есть с ними вообще не варик. Обидно даже! – заливал мне позже вечером Дима, когда вся компания, с час без дела прошатавшись по ранчо, оказалась наконец на школьном стадионе, освещённом высокими яркими прожекторами.
– Ага, друзья с пё**ами, – поддержал Захар.
– А вы тогда подруги с х**ми, – со смехом ответила Ася.
– Ой, от вас много толку! – вскинула бровь Марго. Тоже мне, женихи, как с козла молока!
– А чем мы тебе не женихи? – встрял в разговор Саня.
– Тем, что вы придурки.
– И чего же ты тогда с нами тусишь?
– Хз…вы угарчики, – пожала плечами Марго, они с Асей переглянулись и громко заржали чему-то, одним им известному.
Ася и Марго. Вспоминаю о них, и на сердце моём расцветает весна. Весной в Москве всё звенит: капли о жестяной козырёк, тонкие извилистые ручейки талой воды. Цепь, заземляющая троллейбус, отходящий от остановки, бьётся переливом о наконец подсохший асфальт, а не смесь талого снега и грязи. Звон смеха наших девчонок.
Во всех районных тусовочках были бабы, но наши – самые красивые. Не чета нам. Поступили в приличные универы, у обеих обеспеченные родители, и главное – никому из нас не давали. Районные девки – все либо пацанки, либо давалки, а Ася и Марго – недостижимый идеал, непонятно за какие такие заслуги оказавшийся рядом с нами. Сами они говорили, что так, как с пацанами, весело им не было ни с кем. «Вы просто угары!» – восклицала Марго, заливаясь смехом над очередными нелепыми историями, которые случались с завидным постоянством.
С расцветающей весной районная жизнь закипала пуще прежнего, и девочки всё чаще тусовались с пацанами, предпочитая их общество и простор дворов прокуренным клубам и заутреням в ресторанах, набивших оскомину за долгую зиму.
В ресторан их везли мужики, жаждущие свежей плоти да горячего супа (непонятно, чего больше хочется в пьяное утро, но очевидно, что если бы первого, повезли бы явно не в ресторан). Ася с Марго с радостью составляли им компанию, весело щебеча всё утро, располагая кавалеров непринуждённостью, присущей только самому юному, наивному возрасту, а потом бочком сливались, пока официант не принёс счёт, и кавалеры, наевшись жирненького и горяченького, не перешли бы к требованиям расплатиться за веселье. Натурой, как водится.
Далее: до дома на попутках (не было же тогда денег на столь доступное теперь такси), продолжение тусы на какой-нибудь хате, где зависали пацаны, и возвращение домой за полдень.
– Ну, как переночевали у Аси?
– Хорошо, мам.
В компанию их привёл Димас, самый закадычный друган Вано. Мне он никогда особо не нравился: смазливое личико, фраерская причёсочка, начищенные до блеска ботиночки, свитерочки с треугольным вырезом – эдакий маменькин сынок (на деле – совсем наоборот). Единственный из парней, кто часто покидал пределы района, и кого девочки иногда брали с собой на ночные кутежи в клубы Москвы, заведомо жертвуя бесплатными коктейлями и завтраками в ресторанах. «Кстати, его частенько принимают за гея. И что он? Подыгрывает, конечно!)))» – тихо рассказывала мне Ася как-то раз. Дима был их «подружкой», и дружба эта была настоящей, тянущейся ниточкой из самого детства.
Такие, как он, обычно, выбираются из районного болота сразу по окончании школы, поступая в университет. Но это не случай Димаса. Вообще, три слова могли бы его охарактеризовать. Слащавый. Культурный. Расп**яй. Из всей тусы он имел наибольший потенциал чего-то достичь и меньше всех прикладывал к этому усилие. Лень была пороком, который он в себе искренне ненавидел, но совершенно не мог его в себе искоренить. Лень было. Он честно пытался изменить свою жизнь и очень страстно всех уверял, что в этот раз у него получится, но раз за разом его запала хватало не больше, чем на неделю.
Так, к двадцати пяти годам он: был не допущен в десятый класс (одноклассники Марго, Ася и даже Ваня с Захаром остались до одиннадцатого), кое-как закончил экстернат, не поступил, год ничего не делал, поступил в вуз на платное, отучился год, вылетел, отслужил в армии, поработал на пятнадцати работах, на каждой не задерживался дольше двух месяцев, через маму попал на неплохую государственную службу, где платили стабильные копейки, не требуя при этом умственных затрат, что тоже наскучило ему через полтора года, и он собственноручно подписался под программу сокращения, после которой ему выплатили приличную сумму, растянутую им ещё на год безделья.
Впрочем, последнее, конечно, случилось намного позже описываемых мною событий, но является, однако неотъемлемой частью его портрета.
Мать съехала от Димы к своему мужику после того, как узнала, что сын откровенно прогуливал университет и, как следствие, вылетел после первой же сессии. Вместо того, чтобы апеллировать, переводиться или идти работать, Дима с той самой злополучной зимней сессии всё лежал дома на своём маленьком стареньком диване, покуривал с друзьями сигаретки в подъезде да побухивал на выходных. Последней каплей в чаше терпения матери стал случай, произошедший в мае, как раз накануне моего прибытия домой.
К Димасу заскочил Захар, тоже не допущенный до сессии (правда, уже летней) и поставленный на отчисление. Он тогда задумал зарядить ректору и начал приторговывать на районе дурью, которая, естественно, была у него с собой. Димас с Захой раскурились прямо на балконе, пока мамка была в квартире, и, учуяв с кухни странный запашок, пришла поглядеть, что творится в комнате. Они не заметили, как она подошла к стеклопакету балконной двери и с ужасом и недоумением с минуту глядела на из развлечение.
Захар тут же ретировался. Между матерью и сыном разгорелся скандал. Крик. Пощёчина. Сбор вещей. «Так ты ещё и наркотики употребляешь! Это же ужас просто! Никакого уважения! Дима! Ни-ка-ко-го! Я устала! Тебя уже поздно воспитывать, живи как хочешь, я только за квартиру буду платить!»–губы матери дрожали, в глазах стояли слёзы, голос истерически дрожал, хотя она была из тех женщин, что обычно умудряются сохранять спокойствие при общении с отпрысками и мужчинами.
Развернулась, хлопнула дверью. Дима смотрел в глазок, как она дожидается лифта, теребя в руках бежевый шёлковый платок. Кровь прилила к его лицу, хотелось заплакать, выбежать к ней, вцепиться в ногу, как когда-то, когда он был маленьким мальчиком и не скрывал своих чувств. «Ну и пофиг» – заключил он, закурил сигарету в коридоре и пошёл в её спальню, распластавшись на большой двуспальной кровати, выдыхая дым прямо в потолок, и долго-долго лежал так, прокручивая в голове всё произошедшее.
Так он остался один в двушке с хорошим ремонтом на окраине Москвы.
Димас думал, мама погорячилась и вернётся через несколько дней, однако настрой её был серьёзный, два раза ещё она приезжала за своими вещами и привозила продукты, после чего приезжать перестала, общаться стали больше по телефону, видеться на нейтральной территории, и делами его она с завидным упорством не интересовалась.
– Ты вообще как себя чувствуешь? – спрашивали его пацаны.
– Ой, да нормально я себя чувствую, чего вы при**ались?
Но это, конечно, было обманом. Деньги, которые она оставила на первое время, быстро закончились, и Дима просил приходящих к нему ребят купить ему сметаны, масла и буханку белого хлеба – делать гренки, запивая водой из-под крана. Девчонки таскали из дома вкусности, помогали убираться и делились с ним сигаретами в обмен на то, что двери его квартиры всегда были для них открыты, можно было зависать там по вечерам и бухать перед клубом каждую пятницу. Когда дела стали совсем плохи, после недолгих размышлений Димас не нашёл ничего лучше, чем сдать свою квартиру.
– Дим, ты что, серьёзно? – со смехом спросила Ася, когда он озвучил нам свою идею. – Ты реально хочешь так сделать?
– Не, ну а чё, деньги будут, а делать ничего не надо.
– И как ты планируешь жить с чужим человеком?
– Я сдам им свою комнату с балконом, а сам буду тусить в маминой. У нас же не проходная.
– Ах-ха-ха, это так мило! Блин, ну ты даёшь! – смеялась Марго. – Чисто в твоём стиле! Ты бы лучше работу нашёл!
– Да я найду… Просто, что мне делать? Официантом идти с хачами работать? Или курьером за копейки?
– Блин, а помириться с матерью и пойти учиться – не вариант?
– Ну начина-а-а-ется. Нет, не вариант! – отрезал Димас и через неделю нашёл по сети молодую пару из Иваново, лет под двадцать пять, решивших перебраться в Москву.
Девки тогда поржали над ним, не поверив, что он и вправду кого-то подселит, пока не завалились к нему и сами не увидели несколько лишних пар обуви.
«Заваливайтесь», – радушно пригласил Дима, отворив тяжёлую, обшитую изнутри коричневой кожей металлическую дверь, со множеством замочных скважин, через некоторые из которых можно было подглядеть за жизнью квартиры номер 199.
– Ди-и-им, ты что, серьёзно? Это чьё? Что за фигня? – спросила Марго, указывая кивком на обувь.
– А, это квартирантов, – небрежно бросил Димас через плечо, удаляясь на кухню с буханкой свежего хлеба, сыром, маслом и молоком в полиэтиленовом пакете, принесённом девочками.
– КвартирантОВ? – переспросила Ася.
– Да, Аня и Паша. Парень с тёлкой. Из Иваново.
Девки начали давиться смешками:
– Дим, ну ты даёшь! Ты что, их на материной кровати разместил?
– Бл*, ну нет, конечно. У себя. А сам у неё.
У матери: в большой комнате с навесным потолком, регулировкой света, кондиционером, большой двуспальной кроватью с чугунными завитушками у изголовья и фисташковым бархатным покрывалом, в тон чуть более светлым стенам. У себя: в комнате, которая всё никак не могла повзрослеть, навсегда оставшись детской любимого сына. Компьютерный стол, заваленный барахлом ещё со школьных времён, какие-то медальки, грамоты, небольшая односпальная тахта, фотки маленького Димы; она хранила в себе трепет материнского сердца, не способного признать, что мальчик стал мужчиной.



