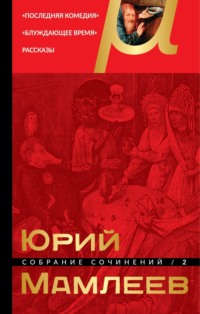Полная версия
Империя духа
Впрочем, видимо, это было причудливое совпадение.
Но всё же сущностное молчание его кончилось. Именно поэтому одна наша вечеринка на даче в Болшево так врезалась мне в сознание. Постараюсь восстановить в деталях, как было, тем более, свои «дневниковые» заметки.
Солин приехал раньше всех, один, сказав, что Вика приедет чуть позже. Я хотел умилить его хорошим чаем из Индии, за столом в саду, но он вдруг отозвал меня куда-то в сторону под старое дерево, словно оно могло подслушать его откровения. Криво улыбнувшись, он поведал мне про себя. На самом деле всё оказалось серьёзным и необычным. За свою жизнь Солин прошёл много кружков и метафизических увлечений, не брезгуя даже оккультизмом.
– Но всё это само собой не то чтобы исчезло, но как-то притупилось, поблекло… Все мои, так сказать, увлечения и практики – для тебя не новость, Саша, – сказал он.
– Но почему поблекло?
И он объяснил: с тех пор как стали возникать, редко, но периодически, простые, но странные явления. В сознание, в центр, стал падать некий луч, тихий, до безумия отдалённый – от всего того, что известно в духовной Традиции и описано там. Ничего неописуемого, ничего божественного, насколько божественное или его проявления известны гуру, святым, пророкам и т. д.
Разумеется, никаких видений, ничего болезненного или разрушающего. Просто на какие-то мгновения луч – откуда-то из такой запредельности, о которой ничего сказать невозможно, даже в смысле неописуемости и т. д. Просто знак, что, помимо всего того, что известно в религиях и метафизике, есть такое запредельное, которое не имеет ко всему перечисленному никакого отношения. Луч как знак того, что такая запредельность существует.
– Что ты скажешь? – спросил, наконец, Солин.
– Всегда есть вероятность невозможного, – ответил я. – Странно. Но с таким лучом шутить нельзя.
– Он не несёт ничего угрожающего. Лишь знак о запредельном. После этого я как-то притих в плане моих духовных исканий. Они стали для меня какими-то неопределённо-бесконечными. Всё, что было тайной и молчанием, стало обыденным.
Я вздохнул.
– Не преувеличивай. Неведомый луч – сам по себе, а то, что мы называем высшей реальностью – само по себе.
Он кивнул головой.
Откровенно говоря, я был поражён. Солин всегда отличался глубинностью, и в адвайта-веданте тоже. И если он интерпретировал всё верно, то… Но за чаем я его утвердил.
– Женя, – сказал я, – самое главное – это собственное спасение, точнее, освобождение, реализация своего вечного начала… Если ты не бессмертен, так сказать, точнее, не вечен, то всё падает в пропасть, в том числе и твой луч. Личная вечность, неуничтожимость должна быть гарантирована. А после – хоть танец абсолютно невозможного. А до этого ничто, даже невозможное, не должно сбивать нас с толку. Знать об этом луче можно, но не влезать туда…
Он вяло согласился.
Пришла Вика, весёлая, щебечущая, лихая. Беспокойно взглянув на Солина, она потребовала водки. Рюмашку, конечно.
В этот вечер тьма была какая-то просветлённая. Деревья в саду выделялись, как живые – вот-вот задвигаются и будут бродить по участку. Наконец, подъехала долгожданная машина во главе с Сугробовым. Гранов и Соня моя сидели позади. Денис ещё прихватил с собой свою молоденькую двоюродную сестру, студентку. Она была также знакомая Сугробова. Звали её Рита. Родители наши с Соней отсутствовали. И решили всем остаться на ночь на даче. Где-то недалеко когда-то жила Цветаева.
Постараюсь описать, даже в скрытых чертах, этот слегка безумный вечер.
Расселись мы в саду под деревьями, за удобным столиком, кругом зелень, словно ограждающая нас от шума и грохота мира сего.
И сразу стало уютно и добродушно. Душа в душу. Покой и ласка. И водка, вино, к тому же, хорошие. Но примерно через часок нарушили всё крики соседей. Вышли взглянуть. Оказалось, на нашей улице, на противоположной стороне, где-то на углу, пожар. Горит дача, причём весьма богатая. Заглянули с улицы, дико кошмарное пламя охватило участок, слава Богу, довольно далеко от нас. Языки огня с жадной настойчивостью рвались в небо, точно стремясь и его поджечь. Дым точно поглощал воздух. Хлопотали пожарные. Собаки выли так, будто всему собачьему миру пришла смерть.
Особенно бесилась соседская собака, злобная, смелая и жестокая, она не выла в страхе – рычала на бедствие. Я заметил, что месяц назад нашли труп недалеко от нас, на углу. Загрызла человека собака. Чья – неизвестно, но, на мой взгляд, это соседская, она иногда как-то вырывается на улицу, и тогда берегись тот, кто жив.
Пожар, шум и вой не утихали. Мы плюнули на всё и вернулись обратно – отдыхать.
Выпили, конечно, слегка, и Денис попросил слова.
– Когда даже чуть-чуть выпьешь – внутренней цензуры нет, – заявил он и пошёл в следующем духе:
– Друзья, – начал он. – Я, кстати, прекрасно зная английский язык, много путешествовал, побывал даже в Бразилии. Видел мир, и снаружи, и изнутри, со стороны человеческих душ. Да и стоящими книгами об истории мира сего баловался. И моё заключение: мы живём в больном, сумасшедшем мире, который по концентрации зла почти не имеет себе равных среди других миров. Я, конечно, исключаю ад. Короткая жизнь, смерть, болезни, бесконечная кровь и войны, трупы, самоуничтожения, духовная тупость, следовательно, обречённость после смерти, перманентные катастрофы, болезни, ненависть, вечное насилие и страх, страх, постоянный крадущийся всесильный страх, заползающий в души человеческие и порабощающий их.
– Может, хватит? – вмешался Сугробов.
Денис же впал в какую-то мистическую ярость, и его уже невозможно было остановить. Лицо его как-то изменилось, по выражению, по крайней мере, и в глазах проявилась скрывающаяся затаённость.
– Всё правильно, – только повторял Солин.
Наконец, Денис закончил:
– Только за огромные грехи в прошлом бытии можно получить такое наказание как попадание в этот мир, рождение в нём. Мы с вами, господа, как и другие на этой планете, – преступники, жутковатые преступники, наказанные рождением здесь.
Это уже было слишком. Такой накат вызвал протест, хаотичный, но твёрдый. Рита, молоденькая, так та прямо-таки завизжала, протестуя.
– А к тебе, Риточка, у меня вопрос, – прервал её вдруг Денис. – Почему с самого начала, как только мы сели за стол, ещё до пожара, у тебя всё время слегка, но заметно, дрожали руки?…А, молчишь… Ты ведь у друзей… Так в чём же дело?! А я тебе скажу: внутренний страх, вечный, онтологический страх простого смертного… Ты только чересчур чувствительна, и у тебя это выходит наружу…. То-то…
И он, налив рюмку, продолжил:
– Ты, Миша, – обратился он к Сугробову, – извини меня… Моя сестра – чудесная, прекрасная…
– Преступница, – мрачно брякнул Сугробов.
– Да, ладно… Мы все… Предлагаю выпить за Риту…
За Риту-то мы выпили по предложению Дениса Гранова, так сказать, но его речь зацепила.
А Денис опять в какой-то мистической отключённости бормотал, словно он выпал из другого мира:
– Так не может быть, не должно быть, как здесь… Это космическая патология, эта планета… Где я? – он развёл руками. – Где мы? Куда мы попали?.. Что это вокруг?
Наконец, я не выдержал. Вика тем более впала в настоящую истерику; хлебнув полстакана водки, она причитала:
– Да это настоящая мирофобия… Вот к чему мы придём… Как можно так рычать на весь мир!
– Денис, – начал я. – Послушайте, вы, дорогуша, крайне односторонни. Всё это так, но кроме… Кроме есть жизнь, бытие, бытие и в аду радость, а здесь, здесь – такое благо быть… Вы что? И наслаждений хватает, на худой конец… Фифти-фифти, как говорят. Но главное, в этом диком, носорожьем мире человеку дана возможность переделать свою низшую природу и стать бессмертным, подобно богам, и даже больше… Ведь в Богочеловеке, во Христе изначально до его воплощения на земле соединился Бог с человеческой душой… Это что-то значит или нет?!.. Я уже не говорю о том, что он, придя сюда, принёс себя в жертву…
Это был мощный контрудар. Я продолжил ещё немного, но вмешался ещё и Сугробов:
– Денис, это ведь падший период. Надо терпеть. Но именно в такую отчаянную эру в род человеческий могут быть брошены самые таинственные эзотерические откровения…
Солин оживился и кивнул головой, предложил выпить за самое, на первый взгляд, безумное.
– Получится, как в теорфизике – безумные идеи побеждают. Хорошо бы так и в жизни, по крайней мере, у нас в России, России духа, я уточняю.
Денис, помню, резко прервал, и его речь меня удивила:
– Ваша Россия раздавлена под пятой мрака современного мира.
И проговорил ещё что-то крутое в этом смысле. И в том смысле, что нам уже не прийти в себя, не воспрянуть, а другим и подавно.
Такие речи и смыслы вызвали такой же резкий отпор. Даже Соня, которая всё время молчала, высказалась довольно определённо. В том отношении, что Россия – непредсказуемая, она сметает все свои временные неудачи, и её дух не зависит от демиургов мира сего. И он не может быть сломлен ни здесь, ни тем более в других мирах.
Вот такая оказалась моя Соня, некогда бедная девочка, трепетавшая от страха перед смертью, а теперь – смотрю ей в глаза и улыбаюсь: какая уж тут смерть!
Но все эти наши высокие и ужасные порывы остановила Рита.
– Ребята, пока вы тут метафизичничаете, – сказала она тихо, и её голос внушил доверие, – кто-то там сгорел или горит в этом соседнем доме… Кот или человек – почти всё равно…
– Царство им всем небесное, – вмешалась Вика. – Надо взглянуть, всё же, что там… А тут птички щебечут, соловьи поют, белки скачут – хоть бы что… Дыму нет, и слава Богу…
– Почему ж собака соседская перестала выть? – спросил кто-то, не помню, кто.
– Отравили, наверняка, – ответила Вика.
Мы потихоньку встали и пошли выглянуть. Открыли калитку. Смотрим – пожара, вроде бы, нет. У нашей калитки стоит соседка, Надя, из противоположной дачи.
– Ну, что? – спрашиваем.
– Дом сгорел. Пожарные последнее тушат. Хозяин тоже сгорел. Отличный был мужик, богатый очень, вор, крупный вор… но сгорел, пьяный был.
– А семья?
– У него баба была. Красивая. Модель. Но ушла от него к тому, кто ещё побогаче. Говорят, рыб любил ловить из аквариума и есть… Для развлечения, что ли…
– А дети?
– А кто их знает? – добродушно ответила Надя. – Я не в курсе. Ничего, найдутся люди добрые или Бог приберёт…
Она перекрестилась и прибавила, уходя, что собака погорельца сбежала, а охранник был пьян, но не сгорел…
И, хохотнув, закончила:
– А заказчик огня – конкурент какой-нибудь оголтелый, а поджёг сам охранник, это, наверняка, исполнил он…
Потом донеслось от Нади ещё какое-то крепкое словцо, и она удалялась и удалялась.
Прошёл мимо ещё один человек, мужичок, скромный такой.
– Пожар! – слегка истерично напомнила ему Вика.
Мужичок пожал плечами.
– Раз есть на белом свете огонь, значит, гореть будем… Куда мы денемся?..
Вика вздохнула, и мы все вернулись в сад, чтобы к ночи пить чай, а не водку. Поставили самовар, нашлись пряники, баранки, варенье, всё как положено.
Но покой на душе из-за чая и духовные воспоминания о царской России («Какую страну мы потеряли!» – вздыхал Миша Сугробов) не смогли предотвратить страх и боль за настоящее.
– Когда этот мрак кончится? – вдруг спросила Вика, и с этого началось.
Но я быстро восстановил равновесие:
– Вспомнили бы не о девяностых годах, а о семнадцатом годе. Пришли твердолобые, как скала, обезумевшие от крови фанатики, комиссары. И что от них осталось? Ушли комиссары, уйдут и эти… Накипь девяностых годов, уголовники, полууголовники, обезумевшие не от крови, а от наживы. Которым наплевать на людей, на страну, даже свою презренную жизнь отдадут за деньги… И потом – одна дорога, сами знаете, куда… Они обречены…
– Уйдут-то они, уйдут, – возражал Солин, всегда довольный Викой, даже её истериками. – Но, прежде чем уйти, такое наворотят… И комиссары ушли, но не без следа и жути…
В заключение, у последней чашки чая, Сугробов убедил всех:
– Кто бы ни приходил, а внутри себя Россия остаётся Россией. И никто её не сдвинет против себя, против своей сути… Даже оккупация.
Последнее, правда, вызывало сомнение.
– Поверженная страна – это уже другая страна. И то же – поверженный народ, – так, кажется, среагировал Солин.
И Вика, продолжая, подхватила:
– Нас всё время хотят уничтожить. Я знаю, история, слава Богу, – моя профессия. Но не удастся, любая их агрессия оборачивается их гибелью. «Прикосновение – смерть», – как писал Волошин. Даже оплаченные революции не помогли: это обернулось братанием и крушением империи, у них в Германии после Первой мировой войны.
Вика продолжала дальше, довольно мастерски, подчёркивая, что на Россию всегда нападали тогда, когда считали её слабой, до того, как она могла бы перевооружиться.
Всё это было очевидным, но она говорила с такой страстью и приводя такие исторические детали, которые далеко не всем были известны, что её заслушались.
Это выглядело как мастер-класс, погружение в скрытые, не всем ясные изгибы истории.
Для Риты такое оказалось подлинным откровением. Бедняжка мало знала о собственной истории.
– Теперь понятно, почему мы всегда так нелегко жили, – растерянно проговорила она. – Сколько ресурсов и сил уходило на оборону… Приходилось защищаться порой от всего западного мира в целом… Одна страна…
– Но здесь, в этом саду, – тихо рассмеялась Соня, – никакой другой мир нас не тронет….В том числе и накипь внутри страны… Если есть уже сейчас очаги России духа, и их надо издавать, то мы не погибнем. Нас не завоюют, не разложат изнутри страны, не заселят и не вытеснят пришлые народы (так, как погибли римляне, к примеру). Потому что, если будет Россия духа, высшие силы сберегут нас. Для этого достаточно не так уж много людей.
Она закончила так же тихо, как начала, и была тишина. Наступала ночь, и её шелесты напоминали о непредсказуемом. И хрупкая, точно пришедшая со звёзд, фигура Сони, она сама, её шёпот и молчание, говорили сами за себя. Чайный вечер прошёл в замирании. Все, конечно, остались ночевать в нашем доме.
…Утром всё было спокойно. Простыл и след пожара. Деревья – неподвижные существа – дышали собственной радостью. Я встал рано, и следом за мной Сугробов. И мы с Мишей уселись на террасе выпить кофеёчку.
И тогда он впервые так открыто и осознанно заговорил о Соне. Правда, и без этого было видно, что он как-то влюблён, что ли, в неё. Кстати, после смерти жены он вёл, конечно, довольно свободную жизнь, но о сыне, Алёше, заботился, любил, хотя он больше пребывал в надёжных руках бабушки. Алёшу этого я тогда ещё не видел, но когда увидел…
Вместо того чтобы просветлеть, Миша помрачнел, когда стал говорить о Соне.
– Вот что, Сашка, – сказал он, – твоя сестра – напрямик из Серебряного века.
– Не совсем, – поправил я.
– Пусть не совсем. Она меня своей душой, своим присутствием очаровала и околдовала. Кто она? Откуда? Это какая-то магия! Ты сам-то хорош, но она…
– Но она женщина, замужем, не забудь.
– Да я боюсь к ней прикоснуться. В том-то и волшебство. Да, она – женщина двадцать первого века, не тургеневская девушка из дворянской усадьбы, чёрт возьми… И в то же время… откуда этот странный покой, эта отрешённость? Не монашеская, нет, это какая-то высшая отрешённость, внутри которой просвечивает своеобразная неземная мудрость… даже не мудрость – то для мужчин, скорее, состояние.
– Какое состояние?
– Мудрого ужаса перед Бездной…
– Ну, ты наговорил…
– Не знаю. Не могу точно определить… От неё веет какой-то бесконечностью, духовно не обязательно свойственной женскому началу… Это не Прекрасная Дама Блока, пришедшая из высших миров… Она, сестра твоя, пришла из Бесконечности, из мистической Бесконечности, и сама есть духовная Бесконечность, которую она духовно переживает в себе… Это её состояние… Она выше мысли…
– Что же делать?
– Ничего. По всем признакам, она – это Русская душа, воплощённая в человеке.
Я замолчал. Откровенно говоря, я не ожидал такого потока. У меня самого было над чем подумать и решить, чтобы не измучить свою душу, и я на некоторое время забыл о своей мистической, но кровной сестре.
«Чего не хватишься, везде – тайна», – сыронизировал я про себя, переделав слова из «Мастера и Маргариты» на свой лад, противоположный тому, кстати. Там было, кажется, так: «Чего не хватишься, ничего у вас нет», включая Господа Бога. Теперь всё наоборот, да и тогда было наоборот, только в тайне, а на поверхности, действительно, ничего не было, кроме атеизма. Но и сейчас на поверхности ничего нет, кроме звона презренного металла, что вполне равносильно атеизму. Впрочем, сейчас и на поверхности есть нечто иное, не один только звон…
Я тупо впал в такое раздумие, потому что откровения мишины по поводу Сони ввергли меня в лёгкий тупик.
И вдруг я увидел перед собой её глаза. Это были мои глаза и не мои. В них было именно то, о чём говорил Миша.
У меня ёкнуло сердце, видение пропало, впрочем, это было не видение, а духовное вспоминание…
Я махнул рукой Сугробову в знак полного согласия. В этот момент вошла она. Я замер.
– Как спали? – улыбнулась Соня, обращаясь к нам.
Мне показалось удивительным, что у неё есть тело. Как у неё есть тело?.. Это вечное презрение к телу, идущее из глубины веков. Надо его преодолеть. Но, всё же, странно иметь такие несчастные и уязвимые тела. Но в том и заслуга…
Конечно, в тот момент я обо всей этой загадочной телесности и испытаний её и не думал. Мне сейчас это пришло в голову…
А тогда Соня присела на креслице около стола, повертела чашку и о чём-то простом заговорила. Но это вовсе не отменяло всё то, о чём мы говорили, что чувствовал и я, и Сугробов.
На душе стало легко. Что-то нежное вошло в душу. В конце концов, нужны не только очаги Бесконечности, но и нежности. Птицы пели за окном во славу их короткой жизни. И во славу этой короткой жизни все, вставши, собрались на террасе, позавтракали и с ощущением почти бесконечной жизни где-то в глубине себя уехали в матушку-Москву. Я остался один с Софьей своей премудрой, к которой вскоре прибыл и её тихий муж.
Через одиннадцать дней, как точно отражено в моих записях, позвонила мне взволнованная Рита, и между нами состоялся следующий разговор:
– Александр Семёнович, – говорит, – помогите, ради Бога: с Денисом плохо.
– А что?
– В безумной депрессии он.
– Почему в безумной?
– Да так. Весь день лежит на диване лицом к стене. А среди ночи поднимается и песни жуткие поёт у окна… Помогите… Он только вас, по большому счёту, уважает…
– Вы у него живёте?
– Да, я иногда сбегаю к нему, чтоб отдохнуть от родителей. У него же квартира-двушка.
– И не страшно вам, когда он ночью так поёт?
– Страшновато, но он же меня с детских лет любил, когда болела… Я его не беспокою, когда он поёт… Но, всё же, нервы сдают… Уже третий день так… Помогите, он всех помощников прогонит, кроме вас.
Пришлось ехать. К автомобилям у меня отвращение, потому добирался общественным. Впрочем, оказалось не сложным. Позвонил в дверь. Рита открыла, сама какая-то, точно во сне.
– Он там, у себя. Я вам мешать не буду…
…Денис сидел в кресле перед большим стенным зеркалом и неподвижно смотрел в него, скорее, может быть, в какое-то зазеркалье.
Вид его был отключённо-мрачный, словно он ушёл в какую-то беспредельную тьму.
На меня он не обратил внимания. На столе, у противоположной стены, лежала, видимо, нарисованная им на большом листе бумаги непонятная карта с очертаниями незнакомых континентов, близко непохожая на горестную карту нашего земного шара.
Я вздохнул, и только тогда Денис проявил какие-то признаки возвращения к этой жизни.
Неожиданно вошла Рита с чайным подносом, дверь она открыла ножкой, ибо поднос с чаепитием был тяжеловат для неё.
Она всё это приятное поставила на стол для нас.
– Риточка, – пробормотал Денис сквозь свой ясновидящий бред. И это, видимо, таково было его первое слово после долгого периода молчаливого отсутствия.
– Денис, нас угощают, – провозгласил я.
– А, и ты тут, Александр, – произнёс он из глубины кресла. – Я вижу тебя в зеркале. Ты вышел оттуда?
Я рассмеялся. Денис встал и присоединился.
Рита ушла, мы остались одни.
Чай оживил его, пирожки он, однако, не тронул.
Я решил взять, как говорится, быка за рога, и спросил:
– Денис, вы себя любите?
– Какого себя?
– Вот этого я и ожидал от тебя.
Эти «вы» и «ты» я почему-то всегда путал (даже с близкими друзьями, как Денис).
– Какого себя! – продолжил я. – Ты ненавидишь себя, какой ты есть сейчас, в данный период. Но в своей глубине, где-то там внутри, где бродит бытие и тайна, ты любишь себя… Оттого и депрессия, что тебе не наплевать на себя.
– Ну и что? Тоже мне, анализ. И так ясно.
Денис почему-то обернулся на зеркало и хохотнул.
– Анализ-то прост, но и вывод, слава Богу, прост. Плюнь ты на свою мирофобию, точнее, на мир этот. Тоже мне, нашёл себе противника. Он исчезнет, а душа твоя, дух, точнее, – бессмертен. Дьявол-то изворотливей, похитрее тебя, Денис. Он-то выбрал себе помогучей супротивника, не такую мелочь, как этот мир.
Денис расхохотался. Это уже был сдвиг.
– Ну и себя ты ненавидишь в той мере, в какой ты – часть этого мира. Но в тебе же, как и в других, таится то, что не от мира сего, что выше творения… Плюнь ты в зеркало на всё, что от этого мира, и живи другим…
– Так-то оно, конечно, так, Саша… Но не пора ли нам выпить… По рюмочке, без излишества…
– Самая пора… Только немного… Для души… А то, иначе, боюсь, ты ещё в худший мрак войдёшь…
– Хуже не бывает… Я согласен. Немного, много не нужно.
После такого небольшого, полутайного, пригубления он как будто пришёл в обманчивый здравый смысл, по крайней мере, на поверхности сознания. Всё разъедающее ушло куда-то внутрь и, может быть, ослабело. Однако после второй рюмки он сказал:
– Хорошо быть пищей для Всевышнего… Это не то, что тебя съедят бродячие собаки где-нибудь на окраине города…
– Денис, не углубляйся, – резко ответил я, – Бог внутри человека, так что… сам делай вывод…
– Ладно, ладно, молчу.
Мы закусили.
– Видишь, – добавил я, – ты повеселел… Иначе ты бы не высказал такое… Так что и от этого мира есть нечто эдакое, хорошее.
– Не говори, не говори, – Денис стал расхаживать по комнате. – Повеселиться есть причины, – и он хохотнул. – Особенно меня смешит человеческое тело, и моё в первую очередь, ибо оно под рукой…
– А что?
– А что?!
От этого невинного вопроса Денис внезапно осерчал.
– Ничего более жалкого, беспощадного и уязвимого я не видывал… Ткни, и оно распадётся. Живём мы с вами, Александр… Семёнович, в какой-то хрупкой кастрюле, где что-то вечно варится, переваривается, болит, кряхтит, шипит и щурится, и вот-вот лопнет… С таким телом не пройдёшь в иные миры… Стыдно…
– Ну-ну, – возразил я. – Тело это, как-никак, а защищает нас от очень самих по себе неприятных, обморочных порой, существ… Скинь-ка эту, как ты говоришь, «поганую» оболочку… и иго-го! Такая погань и нечисть попрёт, что и эту оболочку за царство Божие примешь…
Но я его не убедил. Денис продолжал ворчать, порой переходя на гнев полубожеский и отвечая в том смысле, что, мол, я беру худший вариант, а он лично ещё, можно сказать, полуребёнком рассчитывал на лучшее.
Помню, я старался как-то сочетать философские аргументы с юмористическим подходом, чтобы осыпать его душу густым слоем веселия, чтобы он, в конце концов, не смог копаться в ней, как в гнойной ране.
…Раздался звонок по мобильнику. Верещал какой-то девически-глупый голос, к тому же с вульгарными интонациями. Призывал он Дениса пойти в ночной клуб.
Гранов механически отказался.
– Я от своих баб скрываюсь, – заметил он с горечью. – Пора с ними завязывать.
– Они что, не из нашей, так сказать, компании?
Денис чуть не поперхнулся.
– Никак. Какое… С женщинами я ищу простоты… Сначала было ничего, но я быстро от них одурел… Ведь они требуют внимания к себе, как будто они иконы…
– Ну и сравнения… Ты уж совсем…
– Тяжело с ними… Дурею… Я, Саша, если так будет продолжаться, в кота превращусь.
– В какого?
– В обыкновенного. А может, оно и к лучшему. Родился человеком и стал жаловаться на это… а коты себя не хают, не жалуются.
Вошла Рита и повеселела, видя, что Денис мрачно хохочет.
В общем, я почувствовал, что как-то смог не только словами, но и молчком, интуитивно улучшить его раздумия.
– Мой брат слишком смел, – сказала Рита, присаживаясь за столом. – Он иногда говорит об этом мире такое, что его могут арестовать…
Денис искренне на этот раз развеселился, без мрака…
– Да ни в одной стране мира нет такой статьи, чтобы за это сажали!.. К сожалению. Но ты, Рита, обязательно предложи, в Госдуму…