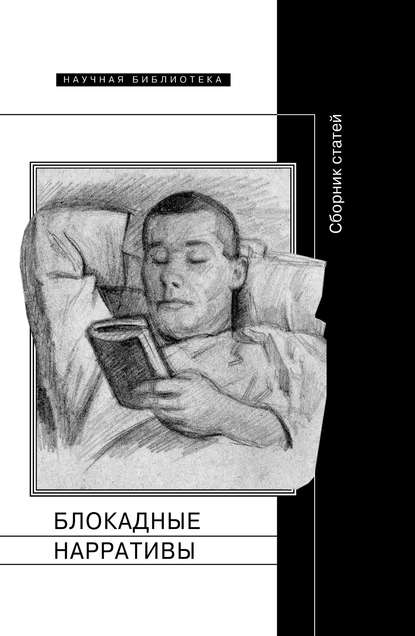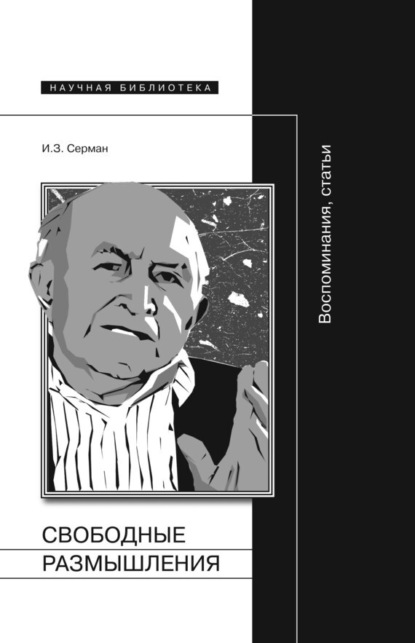Полная версия
Ф. В. Булгарин – писатель, журналист, театральный критик
Аналогичная проблема несоответствия реальности сюжетам чувствительной литературы возникает в описании истории первой любви Выжигина, Груни. Груня происходит из среды персонажей с такими фамилиями, как Грабилин, Вороватин и Штосина (мать Груни). Она слывет красавицей и читает сентиментальные романы:
Она была задумчивого нрава, проводила большую часть времени одна, в своей комнате, в чтении чувствительных романов и знала наизусть «Страсти молодого Вертера» и «Новую Элоизу». ‹…› Вскоре философические наши письма приняли тон писем нежного Сент-Пре и мягкосердной Юлии, и мы, не зная, как и зачем, открывались в любви друг другу и мечтали о будущем нашем блаженстве[86].
Герои «Выжигина» читают классику французского сентиментализма и ведут себя в соответствии с его предписаниями. В этой цитате заслуживает внимания фраза «не зная, как и зачем»: Груня и Выжигин начитались иностранных чувствительных романов, не понимая, как и зачем применять предложенные ими модели поведения. С одной стороны, так подчеркивается одна из сквозных тем романа: значение жизненного опыта. В конце романа Груня умирает в бесчестии в Париже, а умудренный опытом Выжигин воспринимает новость о смерти Груни как доказательство ее неспособности «исправиться», изменить свое поведение в соответствии с уроками, преподнесенными ее собственным опытом. Иными словами, Булгарин таким образом дает читателю понять, что правильные модели поведения почерпываются лишь из жизненного опыта, а не из французских книжек. При этом Выжигин продолжает переписываться с Груней, невзирая на нечистоплотность ее окружения и подозрительность ее поведения, хотя уже и на этой стадии его биографии его «культурный капитал», судя по всему, дает ему некоторое превосходство над Вороватиными и Штосиными. Влюбившись в Груню, он продолжает страдать по ней до завершения романа, воплощая таким образом один из шаблонных сюжетов литературного сентиментализма.
Именно здесь играет роль прагматический аспект сентиментализма как модели поведения. Выжигин, как показывает развитие романа, не демонстрирует способность глубоко задумываться над своими или чужими поступками, но неоднократно проявляет магическое умение усваивать правильные поведенческие образцы. Социальное происхождение не позволило ему научиться хорошему или полезному (и это неоднократно упоминается), а формируется он под влиянием собственного жизненного опыта, который накапливался на основе относительно случайных пересечений с индивидами и сообществами, от которых он впитывал модели поведения. Начитавшись Руссо, Выжигин невольно, но вполне в соответствии с предписаниями жанра и вне зависимости от собственного социального происхождения начинает следовать сентиментальным сюжетным образцам.
Сентиментализм можно рассматривать одновременно как литературное направление и как манеру поведения. Андрей Зорин, ссылаясь на теоретика истории эмоций Уильяма Редди, вводит в контекст русского сентиментализма понятие «эмоциональных убежищ», социальных групп, объединяемых отношениями, ритуалами и практиками, санкционирующими определенного рода чувства и дающими им выход. Общие каждой такой группе представления о том, как эти эмоции следует выражать, понимать и описывать, составляют так называемый «эмоциональный режим» этой группы[87]. В случае русских последователей моделей западного литературного сентиментализма имеет значение роль текста как образца поведения, узнаваемого почитателями того или иного писателя. Читатели не столько разделяли эмоции литературных персонажей, сколько использовали их как узнаваемые модели, годные как для имитации, так и для распознавания себе подобных любителей определенных авторов и произведений[88].
В более широком смысле произведения Булгарина отражают воспитательную прагматику французского и русского сентиментализма[89]. Воспитание нравов – ключевая тема, проходящая через большую часть булгаринской беллетристики и журналистики, которая приобрела особую важность после разгрома декабристского восстания[90]. Проблема правильного воспитания дворянского сословия впервые приобрела значение еще в начале 1790-х гг., вскоре после Французской революции, в период расцвета русского сентиментализма[91]. Н. М. Карамзин указывал на способность сентиментальных романов благоприятно влиять на нравственность читателя:
Напрасно думают, что романы могут быть вредны для сердца: все они представляют обыкновенно славу добродетели или нравоучительное следствие. ‹…› Какие романы более всех нравятся? Обыкновенно чувствительные: слезы, проливаемые читателями, текут всегда от любви к добру и питают ее. Нет, нет! Дурные люди и романов не читают. Жестокая душа их не принимает кротких впечатлений любви и не может заниматься судьбою нежности[92].
Связь сентиментального романа и нравоучительной литературы заслуживает упоминания потому, что элементы сентиментализма у Булгарина следует рассматривать не только в его узком определении как жанра романа о любви, но и в появившемся к концу XVIII века понимании чувствительной прозы как руководства к (само)воспитанию читателя. Идея нравоописательного романа предполагает, что нравы можно наблюдать, описывать, пытаться изменять или направлять. Так можно обозначить связь между сентиментальными элементами и темой народного просвещения в прозе Булгарина.
Несмотря на регулярное появление просвещенческой риторики в произведениях Булгарина, можно заметить отход от нее в деталях разработки романных сюжетов, указывающих на значение эмоционального (а не рационального) мышления персонажей. В траектории Выжигина от безродного сироты и помещичьей игрушки к уважаемому отцу семейства мало рационального. Образование его, как он сам признает, было случайным и бессистемным. Биография его представляет собой не цепь осмысленных решений, а скорее вереницу счастливых случайностей, обусловленных врожденным стремлением Выжигина к относительно абстрактным добродетелям. Именно этому стремлению Выжигин постепенно учится следовать. Превосходство эмоций над рациональным мышлением более явно демонстрируется в «Записках Чухина», в эпизоде, где рассказывается история отца жены Чухина. Отец Софьи влюбляется в Наталью, психически нестабильную крестьянку без образования («Эта любовь для меня до сих пор непостижима! ‹…› Любовь моя к ней походила на исступление, на помешательство в уме. Это была, на самом деле, нравственная болезнь. Я не мог вовсе рассуждать. ‹…› Я был рабом страсти, которой не мог преодолеть разумом»[93]). В сюжетах обоих романов эпизоды конфликта эмоций и разума завершаются в пользу последнего временно и косвенно: объект любовного помешательства устраняется более или менее случайным образом (бегство Груни в Париж; непредвиденная смерть Натальи), после чего страдающий рассказчик постепенно излечивается от пресловутой болезни. В «Выжигине» аналогичныe эпизоды любовного «помешательства» фигурируют в главах, описывающих его отношения с Груней. И Выжигин, и Чухин расплачиваются за свое помешательство падением социального статуса, кратким пребыванием в тюрьме, потерей денег и т. д., но эти злоключения временны и они очевидно не побуждают персонажей мыслить более рационально, так как их вскоре сменяют новые, не менее сильные эмоции. Выжигин, например, возвращается или к самой Груне, или к эмоционально окрашенным мыслям о Груне несколько раз, включая завершающую главу романа. Иными словами, эпизоды, где чувства персонажей побеждают их способность размышлять над своими поступками, завершаются не торжеством рациональности, предполагаемой классическими принципами Просвещения, а сменой эмоциональной бутафорики и переживаниями персонажей по поводу силы испытанных ими эмоций, которые эту силу лишь подчеркивают. Герои булгаринской прозы, испытавшие сильные эмоции, постепенно учатся избегать аналогичных ситуаций, используя собственный опыт как своего рода сентиментальный текст или наглядное пособие для самовоспитания[94].
В прозе Булгарина встречаются также некоторые примечательные особенности сентиментального стиля. В сентиментальных текстах традиционно преобладали такие элементы, как двойные или тройные восклицательные знаки, а также многоточия, как бы приглашающие читателя заполнить пробел в тексте собственными чувствами, заведомо предполагаемыми автором[95]. Такие стилистические особенности встречаются не только в романах Булгарина, но и в его путевых заметках, как, например, в «Летней прогулке по Финляндии и Швеции, в 1838 г.»:
Самая смешная сторона [характера остзейского недоросля], как я уже сказал, это надменность, превышающая всякое вероятие, и самонадеянность. Господа недоросли (иногда седые) верят, что только у них светит солнце и цветет земля и что они созданы в мире, как алмазы в рудниках Потоси, для украшения рода человеческого!!!![96]
Скажите мне, неужели можно быть поэтом в Петербурге, и искать вдохновения в Павловском воксале? Сомневаюсь! Поезжайте в шеры, друзья мои, и даже если вы никогда не уносились духом в мир фантазии, то здесь почувствуете электрический удар поэзии…[97]
В обоих случаях рассказчик останавливается в тот момент, когда читатель способен заполнить пропущенное собственными эмоциями, вызванными повествованием.
Предложенное выше обсуждение прозы Булгарина в контексте литературного сентиментализма имеет значение не только для интерпретации отдельных тем его романов или элементов его стиля, но и для более общего рассмотрения его места в культурном и историческом контексте первой половины XIX века. Исторический аспект эпохи, который здесь следует упомянуть, – это разделы Речи Посполитой, в результате которых Российская империя впервые расширилась в западном направлении и таким образом укрепила свой статус империи многонациональной и территориально растущей. Экспансия России на запад совпала по времени не только с интенсивной экспансиeй Британской империи или Франции (распространяющейся в первую очередь в Северную Америку), но и с зарождением литературного сентиментализма. Линн Феста в книге о развитии сентиментальной литературы в Англии и Франции отмечает, что совпадение это не случайно; напротив, литературный сентиментализм был порожден имперской экспансией XVIII века и функционировал как его основная экспрессивная форма[98]. По ее мнению, имперский аспект сентиментализма заключается в его способности создавать достойных читательской эмпатии персонажей таким образом, что читателю предлагается сочувствовать персонажу, при этом четко осознавая свою социальную и территориальную отдаленность от него[99]. Примеры, почерпнутые из аболиционистской литературы об имперской работорговле на Карибских островах или в Южной Америке, демонстрируют, как колониальный субъект наделяется нравственностью, похожей на поведенческие модели колонизатора, или даже более благородными нормами поведения, чем мораль самого читателя (как в случае с нарративами о благородных дикарях Северной Америки), оставаясь при этом фигурой физически удаленной и социально несущественной.
Описание имперского субъекта из недавно аннексированных территорий империи как существа, достойного жалости, но не читательской идентификации, достаточно очевидно в выдержках из «Ивана Выжигина», процитированных в начале этой статьи. Поступки главного героя, представленного в предисловии как «существо (sic!) доброе от природы, но слабое в минуты заблуждения», подаются как достойные сочувствия образцы поведения, которые читателю предлагается осмыслить.
Читатель должен пожалеть сироту Выжигина; он, возможно, задумается над странствованиями Выжигина и его любовными приключениями, обдумывая при этом аналогичные эпизоды из собственной жизни; однако не предполагается, что читатель почувствует себя существом, слабым от природы. Такая модель понимания персонажа Выжигина, основанная на «сочувствии без слияния», действует на протяжении всего романа. Булгарин предлагает читателю сочувствовать Выжигину или Чухину, но не предлагает ему быть ими. Счастливая развязка, происходящая в обоих романах на границах империи, а не в ее столицах и даже не в российской провинции, подчеркивает тот факт, что ни Выжигин, ни Чухин в результате не претендуют на социальное равенство с читателем. Оба заслуживают его сочувствия, но не равноправия по отношению к нему. Возможность такой развязки и ее локализация подчеркивают стабильность империи, ее способность принимать новых субъектов, не интегрируя их.
Интерпретация булгаринского сентиментализма в имперском ракурсе помогает выявить понимание Булгариным «русскости», или русской народности. Выжигин, родившийся, как и Булгарин, в белорусской части Речи Посполитой, впервые напрямую заявляет о своей принадлежности русскому народу в самом конце романа, где одновременно объявляется, что эта принадлежность основана в первую очередь на способности (со)чувствовать подобно другим представителям русского народа: «Радуюсь, что я русский, ибо, невзирая на наши странности и причуды, ‹…› нигде так охотно не помогут несчастному, как в нашем отечестве, которое по справедливости почитается образцом веротерпимости, гостеприимства и спокойствия»[100]. «Веротерпимость» и «гостеприимство» подчеркивают возможность воображения похожести без идентификации в ситуации наличия непреодолимых различий (иную веру предлагается «терпеть» в смысле современного требования «толерантности», а принимаемый гость все же остается гостем). Вытекающее из них «спокойствие» можно считать симптомом вышеупомянутой «приятной схожести» («pleasurable similitude»), ощущения воображаемого сходства «гостя» и хозяев, доказанной возможностью их спокойного сосуществования, при отсутствии реальной схожести. Выжигин, будучи сиротой, появляется на свет с амбивалентной идентичностью. Он как бы заслуживает право называться русским через личностные перипетии, которые учат его отличать «хорошее» от «плохого», подражать первому и сочувствовать второму, превращаясь из «существа», достойного жалости, в индивида, имеющего право жалеть других с осознанием собственного отличия от объекта жалости (так он сожалеет в заключительных страницах романа об умершей в Париже Груне). Русская народность, таким образом, определяется как общность тех, кто способен жалеть сироту Выжигина или сочувствовать благородному Арсалану опосредованно, через призму романных стереотипов и с полным осознанием неодолимых различий между читателем и персонажем.
Способность сентиментальных текстов формировать модели эмоционального поведения как на уровне нации или империи, так и на уровне кругов почитателей Карамзина или Шиллера ставит вопрос о приемлемости аналогичной интерпретации на промежуточных уровнях, таких, как социальный класс или сословие. Упомянутые выше исследования по истории русской эмоциональной культуры основываются на примерах из литературы, созданной или потребляемой высшими классами российского общества. Они показывают, что русскому сентиментализму, развившемуся в элитарной дворянской среде, были присущи элементы разделенности личности (А. Зорин) и сопутствующие им чувства изгнания и меланхолии (И. Виницкий). Катриона Келли в работе, основанной на руководствах по воспитанию детей начала XIX века, пишет о важности сдержанности, контроля над чувствами, «живым воплощением» которого становится поведение пушкинской Татьяны в последней встрече с Онегиным в восьмой главе пушкинского романа[101]. Келли приводит примеры из пособий, ориентированных на дворянские семьи, и из художественной литературы конца XVIII – начала XIX века.
Основываясь лишь на этих примерах, есть основания предполагать, что эмоциональная культура средних слоев читательской публики, на которую Булгарин ориентировался, отличалась от эмоциональной культуры высших слоев российского населения[102]. Документальное исследование быта русской помещичьей семьи в 1820–1830-х гг. показывает, что среди читателей Булгарина были люди, не только не считавшие зазорным писать как Булгарин с его сентиментальной стилистикой, но и представлявшие его себе как образец поведения и литературного соратника (читая и ценя при этом поэзию Пушкина)[103]. Эти читатели цитировали Булгарина в кругу семьи и обменивались его публикациями, создавая таким образом «эмоциональное убежище», основанное на его воображаемой личности и его текстах.
Булгаринские чувствительные персонажи не демонстрируют острого внутреннего конфликта между сферой государственной службы и внутренним миром писателя или связанного с ним конфликта между европейской просвещенностью и российской действительностью. У Булгарина несоответствие чувства и долга, а также желаемой и наличествующей реальности незамедлительно устраняется в сфере просвещения и, конкретно, воспитания нравов. Ощущение целостности личности демонстрируется как главное достижение не только безродного сироты Выжигина, но и исконного петербуржца, титулярного советника Чухина. Читатель косвенно приглашается разделить домашнее счастье Чухина или Выжигина. Как Чухин, так и Выжигин завершают свой рассказ, вздохнув в сентиментальной манере об ушедших друзьях и родственниках. Оба персонажа уходят с государственной службы, разрешая таким образом конфликт между чувствительным внутренним миром и коррумпированным внешним. Конфликт этот более четко показан в случае чиновника Чухина, который, получив давно желаемое повышение, объявляет себя больным и запирается в комнате (и вскоре уходит на пенсию). В жизни Булгарина можно найти в чем-то схожее урегулирование этого конфликта: Выжигин заканчивает свое повествование в отставке в Крыму, вдали от света и требований службы; Чухин завершает свою карьеру в «маленьком лифляндском городке», смоделированом по образцу Дерпта, недалеко от которого находилось булгаринское поместье Карлово[104]. Сам Булгарин уехал в Карлово из столицы в 1831 г., во время подавления Польского восстания, и остался там после смерти его покровителя М. Я. Фока, управляющего III отделением, избежав таким образом возможного негативного отношения из-за польского происхождения[105]. Во всех этих случаях поведенческие требования государственной службы – и, конкретно, возможности самовыражения, навязываемые государственной службой, – противопоставляются возможностям самовыражения, предоставляемым географической отдаленностью от места службы и окружением друзей и семьи. Внутренний конфликт между миром службы (неизменно корыстным, бесчувственным) и миром семьи решается во всех приведенных примерах в пользу семьи. Таким образом, создается эмоциональное убежище, где центром эмоционального режима является разделяемая писателем, главным персонажем и, потенциально, читателем вера в практическую целесообразность определенной манеры поведения.
Примером эмоциональной цельности у Булгарина выступает, наконец, сам Н. М. Карамзин. Описанию классика русского сентиментализма свойственна откровенная дидактичность[106]. Карамзин охотно и прекрасно говорит по-русски, в отличие от многочисленных булгаринских карикатур на русских дворян, не знающих родной язык и между собой говорящих по-французски. Он не использует изысканные выражения (галлицизмы?) и не склонен к ссылкам на «авторов» (предполагаемо иностранных). «Полнота и круглость» его речений подчеркивают его целостность как человека и как государственного служащего. Заключительные предложения текста – «Отдаленное потомство скажет: Карамзин был великий писатель и – благородный, добрый человек. Одно стоит другого. Но какое счастье, если это соединено в одном лице!» – не только подчеркивают эту целостность, но и представляют Карамзина как пример, достойный подражания, наподобие описанного в «Иване Выжигине» помещика Россиянинова («помещик, каких дай Бог более на Руси»). Образ Карамзина, созданный Булгариным, скорее был способен стать объектом читательской идентификации (наряду с Россияниновым, Чухиным, Выжигиным и, как мы видели на примере его провинциальных читателей, самим Булгариным), чем Карамзин реальный.
Подробное исследование эмоциональной культуры средних слоев российского населения в первой половине XIX века – это тема для отдельной работы. Задачей данной статьи было, во-первых, отследить сентиментальные модели в прозе Булгарина и, во-вторых, наметить возможность некоторых выводов, которые можно сделать при допущении интерпретации Булгарина как писателя, демонстрирующего влияние литературного сентиментализма. С одной стороны, наличие сентиментальных тем и стилистики в прозе Булгарина позволяет говорить о ней в контексте более широких вопросов взаимодействия сентиментальной литературы и исторической эпохи, таких, как взаимозависимость империализма и сентиментализма, обсужденная выше. С другой стороны, сравнение чувствительных элементов у Булгарина с аналогичными элементами у его более изученных предшественников (таких, например, как Карамзин и его последователи) ставит вопрос о различиях между «дворянским» сентиментализмом и сентиментализмом Булгарина. Влияние сентиментального направления в литературе на Булгарина следует рассматривать не только как следствие влияния эпохи, но и как литературную «проекцию» эмоциональной культуры недворянской России, на данный момент относительно малоизученной. Такой ракурс, в свою очередь, позволяет взглянуть на Булгарина, его личность и деятельность не только как на симптом культурных процессов, происходивших в кругах правительства и высшего дворянства, но и как на отражение современной ему истории российского среднего класса.
Российские Жиль Блазы и тема «книжного сознания» в русских плутовских романах первой половины XIX века
И. С. БулкинаО череде российских Жиль Блазов, в том числе о романе В. Т. Нарежного «Российский Жиль Блаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» и о его связи с гоголевскими «Мертвыми душами» и актуальности для Гоголя традиции плутовского романа, писали еще в начале прошлого века[107]. И связь Гоголя с Нарежным, и параллели между «Мертвыми душами» и булгаринским «Выжигиным» (еще одним российским Жиль Блазом) тоже в известном смысле общее место[108]. Наконец, «русскому плутовскому роману до Гоголя» посвящена вышедшая в начале 1960-х гг. монография Юрия Штридтера[109]. В настоящей работе мы попытаемся уйти от многократно описанных общих мест «плутовского» сюжета, наш предмет – линия развития героя, «российского Жиль Блаза», и его связь с темой «книжного сознания».
Речь пойдет о русском «плутовском романе» первой трети XIX века. При этом слова «плутовской роман» мы берем в кавычки: на самом деле наш предмет сильно отличается от классических образцов этого жанра. Испанский плутовской роман возникает в середине XVI в. как пародия, как перевертыш рыцарского романа, подобно тому как возникает «Дон Кихот» – рефлексия по поводу рыцарского романа. Не случайно донкихотовский сюжет становится популярен в России в те же годы, что и Жиль Блаз, и, по сути, российские Жиль Блазы и российские Дон Кихоты идут рука об руку. Однако если рыцарский роман «учительный», то плутовской роман – роман антивоспитания, и не случайно в самом известном романе этого рода, «Ласарильо из Тормеса», первый учитель героя – слепец: аллегория, показывающая, что герой плутовского романа учится плохо и не у тех учителей[110].
Но классическая испанская модель отстоит от нас достаточно далеко, а непосредственное отношение к нашему предмету имеет роман Лесажа о Жиль Блазе («Похождения Жиль Бласа из Сантильяны», 1715). Это французский роман об Испании, рефлексия по поводу классического плутовского романа, испанский антураж там сознательно утрирован – фактически перед нами переложение испанской модели на французские литературные нравы. Роман Лесажа был написан в начале XVIII в., в России он получил распространение ближе к концу столетия, во времена чулковского «Пересмешника» и набирающих популярность сочинений Матвея Комарова. Собственно, востребована была демократическая модель авантюрного развлекательного романа – с героем-разночинцем, с множеством приключений и вставными новеллами. Когда Нарежный в 1810-х гг. выбирает этого героя как имя нарицательное, он вкладывает в модель Лесажа другой смысл. Хотя схему, безусловно, заимствует: роман Нарежного – это роман в романе с нагромождением вставных эпизодов. Но уже в завязке Нарежный обнаруживает свой прием, заставляя понимать собственное сочинение как роман о книжном герое и книжном сознании.
Действие «Российского Жиль Блаза» начинается в имении провинциальных дворян Простаковых. Вечером в гостиной глава семьи устраивает чтение романа Лесажа. Домашние пытаются отвлечься на другие дела, и старик Простаков призывает их к порядку:
Кто велит тебе вальсировать, когда я читаю книгу, и притом хорошую? Дело бы другое, если б какую-нибудь комедийку или пустенький романец, как, например: «Модная лавка», «Новый Стерн» и тому подобные мелочи; или еще и большие, переведенные с французского языка, коими наполнены книжные лавки[111].
Характерно, что старик Простаков ставит в один ряд модные французские романы и сатиры на модников, их читающих. А «Жиль Блаз» тут выступает не в качестве переводного французского романа, но как книга «из глубин народной жизни». И в тот момент, когда Простаковы читают «Жиль Блаза», появляется сам герой – российский Жиль Блаз, князь Чистяков, положение его самое бедственное, он просится на ночлег: