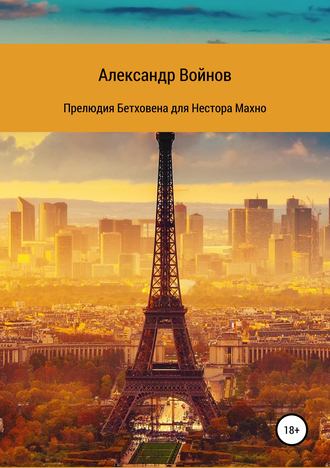
Полная версия
Прелюдия Бетховена для Нестора Махно

_Посвящение
Моей матери, графине Войновой-Темеревой, посвящаю это незамысловатое повествование.
Писал его без всяких притязаний, пытаясь сохранить в памяти ускользающий образ.
С бесконечной тоской.
Ал. Войнов.
Эпиграф
«…Эта песня ночного дождя
зарождается из образов:
Разноцветного зонтика и замшелого
склепа-«охотничьего домика».
Оконной решетки и
ржавого подоконника.
Протекающей крыши и
поющей водосточной трубы.
Плачущего ангела у отсыревшей стены.
Странной картины с подписью «Винсент»
И старого друга-костюма,
с которым пришло время расстаться,
но которому не сложу цены» …
ПРЕЛЮДИЯ БЕТХОВЕНА ДЛЯ НЕСТОРА МАХНО
МОЯ НЕ ЛЮБИМАЯ МАМА
Партию в гольф закончить не удалось из-за начавшегося проливного дождя. Узкая компания национальных единомышленников перекочевала в отдельный кабинет летнего ресторана, где в карте напитков значились только травяные чаи, к которым прилагались разнообразные кошерные закуски.
Несостоявшуюся игру решили заменить поочередными рассказами из своей прошлой жизни, в которых должны быть задействованы персонажи, в какой-то мере повлиявшие на судьбу рассказчика.
Первым вызвался немолодой неприметный господин, которого на первый взгляд можно было принять за недавно вышедшего на пенсию банковского чиновника среднего звена.
Все знали его, как приличного рассказчика, и ожидали рассказ с нескрываемым интересом.
«Банковский служащий», усевшись поудобней, начал повествование.
В моем платяном шкафу до некоторых пор хранился старомодный и слегка потертый костюм. Он висел последним и занимал не самое почетное место. Хотя я относился к нему, как в дружной семье относятся к родственнику, прошедшему долгий жизненный путь и вышедшему на заслуженный отдых.
Эта отжившая свой век костюмная «тройка» невидимой нитью связывала меня с далеким прошлым. И с теми немногими особами, о которых буду вспоминать до конца своих дней. Расскажу только о двоих.
Рассказать о третьем персонаже, повлиявшем на мое сознание, не получится. К сожалению, я не знал его лично, но тем не менее всегда относился к нему уважительно. И этот человек будет присутствовать в повествовании незримо и символично.
Вынужден признаться, что о своей матери вспоминаю все реже. Почему-то отлично помню подарки, которые мать дарила мне на праздники, а ее образ всплывает в памяти все более нечеткими и размытым. Уверен, что я ее не любил. Но звучит это определение в какой-то мере парадоксально. А причина в нижеследующем.
Помню маску совы, которую она подарила на Новый год. Только пошел в детский садик и на своем первом новогоднем карнавале был единственным, у кого была настоящая, а не собственного изготовления маска. Воспитательница меня похвалила. Вернее, не меня, а маску. Дети завидовали и просили маску примерить. Дал свое сокровище только девочке, в которую был тайно влюблен. Юная принцесса заслонила фарфоровое личико моим подношением и, радостно засмеявшись, пошла танцевать с другим мальчиком. Он был выше меня ростом.
Ее смех, приглушенный маской, казался мне уханьем ночного филина. И я ее сразу же разлюбил. Кажется, я заплакал и просидел до конца карнавала под лестницей.
Это было мое первое и далеко не одинокое разочарование в прекрасной половине человечества. Но последние и единственные слезы по этому поводу. Хотя из-за женщин сделал немало ошибок. Но порой мне кажется, что только из-за этих-то ошибок и стоило жить.
Чуть позже был театральный бинокль. Часто задумываюсь, почему бинокль был театральным. Можно предположить, что мама хотела, чтобы я стал театральным критиком и писал статьи о театре? А может ей хотелось, чтобы я стал заядлым театралом и в бинокль внимательно рассматривал красивых актрис на сцене? И, выбрав самую достойную, женился и был счастлив в браке?
Если это так, то ее мечты не сбылись. Я не стал театральным обозревателем, хотя профессия это не самая худшая. Если честно, я не стал ни кем. Хвастаться нечем. И в этом, в некоторой степени, «заслуга» директора моей средней школы. Но о нем упомяну позднее.
Не стал я и счастливым мужем красавицы актрисы. Моя семейная жизнь не сложилась, и я не стал счастливым семьянином. И тут хвалиться не приходится. Хотя я и не страдал от женского невнимания на протяжении моей не совсем заладившейся жизни.
В первый раз меня поцеловала настоящая женщина, когда я еще ходил в школу и мне было чуть больше четырнадцати. Наш физрук заболел и урок проводила учительница физкультуры из параллельного класса. Думаю, что она была на неполный десяток лет старше меня. Но это была та счастливая ситуация, когда разительная разница в возрасте не имела отрицательного значения. Скорее наоборот.
Хочу заметить, что эта учительница физкультуры появилась в школе совсем недавно и в одночасье стала предметом всеобщего обожания. Поговаривали что сам директор имел на нее виды и оказывал всяческие знаки внимания, но пока безуспешно. Хотя никто из женского учительского состава не мог перед ним устоять.
Директор был бывшим фронтовиком, который служил в заградотряде, и считал себя неотразимым красавцем. И, что его «боевые» заслуги давали ему право «первой ночи».
Это и стало причиной моих грядущих «любовных» огорчений. Скорее всего очаровательная физрук только что окончила пединститут и, заняв свое первое рабочее место, чувствовала себя не совсем уверенно.
Это была стройная блондинка с миловидными чертами лица, пухлыми розовыми губами и весьма необычным именем, которое помню до сих пор. Ее звали Этель Викторовна. Вдобавок ко всему, она носила обтягивающий спортивный костюм. И это последнее обстоятельство все решило. Я влюбился с первого взгляда, и она снилась мне почти каждую ночь.
Урок физкультуры подходил к концу, общая программа была выполнена и все с нетерпением ждали звонка. Что бы как-то заполнить оставшееся время преподаватель предложила кому-то из подростков показать свое умение подниматься по канату. Все устали и желающих не нашлось. В спортивном зале повисла неловкая тишина.
В какой-то момент я понял, что это был мой первый и возможно единственный шанс выделиться и привлечь внимание Этель Викторовны. И не стал его упускать.
Я растолкал сверстников, поклонился учительнице и, повиснув на канате, без помощи рук стал подниматься вверх. На середине дистанции силы были почти на исходе и мне пришлось обхватить канат бедрами. Я опустил голову и свысока посмотрел на предмет своего недосягаемого обожания. В это мгновение с мной впервые и случилось это невероятное событие.
Когда я сделал несколько поступательных движений в сторону приближающегося потолка, упругий канат начал тереть мое причинное место и неожиданно я стал погружаться в то блаженное и восхитительное состояние, которое до конца невозможно передать словами, если ты всего лишь прозаик. Да и не всем поэтам это удавалось.
Так я испытал свой первый и неповторимый оргазм. Я как безумный долго висел под потолком, мертвой хваткой сжимал чудесный канат коленями и не сводил глаз со своей первой невольной сексуальной партнерши, которая и была главной причиной этого безумства. Я хотел, чтобы это продолжалось вечно и отклонил ее настоятельную просьбу спустится вниз.
Учительница женским чутьем поняла неординарность ситуации. Она просительно сжала руки на груди и тихо прошептала:
– Спускайся пожалуйста. Меня могут из-за тебя уволить. Очень тебя прошу. Ты об этом не пожалеешь.
И тут прозвонил звонок. Ученики, радостно шумя, высыпались в коридор. В спортзале остались только я и она. И никого больше. Я разжал руки и через мгновение уже лежал на спортивном мате у ее прекрасных ног.
– Ты меня чуть до слез не довел. От тебя можно с ума сойти, – радостно выдохнула преподавательница и. нагнувшись, жарко поцеловала меня в губы. Я обхватил руками ее упругую талию и снова чуть не очутился на вершине блаженства.
Идиллию прервал голос директора школы.
– Это возмутительно, – прошипел он как гремучая змея, обращаясь к Этель Викторовне – вы уволены за аморальное поведение. Завтра же напишу на вас докладную в Гороно. Вам не место в нашей школе. Это же совращение малолетнего. Педофилия, выражаясь по-научному.
Директор рывком развязал «мертвую петлю» своего галстука, погрозил учительнице физкультуры измазанным в чернила пальцем и, схватив меня за шиворот, поставил на ноги.
– А ты двоечник исключен из школы на месяц. То же мне школьный ловелас в лопухах отыскался. Без тебя есть кому решить эту теорему.
– У меня одни пятерки в табеле за первую четверть, – выпалил я в оправдание своего возмутительного проступка, – только по поведению «неуд», но стараюсь исправиться. Я пою в школьном хоре, а завтра еду на городской конкурс по математике.
– Я вызову твоих родителей на педсовет и решим, как поступить. Скорее всего, поставим тебя на учет в детской комнате милиции. За тобой нужен глаз да глаз. А про конкурсы забудь. Без тебя обойдемся. То же мне Паскаль отыскался.
Я все же попал на математический конкурс, но беда не приходит одна. Когда я первым из участников положил на стол жюри тетрадь с идеально выполненным заданием, то случайно уронил под ноги председателя комиссии отцовскую логарифмическую линейку и на ней треснул «бегунок».
– Так вот откуда такая скорость в подсчетах, – возмутился председатель, – я вас дисквалифицирую за нечестное выполнение конкурсного задания. Вам больше здесь не место. Странно, как к вам попал этот редкостный математический инструмент? Такими линейками снабжали только высший комсостав.
Председатель поднял линейку и несколько раз передвинул из стороны в сторону треснувший «бегунок».
– Не беда, – протянул мне инструмент преподаватель, – еще послужит математике. Но надеюсь, что не в таком отрицательном значении.
Я выхватил из его рук злополучную линейку и спрятал в портфель.
– Мой отец был штурманом единственного ночного бомбардировщика, который в начале войны в одиночку прорвался через линию фронта, сбросил бомбы на территорию Германии и чудом вернулся на аэродром. На фюзеляже насчитали семьдесят одну пробоину. На этой линейке он рассчитывал курс полета и от нее зависела жизнь всего экипажа. Штатскому не положено брать ее в руки.
– Вы же тоже штатский, – усмехнулся председатель, – и благополучно держите ее в ладонях.
– Я потомственный военный. Мой дед тоже воевал. Правда не за тех, за которых вам бы хотелось.
– Вы не можете знать моих желаний, – возразил педагог, – и старайтесь меньше говорить на эту тему. Не то сейчас время. Можете подвести отца, а он заслуженный офицер. Наш разговор должен остаться между нами. А вы выполните мое нематематическое задание. Идите домой и отдайте линейку отцу. И больше его не позорьте.
– Это задание невыполнимо. Отец давно умер в госпитале и его уже невозможно ничем опозорить.
Учительницу физкультуры перевели в другую школу и больше мы с ней не свиделись.
Несколько месяцев я не мог с этим смириться и не находил себе места.
Сексуальные переживания и ассоциации самые стойкие и. так или иначе, принимают участие в формировании человека, как личности.
С той поры я лютой ненавистью стал ненавидеть директора школы. А в его лице любое начальство и всякую власть.
У директора появилась вредная привычка на большой перемене вызывать меня в свой служебный кабинет и долго и нудно читать нравоучения о моральном облике строителя коммунистического будущего, используя при этом тезисы марксизма-ленинизма. Из-за этого я пропускал обед в школьной столовой. Этот зануда лишил меня любви и пищи. В душе я пока еще смутно осознавал, что директор ненавидит меня, как потенциального соперника, и, понимая причину его ненависти, платил ему той же монетой.
Он питал ко мне это чувство потому, что соблазнительная учительница физкультуры отдала предпочтение моей наступающей молодости, а не его приближающейся старости и полу импотенции. Но в этом не было моей вины. Такова природа прекрасной половины человечества. Женщины всегда ценили в нас молодость и силу.
Это инстинкт продолжения рода. И тот, кто попытается с ним бороться, в конечном счете обязательно проиграет. Директор этого понять был не в состоянии, и на уроке ботаники, которую он преподавал, сгоряча бросил в меня, толстым черенком с «прививкой». Бросок был неточным и черенок меня даже не зацепил. Он попал в стоящую на парте чернильницу, и синие чернила забрызгали мне лицо и мою единственную белую рубашку. Я все стерпел и перенес молча.
Но когда по окончании восьмого класса завуч включила меня в список на получение «Похвальной грамоты», а директор собственноручно вычеркнул мою фамилию, сдержаться не смог. На школьной линейке я обозвал директора самовлюбленным самодуром и в эту школу больше не ходил.
По дошедшим до меня слухам моим определением стали пользоваться следующие поколения учеников. Но из конспирации делали это сокращенно, используя только две начальные буквы.
В следствие этих событий я не стал воспринимать подчинение кому-либо или чему-либо, как поведенческую норму. Это создавало массу жизненных неудобств, но я ничего не мог с собой поделать. С той поры, сам того не осознавая, стал идейным анархистом. Никогда и ни на кого не смотрел снизу-вверх. Но и не посматривал свысока. Я воспринимал окружающий мир только в горизонтальной плоскости.
Единственным авторитетом для меня был Нестор Махно, и я дал себе слово побывать на его могиле.
Много лет спустя, из писем матери, я догадался, каким она видела мое будущее. Ей хотелось, чтобы ее сын прошел тот же жизненный путь, что и Ромен Гари. Стал писателем, дипломатом и любимцем женщин. К глубокому сожалению, я не оправдал ее надежд. Но, не буду забегать вперед.
Третьим подарком были лыжи. О таких лыжах и мечтать не смел. У меня к тому времени уже были лыжи. Но они были разной длины и с разогнувшимися носками.
За нашим поселком начинались воинские лагеря, и курсанты каждый день бегали кросс. Сломанные лыжи складывались за хозяйственной палаткой, и я тайком от старшины выбрал из этого хлама две почти целые, но разномастные лыжины.
А теперь, у меня были новые, с загнутыми носками и парусиновыми креплениями, одинаковые лыжи. Я был счастлив. Приходил из школы домой, бросал портфель и на лыжах уходил до темна. Хотел стать военным. У них была красивая форма и они нравились женщинам. Офицером не стал. Но со временем понял, как важна была та ранняя физическая подготовка. Она и помогла выжить.
Болел я очень редко и быстро становился на ноги. Прививок на ту пору не существовало и в помине, но за всю жизнь я не разу не заболел инфекционным заболеванием. Хотя было время, когда пил чай в кругу из одной кружки с туберкулезными больными. Где разрешалось делать всего два глотка. И вопреки здравому смыслу, становился сильнее и здоровее. Считаю, что не стоит прятаться от опасности. Гораздо вернее вести себя так, чтобы опасность и смерть сами боялись тебя, а не ты их.
Инфекционные болезни обходили меня стороной потому, что, сам того не подозревая, я ими переболел в детстве. Одну большую общую прививку, в тайне от мамы, я получил на городской свалке, куда помимо всего прочего, свозили отходы с кондитерской фабрики. Тогда у меня были полные карманы бракованных леденцов и шоколадной крошки.
И еще я был обладателем сломанной рапиры, которую заточил и привел в порядок. Этот клинок давал мне право, разгоняя полчища свалочных мух, первому и в одиночку копаться в конфетно-шоколадной куче и выбирать самое ценное. Все остальные желающие могли это позволить, когда я уходил восвояси. С тех пор уважительно отношусь к холодному оружию.
К тому времени мама устроилась работать в ресторан «Интурист» и подарила очередной подарок, за который я благодарен по сей день. Работала она сервизницей. Выдавала сервизы официанткам для сервировки столов. Выдавала чистые, а принимала их после застолья. По счету.
Порой у официанток не доставало мельхиоровых вилок, ножей и ложек, а бывало, что и хрустальных бокалов. Видимо, клиенты прихватывали с собой на память. Бывал и обычный бой.
Мама списывала недостачу, а за это официантки несли ей не начатые или почти не начатые дорогие закуски и десертные блюда. Все эти балыки, красные и белые рыбы, сухие колбасы, судочки с зернистой икрой и разномастные пирожные, попадали ко мне на стол, и я каждый вечер у себя в комнате устраивал королевский ужин.
Как-то мама принесла едва начатую бутылку сладкого «Шартреза» и спрятала на кухне. Я случайно на нее наткнулся и под шикарную закуску выпил бутылку до дна. Всю ночь меня мутило и рвало самыми дорогими блюдами и свалочным горьким шоколадом. Я чуть не умер. С той поры не выпил ни капли спиртного, крайне редко хожу в рестораны и забыл дорогу на свалку на клеточном уровне.
В четырнадцать лет мама сделала мне прививку от алкоголя. И отучила от дорогой, но никчемной ресторанной пищи и дармового шоколада. Это был едва ли не самый ценный подарок. Я спрятал сломанную рапиру на чердаке и записался в секцию фехтования.
На пятнадцатый год рождения мама подарила мне старинную музыкальную шкатулку, которая чем-то напоминала кофемолку. Только ручной привод был с боку. Мелодия у шкатулки была задумчивая и сентиментальная. Это было несколько тактов из композиции Бетховена.
–Это отрывок из фортепианной пьесы «К Элизе», которую любил твой отец. Он мечтал, что бы ты стал пианистом и играл это гениальное творение на большой сцене.
У нас с мамой не было постоянного жилья и при очередном переезде шкатулка и логарифмическая линейка затерялись. Я до сих пор сожалею о своей халатности.
Пианистом стать не довелось, но попытался научиться играть пьесу «К Элизе» на стареньком фортепиано. Из этого ничего не вышло, не хватило нотной грамоты и терпения.
Очередной подарок был года через три. К тому времени, мама сменила работу. Теперь она работала вахтером на табачной фабрике. Выпускала смену и брала по две пачки с каждых десяти за свободный вынос.
Когда мне было очень туго, она наняла самого дорогого адвоката. На суде он добился переквалификации статьи, меня подвели под амнистию и освободили из зала суда. А потом…
ЧЕЙ КОЗЫРЬ СВЕРХУ ЛЯЖЕТ
Хотя колония была местная, этап пришел поздно вечером и его долго держали в тесном вахтенном «конверте». Это была уже не свобода, но еще и не «зона». Шел дождь со снегом и, продуваемые северным ветром, за три часа все промокли до нитки.
После очередной переклички была баня с прожаркой и такой долгожданный этапный барак. Дальше, неделя отдыха на карантине.
После разбивки этапа нас распределили по отрядам. я написал домой и сообщил адрес колонии. Как вновь прибывшему мне было положено длительное свидание и две передачи. Вещевая и продуктовая.
Решил отправить домой свой гардероб. «Работа», за которую меня судили, была «представительская» и одежда на мне во время ареста тому соответствовала всецело и с избытком. Все вещи были от лучших европейских дизайнеров и их стоило сберечь до лучших времен.
Особенно выделялся темно-синий, двубортный шерстяной костюм. В нем не стыдно было бы показаться и на Канском кинофестивале.
На пересыльной тюрьме я за десять пачек махорки выменял потрепанную лагерную робу и ватник. А свои вещи, в которых был арестован, предусмотрительно сложил в сшитый из тюремной «матрасовки» походный баул. Так что они были, как с иголочки.
– Сколько хочешь за кустюм? – Поинтересовался краснолицый, упитанный каптерщик, когда я сдавал вещи на хранение в лагерный склад. – Все равно до конца срока его моль побьет. Шерсть-то натуральная. Мне он будет в самый раз. Я через месяц освобождаюсь условно-досрочно. А на тебе за твой немалый cрок он будет обвисать, как на огородном чучеле. Когда хлебнешь нашего режима.
После отказа продать за деньги он предложил за него свою должность.
– Будешь как сыр в масле, – пообещал каптерщик. – Замолвлю за тебя словечко кому следует. И ты уже на первом отряде в «хозобслуге». С начальством мы в «шоколаде».
– Ты в него не влезешь. Когда подкачаешься, похудеешь и твой тухлый помойник не будет обвисать, как у беременного, тогда и потолкуем. Хотя это ведь не твой фасон. По тебе ватные брюки, красная байковая рубаха в горошек и белые валенки с калошами.
Написал начальнику отряда капитану Федорчуку заявление на передачу вещей матери во время личного свидания.
Когда Федорчук принес мой вещмешок, дорого костюма там не оказалось. Хотя по описи все было на месте. Вместо английского шерстяного костюма лежала потертая пиджачная тройка фабрики «Большевичка». На пиджаке была разорвана подкладка, а на брюках сзади в ответственных местах красовались две небольшие латки.
– Это не мой костюм, – заявил я Федорчуку, – придирчиво разглядывая бирку изготовителя на пиджаке.
Отрядный забрал старый костюм и надолго ушел на лагерный склад. Вернувшись, принес мой костюм. Разбитая кисть правой руки у него слегка кровоточила, и маленькая капля крови капнула на шелковую подкладку пиджака. Как оказалось, в какой-то мере это было символично. Без крови этому пиджаку уйти из жизни не удалось. Не обошла кровь и Федорчука. О чем жалею до сих пор.
Позднее, я узнал от дневального склада что, когда каптерщик «пошел в отказ», Федорчук ударом кулака сбил его с ног. Бил ногами до тех пор, пока тот не сознался в подмене.
Если рассказывать честно, то в душе был благодарен отрядному. Из-за меня он пошел на серьезное нарушение режима содержания. Если бы он покалечил осужденного-активиста, то сам бы надолго оказался за решеткой.
Он мог этого и не делать. Ведь, формально все было на месте. Я мог все выдумать и из личной неприязни оговорить каптерщика. Ведь сидел за тяжкое правонарушение. Но Федорчук поверил мне, грабителю банка, а не твердо ставшему на путь исправления и освобождавшемуся досрочно зеку-активисту.
За три дня до свиданья была общая уборка помещения барака и я отказался в ней участвовать. Ушел в соседний локальный сектор и долго занимался на брусьях и турнике. Когда вернулся, уборка уже шла к концу и лег спать.
На следующее утро, к себе в кабинет, меня вызвал Федорчук. Он долго молча сидел за столом и курил. Я стоял перед ним навытяжку и дышал дымом его сигареты. Мне не нравятся курящие люди. Начинал потихоньку его ненавидеть. Уже знал, что произойдет что-то не совсем приятное. Но такого и ожидать не мог.
Федорчук полистал мое личное дело
– К «черным» хочешь примкнуть. А зона здесь «красная», – сообщил он пренебрежительно. – Я не Макаренко и воспитывать не буду. Сам определяйся. Просмотрел твое личное дело и нашел два нарушения в следственном изоляторе, за которые ты не понес наказания в полной мере. Ушел на этап с изолятора. Плюс вчерашний отказ от уборки. Выношу тебе десять суток штрафного изолятора. С переводом на три месяца в помещение камерного типа. Будешь продолжать в том же духе, отправлю на «крытую».
Догадывался, что хорошего ждать не стоит, но что приговор будет настолько жестоким и поэтому несправедливым, не мог и предположить. По обычным «зоновским» меркам за отказ от уборки мне полагалось от силы лишение права «отоварки» в лагерном ларьке. А в сложившейся ситуации я автоматически лишался свиданья. И двух передач. Вдобавок, уже никак не успевал сообщить маме что бы не приезжала понапрасну.
«Ну ничего, встретимся еще на свободе. Где-нибудь на товарной станции. Тогда и сочтемся», – думал об отрядном, сидя в одиночке. И представлял, как толкаю его под состав.
Мама приехала на свидание рейсовым автобусом, который ходил только раз в сутки. Узнав у прапорщика, что меня лишили свидания, села на сумки с продуктами и начала есть самое вкусное. Донести до станции две тяжелые сумки она бы не смогла. Решила съесть самое ценное, а остальное скормить бродячим псам.
Начала с вареников со сметаной, и перешла к жареной картошке с мясом. А впереди был многослойный «Наполеон» и еще сорок килограммов всевозможной снеди. Кому приходилось бывать на длительном свидании, в той или иной роли, тот знает, о чем я говорю.
От шоковой ситуации не могла остановиться. Все было свежее, сытное и вкусное. И для нее дорогое по деньгам. Сама перебивалась с хлеба на квас. Было жалко отдавать еду собакам. Сидела под деревом, заливалась слезами, давилась, но ела, ела и ела. Это могло кончиться больничной койкой, а то и похуже.
Подошел лагерный капитан, с вещмешком в руках. Узнав в чем дело, успокоил, посадил в коляску мотоцикла и повез на станцию.
По дороге мама по инерции отщипнула кусок «Наполеона» и перевернула банку с борщом. Борщ разлился по коляске. Капитан остановил мотоцикл и помог маме упаковать продукты.
Когда он сажал маму в вагон, то вместе с ее сумками занес и вещмешок. В нем оказались мои вещи. Офицер сказал, что он мой отрядный. Что все будет нормально. На прощанье сказал, что я человек стоящий. Он в людях разбирается.

