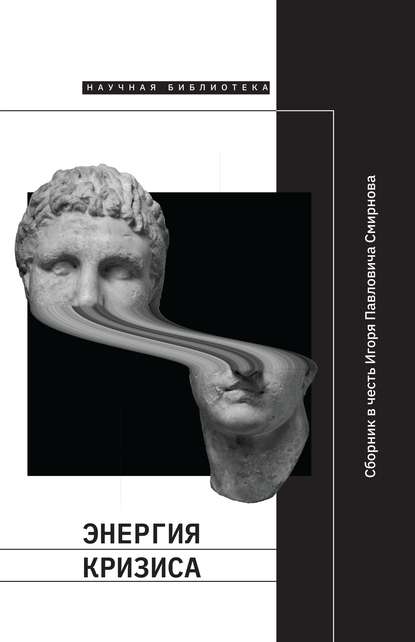Полная версия
Другой в литературе и культуре. Том I
В том же предисловии 1935 года читаем:
Литературный персонаж? Персонаж из действительности? Дa, из действительности литературы, которая и есть литература действительности. Когда однажды я увидел, как мой сын Пене, совсем еще маленький, раскрашивает куклу и приговаривает: «Я взаправдашний, я взаправдашний, a не рисованный», – эти слова он вкладывал в уста куклы, – я снова пережил свое детство, я вернулся в детство, и мне стало жутковато. То было явление призрака. А совсем недавно мой внук Мигелин спросил меня, всамделишный ли кот Феликс – тот, из детских сказок, – живой ли он. И когда я стал внушать ему, что кот – это сказка, выдумка, сон, он перебил меня: «Но сон-то всамделишный». Тут вся метафизика[39].
Субъективность читательского восприятия, роль воображения, как и любое проявление индивидуальности, – чрезвычайно значимы для Унамуно. Именно с помощью воображения мы, с одной стороны, создаем Другого, отчуждаемся от него, а с другой – можем примириться с ним. Переводя взаимоотношения с Другим в зону воображаемого, Унамуно несколько ослабляет его тотальность: ведь то, что создается с помощью личностного акта, может быть таким же образом и разрушено.
Этот круг проблем интересно обыгрывается в новелле «История о Доне Сандальо, игроке в шахматы». Повествование ведется от лица анонимного автора писем, которые он, находясь на курорте, посылает другу. Из писем мы узнаем, что главный герой страдает формой антропофобии: его раздражает людская глупость. Единственное место, им посещаемое, – местное казино, где, уединившись, он может спокойно играть в шахматы. В какой-то момент завсегдатаем заведения становится некий Дон Сандальо, такой же тихий и замкнутый человек, игрок в шахматы. Главный герой, находя его характер сходным со своим, сближается с ним. Но личность Дона Сандальо остается для него загадкой: в течение игры они лишь обмениваются короткими репликами типа «шах» или «мат». Во время одиноких прогулок герой задается вопросом, как проводит свободное от посещения казино время Дон Сандальо. Он даже пытается выследить партнера, но отказывается от этой затеи, чтобы не разрушать сложившийся образ Дона. Образ Сандальо, сконструированный протагонистом, завладевает им. Одновременно выясняются и некоторые подробности из жизни реального Дона Сандальо: он потерял сына, в криминальном мире известен под кличкой Квадратный круг, а его отсутствие в казино объясняется тем, что герой находится в тюрьме. Эти факты никак не вяжутся с тем образом, который придумал протагонист, и он отказывается узнавать правду. Его начинает беспокоить, не выдумал ли его Дон Сандальо, как и он выдумал Дона, и существует ли Дон Сандальо вообще. Узнав о внезапной смерти Дона Сандальо в тюрьме, герой приходит к выводу, что не только других, но и самих себя мы досочиняем, притом в наилучшем для нас виде. Герой решительно разделяет «своего Дона Сандальо» и «чужого» и, чтобы избавиться от подробностей «чужой» жизни, спешно покидает город.
Композиционно-речевая форма новеллы (письма анонимного героя к адресату по имени Фелипе) заставляет усомниться в правдивости изложенных фактов. Кто скрывается за маской автора писем? Возможно, это дневниковые записи самого Фелипе, которые он, чтобы не раскрыть себя, маскирует, выдавая за чужие письма. Возможно, это записи самого дона Сандальо, который выдумал свою смерть, чтобы увидеть себя со стороны. Вопрос реальной истории Дона Сандальо остается открытым. И это указывает на его принципиальную условность.
Из новеллы следует, что мы постигаем Другого не таким, каков он есть на самом деле, а конструируем в сознании образ «своего Другого». Этот Другой может в итоге настолько разойтись с «подлинником», что реальность его существования станет весьма сомнительной.
III. Другой как ближнийСомнение в подлинности собственного существования, как и сомнение в существовании Другого, – важная аналогия, которая может служить иллюстрацией главной проблемы: сомнение в подлинности посмертного существования. Несмотря на зыбкость и неоднозначность нашего действительного существования, которые Унамуно демонстрирует в своих произведениях, мы все же пребываем в уверенности, что живем полноценной реальной жизнью. Можем ли мы распространить эту уверенность и на вопросы жизни после смерти?
Трагическая, но вместе с тем воодушевляющая сила, которая, по мнению испанского мыслителя, кроется в подобных вопросах, может привести к отрицанию реальности как таковой. Унамуно часто обращается к классику испанской литературы Кальдерону с его знаменитой метафорой «Жизнь есть сон». Нередко Унамуно прибегает к суждению, что наш мир – лишь сон Бога. Главное – чтобы он не перестал смотреть о нас свои сны. О сне жизни упоминает и святой Мануэль – главный герой одноименной новеллы. Почитаемый за мудрейшего еще при жизни, но не имеющий твердой веры в то, что жизнь продолжается после смерти, он вынужден скрывать свою тайну от прихожан.
Это произведение не призвано прояснить вопрос о существовании Бога, оно не является теологическим. Унамуно исследует проблему божественного в жизни человека, важность веры и силу отчаяния. Экзистенциальное бремя становится непосильным для священника: произносимые им ежедневно обращения к пастве не воздействуют на него самого, он не уверен в справедливости своих слов. Как и Аугусто, он теряется; меркнет уверенность в собственном существовании.
В деревне у священника есть антагонист – Лазаро, человек прогрессивных взглядов, получивший образование в престижном университете. Вначале может сложиться впечатление, что действие новеллы будет строиться на противостоянии героев. Но автор обманывает читательское ожидание. Атеист Лазаро, узнав тайну Дона Мануэля, вместо того чтобы разоблачить священника, становится его горячим сторонником. Оба они продолжают дарить надежду деревенской пастве, не веря при этом в спасение.
Мы видим, как линия взаимоотношений с Другим получает жизнеутверждающее продолжение. Оно опирается на философию Унамуно, в соответствии с которой в Другом можно увидеть со-страдальца и союзника в отчаянной борьбе со смертью. Внутренний мир человека и внешний мир отражаются друг в друге – в Другом мы ищем часть себя, а наши личные переживания общезначимы. Именно поэтому Унамуно «оживляет», онтологизирует литературных персонажей. В эпилоге к «святому Мануэлю Доброму, мученику» он пишет:
И откуда мне знать, может, и создал я живущие вне меня реальные и действующие существа с бессмертной душой? Откуда мне знать, может, этот самый Аугусто Перес из моей ниволы «Туман» был прав, притязая на то, что он реальнее, объективнее, нежели сам я, притязавший на то, чтобы быть его творцом? Мне и в голову не приходит усомниться в реальности святого Мануэля Доброго, мученика… Я верю в его реальность больше, чем верил сам святой, больше, чем верю в собственную свою реальность[40].
Унамуно с сожалением отмечает, что в современной ему Испании, да и во всей европейской мысли, под влиянием сугубо научного, рационалистического понимания мира, распространяемого и на духовные сферы, происходит утрата человеком своей глубинной сути. Центральная же проблема философии Унамуно – проблема конечности существования – может быть только прочувствована, а невозможность человека прийти к окончательному выводу о смертности или бессмертии собственной души только усиливает чувства. Унамуно показывает, что данный вопрос носит исключительно иррациональный характер, разум человека не способен его пояснить. Таким образом, человек сам оказывается противоречивой дуальной системой, в которой борются рационалистический финализм (факты указывают на конечность человеческого существования, и нет фактов, свидетельствующих о продолжении существования сознания после смерти) и иррациональное чувство надежды. Чувство надежды, синонимичное в философии Унамуно чувствам сомнения и веры, необходимо самой жизни. Без наличия этих чувств каждый человек теряет интерес к существованию, импульс к творчеству. С горечью испанский философ наблюдает, как вырастает новое поколение молодых людей, неспособных к полноценному сопереживанию.
Другой становится не просто ближним, он становится частью Я. Чтобы сделать это нагляднее, Унамуно «оживляет» не только персонажей своих новелл, но и одного из главных символов Испании – Дон Кихота. В книге «Житие Дон Кихота и Санчо» и множестве статей Унамуно дает свою интерпретацию Рыцаря Печального Образа.
Если в массовом сознании Дон Кихот – комический персонаж, задуманный Сервантесом для того, чтобы высмеять традицию напыщенных рыцарских романов, то для Унамуно он – явление действительности. Стоит отметить, что к образу Дон Кихота обращаются и другие представители «поколения 1898 года», олицетворяя его с Испанией, ввязавшейся в бессмысленную войну.
Унамуно увидел в романе Сервантеса более глубокий смысл. Не меняя композицию романа, Унамуно, следуя своей идее о том, что герои романа реальнее автора, отводит Сервантесу роль историографа. В эссе «О чтении и толковании Дон Кихота» он замечает:
С тех пор как «Дон Кихот» был напечатан, издан и оказался в распоряжении всякого, кто возьмет его в руки и прочтет, книга уже принадлежит не Сервантесу, а всем, кто ее читает и воспринимает. Сервантес извлек Дон Кихота из души своего народа и из души всего Человечества и своей бессмертной книгой вернул эту душу своему народу и всему Человечеству. И с тех пор Дон Кихот и Санчо живут в душах читателей книги Сервантеса и даже в душах тех, кто никогда ее не читал[41].
«…Только Дон Кихот как таковой, Дон Кихот человек – вот кто меня привлекает, а не „Дон Кихот“ роман, не книга», – пишет Унамуно в статье «Об эрудиции и критике»[42]. Поиск всеобщих законов пренебрегает частностями, в том числе личными качествами индивида. Между тем человек постоянно имеет дело с собственным внутренним миром и лишь изредка с абстрактными понятиями. Именно индивид сквозь присущую ему индивидуальность может воспринимать объекты. Поиск целого, по Унамуно, не следует распространять на внешний мир: он сводится к личности как к целому. Личность может быть понята и не понята другим, но, игнорируя в философском анализе сам феномен личности, мы исключаем даже малую возможность понять ближнего. И наоборот, способность принять и воспринять – необходимое условие личности.
Вот почему на первый план испанский философ выводит силу духа. Он стремится показать, что без чувственного восприятия человечество не сможет осознать суть собственного бытия. «Оживив» Дон Кихота, Унамуно хочет оживить, пробудить и читателя, сделать происходящее с Дон Кихотом сопереживаемым, реальным. Дон Кихот реален, потому что происходящее с ним должно стать частью нашего мировоззрения. Дон Кихот – носитель специфически человеческого, предмета экзистенциальной философии:
Никому (кроме меня, впрочем) не придет в голову отстаивать всерьез мысль о том, что Дон Кихот действительно существовал и в самом деле совершил все то, о чем нам рассказывает Сервантес, но ведь верят почти все христиане, что Христос жил и сказал то, о чем повествуют Евангелия; можно и нужно, однако, считать, что Дон Кихот существовал и продолжает существовать, жил и продолжает жить жизнью, может быть, более интенсивной и более продуктивной, чем, если бы он существовал и жил обычным, заурядным образом[43].
Сумасшествие Дон Кихота делает его Другим, отчуждает от читателя. Унамуно много раз возвращается к парадоксальной мысли о том, что рыцарь «был рассудителен в своем безумии»[44]. Как это понимать? Разумность в безумии – метафора жизни каждого человека, раздираемого противоречием конечности существования. По Унамуно, мы должны понимать безумие не как синоним безрассудства и комизма, а как иное видение мира, к которому нужно отнестись со всей серьезностью. Суждения Дон Кихота обладают внутренней логикой, но при этом иным видением мира и самого себя, а следовательно, и иной степенью одухотворенности. Унамуно настаивает на том, что эта одухотворенность более высокого порядка:
Какое величие и вместе с тем какой ужас в том, что герой – единственный, кто видит собственную героичность изнутри, в глубинах своей души, в то время как другие видят ее лишь снаружи и во внешних ее – странных порой – проявлениях. По этой причине среди людей герой живет в одиночестве и одиночество служит ему и обществом, и утешением; и если вы мне возразите, что в таком случае любой, возомнив себя боговнушенным героем, сочтет себя вправе выкидывать все, что ему вздумается, отвечу: мало возвестить о своей боговнушенности и сослаться на нее, необходимо в нее уверовать[45].
Значимость инаковости Дон Кихота состоит в том, что она служит проводником в мир идеализма, а реальное, полагает Унамуно, не существует без идеального. Безумие Дон Кихота – это пример чистоты сознания, которому доступны предельные формы веры, истины, чести, бессмертия. Сопереживание Дон Кихоту, по замыслу испанского философа, есть сопереживание иррациональным структурам собственного сознания, Другому, заключенному в самом себе. Сознание индивида неоднородно. Унамуно представляет его работу как «монодиалог», то есть множество внутренних диалогов, которые каждый ведет с собой.
В этом смысле фигура Санчо – другая сторона общего с Дон Кихотом сознания, которое они вместе олицетворяют. Являясь полной противоположностью Рыцаря, Санчо символизирует все прагматическое и рациональное. Однако это не мешает ему быть поклонником Дон Кихота и правопреемником его взглядов после смерти хозяина. «Санчо не давал умереть санчопансизму в Дон Кихоте, а Рыцарь кихотизировал оруженосца, выводя из глубины души наружу его кихотическую суть», – утверждает Мигель де Унамуно[46].
Таким образом, «преследующая человека повсюду» проблема Другого находит воплощение во множестве работ испанского мыслителя, исследуется комплексно и разносторонне. Страх перед Другим, выступающим как небытие, неизбежно примиряет с Другим, выступающим в качестве человека «из плоти и крови», брата, способного разделить смирение в отчаянии. Подобно Дон Кихоту, он может ввязаться в борьбу за противоречивое желание найти себя в Другом и в итоге распространить себя в нем, то есть стать всем, оставаясь при этом собой.
По сути, это призыв к комплексному коммуникативному взгляду на мир при помощи Другого. Унамуно показывает возможность сближения и единения с Другим на основе общности человеческих целей. Едва ли не главная среди них – отчаянная борьба человека с фактом собственной смерти, что составляет величайшую духовную ценность. Такая философская позиция во многом определила последующее развитие экзистенциализма и предвосхитила знаменитый тезис Сартра: «Мне нужен Другой, чтобы целостно постичь все структуры своего бытия»[47].
Врач как другой в контексте «эрозии приватности»: общество, культура, искусство[48]
В. Ю. Лебедев, А. В. ФёдоровПослушайте, о чем говорят больные на улицах, в магазинах… успех медицинской практики полностью в руках женщин!.. среди ваших пациенток одни дебилки и неполноценные идиотки?.. тем лучше для вас! чем они ограниченнее, тупее, сумасброднее, тем больше у них энергии!.. можете засунуть подальше свой халат и все остальное!..
Л.-Ф. Селин. Из замка в замокСледуя структуралистской традиции, мы сочетаем в данной работе синхронический и диахронический подходы. Построение диахронии текстов, моделирующих социальную реальность, – задача, превышающая размеры статьи. Наша цель – выявить соотношения между эволюцией культуры, моделирующими ее текстами и основными типами врачей, представленными в искусстве (в том числе массовом) и фольклоре как Другие и Чужие.
Парадигмы Другого в современной культуре – исходный материал и результат взаимодействия не только различных текстов, но и многочисленных социальных установок. Восприятие Другого варьируется в диапазоне от симпатии до негативизма. В то же время существуют нейтральные модусы отношений «Я – Другой». Традиционно также понимание Другого как одного из элементов оппозиции: «свой – чужой», «мужское – женское», «Восток – Запад» и т. д. Помимо ксеноцентричных установок (Чужой = Другой), возможны и те, которые выстраивают связи с определением тождества и различия в коммуникации. Эти связи проявляются на границе двух знаковых систем культуры: приватного и публичного.
Говоря об «эрозии приватности», уместно вспомнить анекдот: «Даже если у вас установили паранойю, это не значит, что за вами не следят». О нивелировке приватности, ее поглощении публичностью известно давно, однако обсуждается это не часто: слишком болезненна тема. Описанный Дж. Оруэллом в романе «1984» тотальный контроль сегодня уже не кажется фантастической антиутопией.
Так, современный ребенок, как правило, обречен на то, что его фотографии будут размещены родителями в интернете. Еще младенцами мы вовлечены в пространство публичности. Дальнейшее развитие также проходит в условиях публичности: от регистрации в социальных сетях в период начальной школы до поиска работы и составления резюме, куда вносятся мельчайшие подробности жизни. При этом никто не застрахован от обнародования информации, которая охраняется медицинской тайной. Речь идет о болезни, терминальных состояниях и самой смерти. Отсюда обилие сетевых «криков о помощи», акций по сбору средств на лечение смертельно больного, размещений его фотографий (несмотря на то что болезнь никого не украшает) и даже медицинской документации. При этом де-юре продолжают действовать определенные ограничения на распространение приватной информации, но их неэффективность все более очевидна.
Резкое сужение пространства приватности приводит к тому, что члены социума, чувствительные к таким изменениям, оказываются «под подозрением». Так, если человек на собеседовании обнаруживает интровертные черты, мнение о нем, скорее всего, будет негативным: не умеет работать в команде, жить «корпоративным духом». Тут же последует вывод – компании не нужен одиночка-нонконформист[49].
Причины, следствия и особенности этого поведения многообразны. Одна из ключевых проблем, по нашему мнению, лежит в изменении структуры диспозиции «Я – Другой». Принципиальным моментом здесь выступает трансформация рецепции не только собственного Я (эта проблема анализировалась психотерапевтами, работавшими в рамках экзистенциальной терапии[50]), но и образа Другого. Учитывая сложность реализации этой диспозиции в социуме, а также методологический аспект проблемы, мы представим описание вариантов диспозиции «Я – Другой» с опорой на моделирующие тексты культуры.
Что касается репрезентативности теоретического анализа, то здесь необходимы пояснения:
1. Основой для формирования представлений социума о Другом являются многочисленные репрезентации в текстах культуры. Такие представления характерны не только для текстов с узкой читательской референцией (произведения классиков, исторические работы), но и для текстов массовой культуры. Моделируемая ими реальность опирается, как правило, на обыденные суждения, логику «здравого смысла», внерациональное поведение, на то, что классиками психоанализа называлось «коллективным бессознательным».
2. Пространство массовой культуры – это результат взаимодействия разнородных текстов, а также область порождения новых текстов и смыслов.
3. Представления о Другом в постмодернистской культуре базируются не только на плюрализме, но и на снятии жесткости оппозиции «субъект – объект». Таким образом, изучение данного явления средствами теоретического анализа текстов культуры, хотя и не претендует на всеохватность, но позволяет объяснять некоторые трудные для понимания моменты.
Здесь показательна роль врача, действующего как Другой на границе приватности и публичности. Сходными социальными функциями в современном обществе наделены психологи, а также священнослужители, но анализ их деятельности не входит в нашу задачу.
Как уже отмечалось, одна из важнейших функций врача в медицинской культуре – это перекодировка субъективного дискурса пациента в объективные данные, позволяющие профессионально оценить статус больного[51]. Врач выступает не столько как индифферентный Другой, сколько как проникающий в приватное пространство пациента Чужой. Пока среди медицинского сообщества действовал принцип медицинской тайны, подобное проникновение компенсировалось надеждами пациента на то, что информация о его состоянии не будет известна третьим лицам. Использование пациента в учебных и научных целях также было оправдано рядом особенностей. Маскировка приватных данных (в том числе при помощи медицинской латыни) оставалась одной из причин, по которой к врачу обращались даже с очень деликатными недугами, не опасаясь, что границы приватности будут нарушены (в романе Н. Островского «Как закалялась сталь» доктор скрывает безнадежность болезни, говоря у постели больного на латыни).
Врач всегда был Другим. Однако с какого-то момента он стал Чужим. В этом одна из причин роста антимедицинских настроений, связанных с недостаточным уровнем культурности («О природе этого демона [„демона болезни“] они ничего достоверно не знают, являясь своеобразными семиогносеомахами»[52]).
Вплоть до наступления Нового времени образ врача выступал образцом трикстера:
1. Фенотипические трикстерские признаки: особое облачение (ср. с средневековыми изображениями чумных докторов), обилие незнакомых лекарственных средств.
2. Дискурсивные признаки в виде активного использования латыни и непонятных терминов.
3. Близость медицины к эзотерическому знанию (многие врачи эпохи Средневековья были известными алхимиками).
4. Появление врача-трикстера на фоне предельных обстоятельств: выраженный болевой синдром, эпидемии, последние часы жизни человека.
5. Трактовка врачом имеющихся знаков болезни и умение замечать то, что не видно окружающим (усиливается частыми ссылками на «интуицию», как способность вполне мистическую).
Неудивительно, что врача боялись и в то же время на него надеялись. С незначительными изменениями образ врача-трикстера перешел в раннее Новое время, а коренной перелом наступил в эпоху Просвещения. Постепенно врач перестает быть философом-отшельником, склоненным над фолиантами и ретортами. Фаустовский образ врача («не от мира сего») превращается в образ «врача социализированного». Связано это в первую очередь с культурно-гносеологической трансформацией, которую дала эпоха раннего Нового времени: рационализм, интерес к физической стороне жизни, обсуждение в светских салонах не только сплетен, но и научных работ. Вспомним интерес XVII века к опытам с электричеством (У. Гилберт, О. фон Герике) или увлечение в XVIII веке месмеризмом. Эта тенденция выразилась в посещении дамами анатомических театров, демонстрации физических опытов (эксперименты А. Вольта и Л. Гальвани). Все это свидетельствует о снижении эзотеричности знания: то, что раньше было уделом избранных, в Новое время, и особенно в эпоху Просвещения, начинает претендовать на общедоступность.
Примером может служить возникшая в XVII–XVIII веках мода на клистиры. До этого клизму воспринимали как медицинскую процедуру, которую назначал и совершал только приглашенный лекарь. Это же относилось к пиявкам и кровопусканиям. Увлечение клистирами захватило весь XVIII век, когда клизма стала косметическим средством, а обращение с ней можно было доверить горничной[53]. Впрочем, инициатива, как это часто бывает, пришла «сверху»: Людовик XIII скончался, получив за месяц свыше сорока кровопусканий и несметное количество клизм. Позже над стилем медицины XVII века будет издеваться Мольер: «Почти все люди умирают не от своих болезней, а от лекарств». Стоит заметить, что смерть монарха не изменила ситуацию в медицине: самой популярной процедурой Галантного века оставался клистир.
До начала XIX века врач продолжал сохранять трикстерские черты, несколько варьируя их. Научная революция привела к коренным изменениям его образа как Другого, вызвав реванш фаустовской культуры. Тип врача, высмеиваемый Мольером, отошел на задний план, уступив место трикстеру-профессионалу, чья деятельность основана на научных знаниях. Показательны карикатурные попытки Бувара и Пекюше в одноименном романе Г. Флобера заняться медициной. Писатель высмеивает дилетантизм – результат доступности научного знания и ослабления социальной поляризации.
К XIX веку относится и деятельность врача в публичной сфере. Это не только чтение открытых лекций с демонстрацией больных и вскрытием трупов. Врач становится общественной фигурой. Показателен пример Н. И. Пирогова. Начиная лекарем Дерптской хирургической клиники, Пирогов не только признается в «Анналах» в своих врачебных ошибках, но и становится врачом-парламентером в Крымской войне. Он действует как врач-организатор, как представитель медицинской науки, не боящийся сильных мира сего и возражающий императору Александру II[54]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.