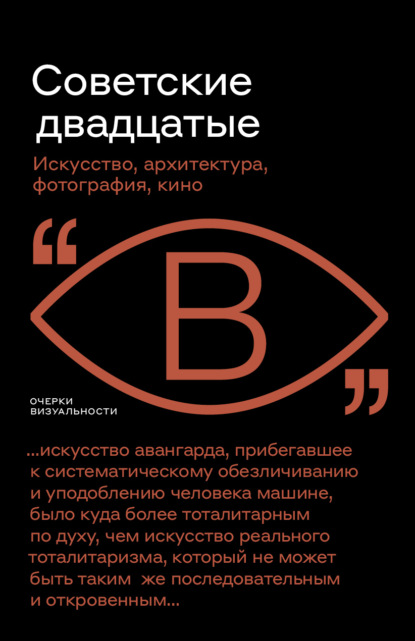Полная версия
Фотография и внелогическая форма

Екатерина Васильева
Фотография и внелогическая форма
© Е. Васильева, 2019
© ООО «Новое литературное обозрение», 2019
* * *Внелогическая форма и фотография
Современная аналитическая система считает своей основой логическое мышление. Способность к последовательному изложению, определение причины и следствия, биполярность логического сознания являются платформой, на которой построено современное рациональное знание. Тем не менее эта система не является единственной: сознание и коллективные представления часто иррациональны, непоследовательны и нелогичны. Это обстоятельство привело к хорошо известному противопоставлению логического и внелогического мышления, которому как бы соответствует первобытное и цивилизованное сознание. Такие системы представляются как взаимоисключающие и сменяющие друг друга. Между тем многие современные цивилизационные формы сохраняют элементы дологического сознания, являются его продолжением и обнаруживают иррациональные принципы суждения в тех областях, где мы склонны ожидать этого меньше всего[1]. Так называемое примитивное, или дологическое, мышление рассредоточено в современном.
Одной из сфер такого рассредоточения является фотография: техногенная, рациональная в своих подходах, ориентированная на позитивистский взгляд, она, тем не менее, содержит в себе нерациональные и алогические элементы. Хронологические и пространственные представления, классификационные принципы, иерархическая схема, системность – все эти обстоятельства нарушены последовательностью кадра и его основными понятиями. Задача данной работы – рассмотреть фотографию как феномен иррационального сознания, продемонстрировать возможность существования внелогических элементов в рамках современной культуры и проследить параметры их существования.
Внелогическая форма: вопрос определения[2]
Противопоставление логического и внелогического мышления – общее место в исследованиях цивилизационного сознания. В работе «Тотемизм сегодня»[3] Клод Леви-Стросс, цитируя Огюста Конта, говорит о том, что интеллектуальным миром управляют логические законы[4]. Их присутствие в нашем сознании настолько глубоко, что даже иррациональное пространство сновидений подвержено действию логической структуры. В то же время нам не так много известно о внелогических формах сознания, и сами термины «внелогическое мышление» и «первобытное сознание» остаются в высшей степени спорными и недифференцированными. Наиболее крупные работы, посвященные регламентации этого понятия, – тексты Леви-Стросса[5] и Леви-Брюля[6] – дают очень приблизительную картину того, что мы можем называть «первобытным сознанием» и сосредоточены скорее на описании фактических примеров этого явления, нежели формулируют универсальные принципы внелогического мышления. И тексты Леви-Стросса, и сочинения Леви-Брюля имеют главным образом политический характер: их посыл – формирование гуманистического вектора, признание равенства логической и внелогической систем и отрицание слабости «примитивных» внелогических форм. Тем не менее само представление о внелогической системе ускользает от внимания авторов: понятие «внелогического» или «первобытного» мышления связано здесь исключительно с этнографическим материалом, верой в сверхъестественное, духов и предопределение. Отстаивая политический тезис равенства, оба исследователя игнорируют факты присутствия внелогического сознания в картине современного мышления и в сегодняшней действительности.
Еще один сложный аспект, связанный с изучением внелогического мышления, – стремительное истощение этнографических прецедентов. Фактически первобытные народы Леви-Стросса перестают существовать еще до того момента, когда начинается их систематическое изучение. Исследование внелогического сознания как формы оказывается в ситуации, когда у аналитика нет или практически нет материала для сравнения. Леви-Стросс обращает внимание на фантастически быстрое исчезновение «примитивных» народов[7]. Европейская наука столкнулась с изучением внелогического сознания в тот момент, когда культуры, находящиеся за пределами цивилизационного круга, были или уничтожены, или испытали на себе воздействие цивилизационной системы. Сходную позицию занимает и Леви-Брюль[8]. Он говорит о том, что мы практически ничего не знаем о «первобытном мышлении», равно как и о границах, которые его очерчивают.
В случае с внелогическим, первобытным или «примитивным» сознанием не ясны критерии, которые могли бы его определить: ни язык, ни идентичность, ни культура, ни условный анимизм не являются фиксирующими маркерами. По большому счету не существует даже единого установленного термина, определяющего этот феномен. Авторы используют разные понятия – «архаичное сознание» (Юнг)[9], «первобытное мышление» (Леви-Стросс[10] и Леви-Брюль[11]), «мифологическое мышление» (Кассирер[12] и Мелетинский[13]) – эти термины близки, но не идентичны. И, по большому счету, в нашем распоряжении нет ни одного исчерпывающего объяснения, определения или исследовательской системы. Говоря о «внелогическом», мы обнаруживаем максимально широкий срез теорий, которые рассматривают непоследовательное, иррациональное и вынесенное за рамки цивилизационных стандартов как одну из возможных форм сознания. Мы можем считать внелогическое одной из латентных, вынесенных на периферию, но в то же время устойчивых аналитических систем, которая, вопреки ожиданиям, многое определяет в регламенте современной культуры, устройстве социальных институций в современной интеллектуальной схеме.
Представление о внелогическом мышлении – это набор разрозненных фактов и понятий. Акцент на исторической или этнической специфике материала, часто используемой для обслуживания политических целей, привел к тому, что представления о «внелогическом», «первобытном» или «архаическом» не соединены в единый механизм – большинство исследований рассматривают архаическое сознание как экзотический прецедент, а не системную форму мышления[14]. Однако в работах, посвященных проблемам первобытного сознания, обозначен и повторяется ряд принципов, которые могут быть рассмотрены как базовые для определения «внелогического».
Внимание к случайности и равнодушие к систематической повторяемости. Отклонению и аномалии уделяется особое внимание, в то же время эти факторы важны как эпизоды, нарушающие действие системы и миропорядка, но сами принципы функционирования системы игнорируются или воспринимаются с равнодушием. На это обстоятельство обращают внимание большинство исследователей – от Леви-Стросса[15] и Юнга[16] до Мелетинского[17].
Отсутствие или слабо выраженный характер категориального мышления, когда картина мира складывается из буквальных единичных компонентов, а не из формаций. Для внелогического сознания нет обобщающих понятий, не существует иерархии обозначений и категорий, в частности, нет единого слова для деревьев или рыб[18]. Леви-Брюль обращает внимание на отсутствие систематической общности как таковой и недостаток представлений о видовой общности[19]. В качестве примера можно привести способность «примитивного сознания» различать мельчайшие особенности растений и в то же время нулевую степень понимания их категориальной принадлежности.
Равнодушие к физическому опыту и как результат – нарушенные представления о причине и следствии, когда непосредственным источником событий или явлений обозначены факторы мистического толка, а не прямые физические явления. Этот принцип мышления не соотносит события с объективными физическими причинами. В частности, здесь уместно вспомнить рассказ Леви-Стросса о начале дождя, который связывают с появлением в деревне нового человека[20].
Отсутствие упорядоченных таксономических систем и целостных таксономических моделей. Объединение компонентов имеет смысловой, а не фактический принцип – в рамки одной категории попадают не связанные друг с другом с точки зрения логического сознания вещи.
Отсутствие линейных представлений о пространстве и времени. Ни время, ни пространство не воспринимаются как непрерывное целое, а рассматриваются в качестве дискретных компонентов. Об этом пишут и Михаил Стеблин-Каменский[21], и Эрнст Кассирер[22], и Елеазар Мелетинский[23].
Нарушение представлений о главном и второстепенном. Важные с точки зрения цивилизационной системы элементы могут иметь в паралогическом мышлении периферийный характер. Архаическое сознание существует в условиях равнозначности элементов, а не их соподчинения.
Отсутствие биполярного представления о мире и несводимость мира к противопоставленным категориям[24]. Исследователи обращают внимание на отсутствие противопоставления поту- и посюстороннего, на отсутствие дилеммы между живым и мертвым[25]. Леви-Брюль, в частности, пишет: «Для первобытного мышления не существует двух… миров, соприкасающихся друг с другом, отличных, но вместе с тем связанных, более или менее проникающих друг в друга. Для первобытного мышления существует только один мир»[26].
Рациональное и внелогическое – система разграничения
Перед нами очень приблизительные признаки, условно описывающие внелогическое, или архаическое, сознание. Отсутствие единой теории приводит к тому, что нам непонятны факторы или институции современного мира, с которыми могут быть соотнесены формы «первобытного» сознания. Жан Пиаже обнаруживает признаки архаического сознания в понимании структуры пространства, времени и числа у детей[27]. По большому счету одна из немногих последовательных регламентаций и описание проявления внелогического сознания в современном культурном пространстве – это наблюдение Карла Густава Юнга[28] и реплика Зигмунда Фрейда[29] о том, что фантазии некоторых душевнобольных совпадают с мифологическими космогониями древних народов. Этот тезис ставит суждение о внелогическом, или архаическом, сознании в негативный контекст, уравнивает его с психическим отклонением и душевной болезнью, с детским или неразвитым сознанием. Сама терминология – «архаический», «примитивный», «первобытный» – предполагает низкий статус внелогических форм по отношению к цивилизационному сознанию. Культурное пространство Нового времени понимает «архаическое», или «внелогическое», как неразвитое, допотопное, наивное или ущербное. Леви-Брюль обращал внимание на необходимость новой риторики по отношению к внелогическим стратегиям. В итоге разговор о внелогическом мышлении замыкается в системе этических категорий и сводится к выявлению или нивелированию преимуществ логической или алогичной системы. Все усилия Юнга, Фрейда и Леви-Стросса направлены на утверждение ценности архаического сознания, поскольку оно несет в себе зачатки современного мышления. Однако выявление разницы между логическим или внелогическим сознанием, по сути, осталось за пределами этих исследований.
Несмотря на попытки статусного оправдания внелогической формы, практически все теории рассматривают последовательность развития мышления как процесс перехода примитивного восприятия в цивилизационное, как систему преображения варварства в культурную программу[30]. Исследование внелогического сознания – это всегда разговор о генезисе логической схемы и успешном преодолении «примитивных» форм. Система академической науки рассматривает изменение мышления как эволюционный процесс, как движение от примитивной структуры к сложному и совершенному. Переход от архаического конструкта к логическому представляется частью этой модели, что предполагает заведомо низкий интеллектуальный статус внелогического сознания, подразумевает постепенное развитие от «первобытных» аналитических форм к «высшим» и настаивает на последовательном исчезновении внелогической системы как наивной и неразвитой. Это обстоятельство стало отправной точкой условной полемики Клода Леви-Стросса с Чарльзом Дарвином[31], с безусловностью дарвиновской теории эволюции и с идеей исторической последовательности как таковой. В этой дискуссии Леви-Стросс выбирает этический вектор: ему важен ценностный статус архаического мышления. Он рассматривает внелогическое сознание как равное по своему значению цивилизационному, но сам факт постановки этого вопроса говорит о возможности сомнения и неочевидности такого равенства. Таким гуманистическим жестом Леви-Стросс снимает противопоставление логического и внелогического. Но политическое отрицание разницы между двумя формами сознания делает невозможным их сопоставление и сравнение, закрывая на долгие годы исследование этого вопроса.
Сомнение в чужеродности примитивного и цивилизационного сознания – еще юнговский тезис. Он говорит о единстве логического и дологического сознания, о возможности рассматривать логическое и дологическое мышление как единый организм. Одно из возможных аналитических направлений – представление о включенности внелогических форм в цивилизационную систему. Хорошо известный пример – эпизод армейского тотемизма, упомянутый в работе Леви-Стросса «Тотемизм сегодня». Леви-Стросс рассказывает об американской дивизии «Радуга»[32], действовавшей во время Первой мировой войны и считавшей радугу своим знаком и покровительницей. Отношение к символу дивизии существовало как набор строго регламентированных правил, связанных с набором верований, поощрений и запретов. Отношение к изображению или появлению радуги было сходно с отношением к тотему. Это лишь один из возможных примеров. В то же время образцы внелогических конструкций не ограничиваются примерами бытового суеверия: они широко распространены в системах современной культуры.
Сохранность внелогического, или мифологического, сознания – одно из наблюдений Элиаде[33]. По его мнению, мифологическое сознание выжило и сохранилось: Элиаде обнаруживает его и в системе повседневного мышления, и в современном искусстве с его стремлением к апокалиптическому и эсхатологическому. Архаическое мышление как форма рассредоточено в пространстве сегодняшнего дня, является неотъемлемой частью актуального мышления, где логическая система – лишь тонкий иллюзорный налет. Здесь мы можем вспомнить реплику Рэдклиффа-Брауна, приведенную Клодом Леви-Строссом: что внелогическое мышление – «феномен универсально наличествующего в человеческих обществах, который, следовательно, появляется во всех культурах, но в различных формах»[34].
Мы можем предположить, что речь идет не о сменяющих друг друга способах мышления, а о двух сосуществующих формах сознания. «Архаические» и «примитивные» формы распространены в повседневной жизни значительно шире, нежели обычно принято думать. «Внелогическое» является системой, глубоко внедренной в повседневный дискурс, и его принципы нельзя игнорировать, обращаясь к изучению современной культуры.
Одна из сфер, где алогический принцип дает о себе знать, – фотография. Пространственная иллюзорность, взаимоотношение со временем, склонность к буквальному обозначению, отсутствие обобщений и категорий, обособленность таксономических моделей – все это сближает фотографию с архаической системой. Речь идет о сходстве принципа, подхода, взгляда. Фотография, технократический характер которой принято опознавать как один из видов современного рационализма, демонстрирует спорную связь с логической платформой и обнаруживает противостояние систематической последовательности, а не включенность в нее.
Традиция рассматривать снимок как иррациональный материал не нова. Вокруг этого наблюдения построена, например, книга Ролана Барта Camera Lucida[35]. Рассуждение Барта движется в нескольких направлениях: он рассматривает фотографию как материал, не укладывающийся в позитивистскую схему классического искусствознания; говорит о снимках как о форме, связанной с пространством памяти, об их парадоксальной хронологической схеме и, наконец, рассматривает фотографию как продолжение магического театра, подобие ритуала, связанного с пространством смерти. Особый статус фотографии связан не только с принадлежностью миру воспоминаний, но и с нарушением общепринятых цивилизационных ограничений и делений. Близость смерти становится для Барта обстоятельством сближения фотографии с миром первобытного театра.
Сходный посыл мы обнаруживаем у Бодрийяра[36]. Он рассматривает фотографию как пространство ритуала. Смысл фотографии – не только в ее чопорной последовательности и сдержанности. Смысл – в принадлежности системе кадра, обособленной действительности кадра, в нарушении непроницаемых цивилизационных разграничений – общепринятых, но скорее внешних, чем генетически укоренившихся. Фотография обращается к фундаментальным основам и поднимает пласт человеческого Я, погребенный под слоем культурных нагромождений. Фотография, несмотря на техногенную форму своего производства, обнажает архаическое измерение мысли – древнее человеческое нутро, связывающее нас с внецивилизационным сознанием – древним мышлением, которое все еще остается частью нашего характера. Фотография оказывается тем инструментом, который связывает нас с дочеловеческим.
Фотография и архаическое мышление: формы классификации и таксономии
Обсуждение таксономических и классификационных принципов архаического мышления – общее место в работах, посвященных формам первобытного сознания. В том или ином виде мы обнаруживаем эту мысль и у Леви-Стросса, и у Леви-Брюля, и у Дюркгейма. Смысл их наблюдений в следующем: внелогическое сознание с большим трудом выстраивает таксономические системы. Леви-Брюль обращает внимание на то, что цивилизационное мышление представляет собой иерархию подчиненных и соподчиненных понятий. Паралогическое мышление, напротив, оперирует представлениями и категориями, которые не связаны между собой системными факторами соподчинения. Принцип корневого таксона – объединяющей единой классификации и частных специфических построений, занимающих подчиненное положение по отношению к верхней структуре, – в архаической системе крайне редок. Система соподчинения, когда верхнюю часть конструкции образуют общие понятия таксона, а в исходящих структурах находятся элементы, наполняющие ту или иную категорию, мало отражена в архаическом мышлении. Дело не в том, что внелогическое сознание представляет собой обломки или прототип логики, как полагал Леви-Стросс, – паралогическая таксономия демонстрирует принципиально иную модель. Она использует компоненты, которые для нас второстепенны, не имеют значения и не могут быть положены в основу соподчиненных категорий.
Модель алогичной классификации была, в частности, описана Борхесом в эссе «Аналитический язык Джона Уилкинса»[37]. В тексте Борхеса мы находим отражение того, что представляет собой нестандартная классификационная модель. Рассказ об этом открывает книгу Мишеля Фуко «Слова и Вещи»[38]. Вся книга Фуко посвящена сдвигу, который произошел в западном сознании и вызвал к жизни современную форму мышления, современную систему понятий и категорий. Один из принципов современного мышления – упорядочивание вещей не только через их соотнесение со словами, но и посредством создания последовательной и разветвленной таксономической формы.
Эссе Борхеса, напротив, рисует совершенно иную картину: перечисление и называние элементов, которые практически не связаны друг с другом по смыслу или как минимум пытаются объединить в рамках единой системы явления разного порядка. Эта система демонстрирует нарушение европейской модели классификации – нарушение принципа повтора и различия, единства и общности[39]. Устойчивость цивилизационного сознания обеспечивает повторяемость и воспроизводимость опыта. Архаическая система обращает внимание на возможность небывалого и невиданного, а также на возможность его последующего воспроизведения. На поддержание этой практики направлены все ритуальные формы: повторение исключительного является частью архаической культуры. Внелогическое сознание исходит из предположения, что если чудо произошло однажды, значит, оно может быть повторено[40].
Принципы создания системы, то есть принципы классификации, никогда не постулируются. Они возникают как сама собой разумеющаяся естественная интенция. Например, как деление цветов по их принадлежности цветущим или высохшим растениям, о котором упоминает Леви-Стросс[41]. Такой принцип деления редко проявляет себя как аналитический – объяснение происходит после того, как выбор сделан и разграничение предпринято. Помимо всего прочего, классификация – это создание системы, это разделение главного и второстепенного. Таксономическая модель предполагает порядок приоритетов, иерархию важного и незначительного, основного и периферийного – то есть реализует принцип, которого в архаическом сознании нет. При этом система предпочтений – искусственная модель: ни чувственно воспринимаемый мир, ни сознание таксономического порядка не дают. И сложившееся понимание иерархических форм сравнимо с цивилизационным инструментом.
В основе привычного для нас деления – структура ценностей, которая опирается на логическую или этическую модель. Европейская система стремится к формированию универсального принципа, к обнаружению основополагающего единого начала – вне зависимости от того, каким образом эта система будет представлена – через систему научного знания или посредством божественного откровения. Создание классификаций становится основой миропорядка, где логика выступает не столько аналитическим, сколько идеологическим инструментом. Европейская таксономическая и аналитическая модель – это идеологический принцип, где рациональная последовательность становится критерием верной организации знаний, где искажение логической схемы не допускается и табуируется. Европейская классификация настаивает на реальности специфических различий, на их принципиальном характере. И в конечном итоге за логической схемой стоит система корректной организации личности, которая настаивает на том, что условное деление формирует объективную модель.
Фотография часто была сопроводительным инструментом таксономических систем, иллюстрацией к созданным извне классификаторам. Она редко формирует самостоятельную схему и скорее противостоит идее разграничения, чем поддерживает ее. Прикладная сторона снимков давала о себе знать и в ботанических номенклатурах, и в медицинских справочниках, и в проектах охраны памятников, но сама фотография редко и крайне своеобразно формировала собственную классификационную модель. Задачей фотографии скорее был сбор и представление материала, создание иллюстраций к уже существующим схемам. Например, классификационный принцип был положен в основу психиатрических пособий Дюшена де Булоня, где снимки отражали формы и виды болезни[42]. Эти изображения – интересный прецедент в истории фотографии, важный как один из первых примеров интереса к разрыву между человеческой нормой и аномалией. Изначально эти изображения возникли как иллюстрации к медицинскому справочнику, а не как изображения, реализующие художественные задачи. Психологический смысл этих фотографий был актуализирован значительно позже. В этой серии кадры не столько задают рамки самой системы, сколько поддерживают ее: классификационная схема определена другими дисциплинами (медицина, психиатрия) – фотография лишь иллюстрирует ее ход.
Одна из немногих последовательных попыток создания классификатора при помощи фотографии – архив снимков Эжена Атже, художественный и функциональный статус которых является предметом дискуссий[43]. Во время исследования этого архива, хранящегося в собрании Музея современного искусства в Нью-Йорке, Джон Шарковски и Мария Морис Гамбург высказали предположение, что при создании снимков речь, по-видимому, шла о составлении топографического каталога памятников Парижа и окрестностей[44]. На негативах были процарапаны каталожные номера, и вся коллекция делилась на семь основных разделов[45]. Когда негативы разложили по номерам – возникло несколько автономных альбомов, организованных по тематическому принципу. Пять главных разделов дробились на несколько подчиненных разделов и групп, образуя регулярное таксономическое древо. Морис Гамбург дала этим альбомам условные названия: «Картины Парижа», «Старая Франция», «Пригороды»[46]. Основной смысл этого открытия – а находка Морис Гамбург действительно изменила аналитический взгляд на работы Атже – заключался в том, что исследование позволяло увидеть архив Атже не только прикладным собранием фотографий, созданных с целью фиксации городской среды, но и формой фотографической таксономии.
В случае с наследием Атже для нас важны две вещи. Первая: попытка создания фотографического классификатора, когда стремление к созданию базовой таксономической схемы все-таки имело место. Вторая: утопический характер модели, где цель так и не была достигнута. Условный каталог приобрел очертания фантома – бесчисленное количество фотографий нарушило ясность заданной схемы и вышло за ее пределы, каталог никогда не использовался по своему прямому назначению и после смерти Атже не рассматривался как убедительная классификационная модель. Архив Атже выглядел тщетной попыткой справиться с наплывом кадров – их было огромное количество, около 10 тысяч. Заданная мастером система, по-видимому, должна была упорядочить, хотя бы отчасти, количественный хаос изображений. Но фотография тяготеет к назывному, а не систематизирующему принципу, и принцип единичного воспроизведения объектов, по сути, так и не был преодолен.