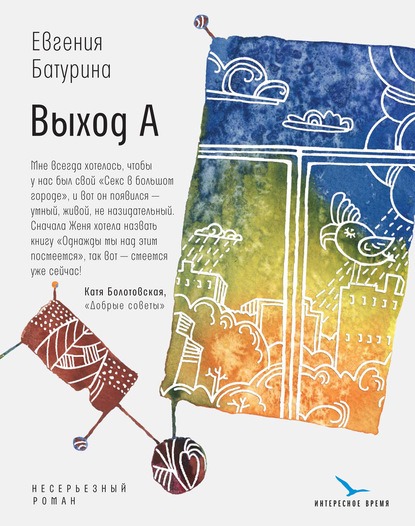Полная версия
Прискорбные обстоятельства
Снежинки мелкие, густо сваливающиеся по диагонали, пронизывают сквозное пространство крон – преимущественно тополей и лип, мягко ложатся на ресницы и брови. После двухнедельной серости и пыли – чистый день, ощущение младенчества и невинности, как после отпущения грехов в храме. Как выстиранные простыни, прихваченные морозом. Или как нетронутое, девственное озеро после очищающей адским жаром парной.
Господи, да святится!..
Бульвар тянется, по-кошачьи выгибаясь позвоночником, к парку, а там река между крутых каменных берегов, через реку – головокружительная дуга пешеходного моста. В каждом городе, где бы ни был, я отыскиваю бульвар, и когда нахожу – точно благодать Божья нисходит на душу. Ни лес, ни река, ни море не ощущаются душой так, как место моего обитания на земле. Я человек города, тихого провинциального городка с кривыми улочками, неширокими тротуарами в асфальтовых выбоинах и трещинах, с пучками ржавой травы у просевших от времени фундаментов и заборов, с древней церковью на возвышении и непременным бульварным пробором в центральной части, где растут каштаны, липы и тополя, чинно сидят на скамейках старики и старухи, обнимаются и целуются напоказ влюбленные, носятся за голубями дети, дремлют и беззубо жуют бомжи с потерянными глазами, бродят бездомные, брошенные человеком собаки. Здесь – многое из того, что питает меня ощущением непреходящей жизни, место созерцания и покоя, где мысль соприкасается с чувством. Здесь, наконец, я изредка бываю в ладу с самим собой.
Собственно, а кто такой я? Откуда взялся, за какой надобностью? Я не помню прошлого, оно только снится мне иногда. Значит ли это, что я не жил прежде и до моего рождения все в мире происходило без моего чувствования и участия? Право, непостижимо! Но многажды непостижимее то, что и после смерти все будет происходить без меня. Или где-то душа моя продолжит существование, может статься, в ином облике, смутно вспоминая обо мне как о ком-то нереальном и бестелесном?
Тут мне становится грустно, и, чтобы не походить на брошенного пса с опрокинутыми вовнутрь слезящимися глазами, того, что роется сейчас в мусорной урне, я усилием воли переключаюсь на то, что вовне.
А вовне все так же идет снег, вокруг бело и прохладно. У кафе «Старый город», за глаза именуемого «Хромой лошадью», где по вечерам собираются опрокинуть рюмочку и выкурить сигарету дорогие проститутки, студенты расположенного неподалеку агроэкономического университета в перерыве между учебными парами наскоро жуют хот-доги, курят и пьют из бутылок пиво. У многих синие от холода носы и губы, кое у кого – затрапезный вид, точно у безработного бруклинского негра, – увы, и к нам добралась эта никчемная американская мода, когда на тебе не то разношенный спортивный костюм с мешком-капюшоном, не то спецовка разнорабочего не по росту. Проезд по сторонам бульвара закрыт, и студенты заполонили дорогу, точно крикливая стая ворон, но нет-нет какой-нибудь водитель нагло проезжает под запрещающий знак и припарковывается вдоль тротуара, – еще одна примета времени, когда многие открыто пренебрегают существующими правилами и законами. Студенты во время лекций пьют, водители не соблюдают правил, пешеходы переходят дорогу, где вздумается, как священные коровы в Индии. Как говорил персонаж какого-то фильма, все мы живем в стране непуганых идиотов…
Расслабленной походкой я перехожу дорогу, и у меня за спиной вдруг лихо проскакивает под запрещающий знак и припарковывается у входа в кафе серебристый «Лексус». Чтоб тебя! Невольно я вздрагиваю, ощущаю между лопаток сквознячок, но в то же время меня охватывает неистребимая тоска по автомобилю: хочется немедля сесть за руль и ехать, ехать, ехать. Но я знаю, что при моем образе жизни пеший ход – панацея от многих бед, и потому усилием воли ускоряю шаг: прочь, прочь! – от инфаркта, инсульта, гиподинамии, от ноющей боли в коленках, от склеротических бляшек в сосудах, от всяческой иной дряни, подло донимающей всех нас на исходе жизни.
Кто бы мог подумать, что в таком возрасте я буду спасаться ходьбой от старческих болячек, хотя, по моему глубокому убеждению, для меня еще не прошла пора волочиться за женщинами, кутить с ними в кафе и ресторанах, отплясывать рок-н-ролл и возвращаться домой на рассвете. Но это – как мысли о смерти, которая случается с другими, но для меня никогда не наступит. Ах, а ведь совсем недавно я был еще горяч и подвижен! И вот молодость ушла, а чувство, что все еще впереди, осталось. Парадокс, да и только! Оптический обман сущего, иллюзия бессмертного «я». А в итоге все будет, как и всегда было. Без исключения. Без жалости. Без снисхождения к тем, кто, возможно, достоин иного…
Так, может, не ползти по бульвару, а ухватить за хвост улетающую жизнь и нестись, мчаться в вихре событий и чувств, пока не расшибешься где-нибудь на повороте – раз и навсегда?! Как этот молодящийся Геглис-шмеглис… Взять с собой Аннету – и в Карпаты. Или на юг: зимнее море, обледенелый пирс, живое женское тепло под доступной кофточкой, прерывистое дыхание, бесстыдные губы… Если конец один, то – ярко и со вкусом, а не затхло, в подштанниках и с горшком под кроватью… Эх-ма! Безмозгло, скучно, однообразно, безнадежно устроен человек: когда есть силы и молодость, он приготавливается жить, а едва приготовился – уже, в сущности, ничего не может…
По бульвару наискосок, по направлению к управлению внутренних дел, тараканьим ходом побежали сотрудники управления службы безопасности; им навстречу, растекаясь по закоулкам и кафе, рванули оперативники управления по борьбе с организованной преступностью. Две конкурирующие службы располагались по обе стороны бульвара, по своеобразной диагонали, и после ежедневной пятиминутки, как всегда взмыленные и пропесоченные, опера неслись «на отходняк»: выпить кофе с коньяком и выкурить сигарету, в ближайшей подворотне «перетереть» с нужным человеком, озадачить шкурным вопросом перепуганного бизнесмена, слить информацию друг другу.
– Здрасьте, Евгений Николаевич!
– Евгений Николаевич, кофейку?
– За компанию… А, Евгений Николаевич?..
Я важно, с достоинством киваю, не поворачивая головы и поджав губы, порой сдержанно улыбаюсь тем, кто мне симпатичен, но опера не моего поля ягода. И пусть сегодня суббота, у меня выходной и я мог бы позволить себе не тащиться на работу, а расслабиться за чашкой-другой… Нет, близкие мне по положению и духу люди сегодня в отъезде, а пить с кем ни попадя – дурной тон пролетающих по жизни впустую, ничего путного не добившихся неудачников, наподобие засидевшегося у меня в старших прокурорах отдела Павла Павловича Мешкова. Этот хоть и добрый малый, но живо намешал бы в компании с каким-нибудь опером водки с пивом!
А еще томление духа и какая-то неистребимая горечь – февраль и снег, февраль и снег – увлекают меня, точно в черную слепую воронку, прочь от шума и суеты – все вниз и вниз по бульвару.
Я пересекаю перекресток и иду по последнему отрезку бульвара, за которым – хаотически перечерченное заскорузлыми, дрожащими от холода ветвями пространство парка, грязновато-черное с белым.
«Вот так, положим, бесцельно шел бы человек моего положения, моей наружности, с моими комплексами и недостатками – вполне невинный, утомленный жизнью человек, и вдруг произошло бы нечто из ряда вон, – думаю я, безуспешно пытаясь побороть все-таки привязавшуюся исподтишка меланхолию. – Послышались бы за спиной торопливые шаги, позвал бы какой-нибудь робкий голос, малознакомый, так, нечто смутное, дальние ассоциации… Как-нибудь так позвал бы: «Евгений Николаевич!..»
– Да, дорогой?
– Евгений Николаевич, если можно – на два слова! Только где-нибудь в стороне… Я Арапов, из отдела по борьбе с коррупцией. Вы меня, наверное, не помните, – я всего несколько месяцев, как в отделе…
Арапов? Какой такой Арапов? Не помню никакого Арапова!
Я делаю удивленные глаза и в то же время недовольно нахмуриваю брови, складываю ижицей губы, с усилием вдыхаю ноздрями прохладный воздух: мол, какого лешего тебе, Арапов, от меня надо – в субботу, да еще не по чину?!
Опер округлый, чернобровый, похожий на правоверного татарина, приготавливающего бешбармак: руки бегают, в глазах – затравленность новичка, трудно привыкающего к каждодневным разносам и матерщине. И еще страх: как бы кто не увидел и не донес до начальства о преступной инициативе «снизу». С доносительством у нас и в самом деле порядок: как же не доносить, ежели служба велит?! Свои же и донесут! Хотя о чем, собственно, речь? Говорят, на Западе стукачество давно уже стало доблестью, а у нас все еще как бы постыдно. Другое дело негласно – приятно и, главное, полезно кое-кому нашептать на ушко…
Так в чем же дело, Арапов?
Опер по касательной наконец ловит мой взгляд и тут же уводит глаза в сторону и просительно взмахивает бровями: мол, пойдем спрячемся от греха… И сам же семенит в сторону, в боковую парковую аллею, к детской площадке, где в праздничные дни дамы определенного толка любят выпить и закусить на природе с незнакомыми мужиками. «Эй, мужчина! – в какой-то миг припоминаю я зазывное воркование одной из таких дам, плывущее от скамеечек, качелей, маленьких деревянных домиков. – Выпить не хотите? Все-таки праздник…» Надо же, сколько всего схлынуло и забылось, а это вдруг вспомнилось!..
4. Парк
– Евгений Николаевич, – Арапов смотрит на меня как бы снизу вверх, хотя не намного ниже меня ростом, и в глазах его – какая-то восточного толка тоска, какая-то обреченность – быть здесь, сейчас, со мною, а не где-нибудь у стойки бара с рюмкой водки и бутербродом в руках или на стрелке со стукачом. – Что-то затевается, не знаю достоверно что, но… Одно знаю: подлянка! Нет, я не потому, я с благодарностью… Вы меня выручили когда-то… Одним словом…
– Что вы мямлите, как вас там?.. Арапов!
Я все еще величественен, однако же запрятанная в душе каждого из нас трусость уже ухнула и завертелась во мне. Неприятное, скажу вам, ощущение – внезапно образовавшаяся воронка, пропасть внутри самого себя! Не то чтобы мне было чего бояться, и однако же человек так устроен, и так тесен мир, и законы этого мира таковы, что никто не может чувствовать себя свободным от них, а значит, не виноватым никогда и ни в чем.
– Евгений Николаевич, я взаправду не знаю! Спросили о том, об этом – информацию всякую… Как бы между делом… Но, мне кажется, вас взяли в разработку.
Арапов сглатывает, передыхая: уф, сказал, и точка! – и густые восточные брови его страдальчески приподнимаются и тянутся к переносью.
У меня же, напротив, – и я это явственно ощущаю – лицо скомкалось и оплыло мышцами книзу, так что стыдно стало и этого ничтожного Арапова, и себя самого, курирующего по службе в прокуратуре области упомянутые выше подразделения, да еще умудренного опытом и сединами. «Настоящий полковник!» – с неподдельной издевкой шпыняла меня в сложные минуты жизни жена. Такой ли уж настоящий? Хотя, не в оправдание будет сказано, многие практики сыска и досудебного следствия сходятся во мнении, что легче всего на допросах «раскалываются» бывшие профессионалы – милиционеры, прокуроры, судьи, адвокаты, нотариусы. Они же «мусорят» безоглядно, то бишь на месте преступления оставляют за собой всяческие следы и наводки, прокалываются в ситуациях, где какой-нибудь среднего ума уголовник семь раз по семи поостережется.
«Что, Евгений Николаевич, накаркал с проклятой своей меланхолией? Напросился?! Получай свое “из ряда вон”»… – пеняю себе я, а вслух, выпятив губы, вопрошаю с неподражаемой интонацией прогрессирующего тупицы:
– И что же из этого следует, Арапов?
– Нет, пока ничего конкретного. Намеки там, типа: не может быть, чтобы у вас за столько лет службы и никакой коммерции – магазинчика, кафе или какой-нибудь посреднической конторы! Спрашивали: мол, что мы за опера, если не знаем, оформлено у вас все это на жену, на детей или родственников, а может, на любовницу? Сказали: раз такая крыша (это вы крыша), – под ней непременно должно что-то крыться. В смысле: кого-то вы прикрываете. А никто ничего и не знает. Тогда стали интересоваться: как вы в быту, с соседями ладите или есть конфликты и что у вас на стороне, какие привязанности и интересы: ну, там, бильярд с авторитетами, банька с девочками, антиквариат. Одним словом, всю подноготную…
– И?..
Арапов смотрит на меня с того рода удивлением, с каким глядят на обставленного флажками волка: что же, крепко попался? а ну как выпрыгнет – и за глотку!
– Нет, пока ничего конкретного. В смысле – никакого компромата. Все как бы между прочим, по мелочам, – тянет он с невольно проступающим на простоватом лице сожалением: не напрасно ли впутывается, к той ли стороне пристал, а ну как волк и не волк вовсе? – Но мы ведь не пальцем деланные, наша задача – понимать с полуслова. А еще, после всей этой тягомотины, нас выпроводили, а доверенных оставили – для отдельного разговора: Деревянко, Костика, Смурного…
«Кажется, серьезно… – в моем мозгу наконец выкристаллизовывается из месива мыслей главная, и гудит, и пульсирует вместе с сердцем и наперегонки. – Но в чем причина? Из-за чего? Кому перешел дорогу? Ведь ничего в этом сволочном мире так просто не бывает!»
– Вот что, Арапов, – я медлю, как бы взвешивая каждое слово, хотя сознание сумеречно, в голове – каша, и сказать-то мне Арапову, по существу, нечего. – Вся эта бодяга, скорее всего, – проверка на вшивость. Типа: мы поставили задачу – информация засветилась, – значит, кто-то информацию слил, в управе «крот». И уже неважно, что слил – в прокуратуру… Поэтому первое: никому ни слова. Молчание – золото. Второе: поставленную задачу вам надлежит добросовестно выполнять. Третье: о выполнении и результатах первым должен знать я. Извольте купить новый стартовый пакет, а еще лучше – вместе с новым телефоном, но по мобильному не болтать, только где и когда!.. Ты-то сам нигде не засветился, парень? Может, это тебя пасут, и поэтому провоцируют – так примитивно и грубо?
У бедного опера округляются глаза и дрожат губы, он тяжело дышит – с прикладыванием руки к сердцу: мол, ни-ни, ни сном ни духом, ни в чем предосудительном не замешан! Что же, разумеется, это жестоко, но тревога, разделенная пополам, уже как бы и не тревога.
– Что думаешь делать дальше? – дожимаю я, отечески кладя руку на плечо Арапову.
– Сказано: по связям… Друзья, знакомые, женщины… Но я могу прикинуться шлангом…
Ни в коем случае! Если этот олух царя небесного о чем-либо пронюхает, значит, смогут узнать и другие. А ведь мне первому желательно дознаться: какая информация обо мне ходит по городу и, если таковая ходит – рано или поздно выплывет наружу? Что просочилось сквозь мое сито – сквозь молчание, полунамеки, жесты, неосторожные слова – и осталось незамеченным для меня, обмануло мою бдительность, из какого видимого пустяка может вырасти угроза?
И я, наклонившись к лицу опера, шепотом даю последние наставления: как будем поддерживать связь в дальнейшем, где станем встречаться, с какой периодичностью, и как поступать, если ситуация выходит из-под контроля или не терпит отлагательств.
Бедный Арапов! Сожаление о содеянном есть чувство запоздалое, сродни раскаянию, когда пути обратно уже не существует. Что значит наивность и неопытность, какой горькою стороной оборачиваются для нас привитые со старым режимом порядочность и простодушная честность! Какой-нибудь, как теперь говорят, продвинутый мент сидел бы теперь в теплом кабинете, обдумывая, как, у кого и где подсобрать на меня компромат, и мысленно вертел бы очередную дырочку на погоне. Арапов же по собственной инициативе, похоже, влип в историю: он теперь «свой среди чужих…» А находиться между двух огней, да еще с остатками совести – не приведи господи!
– Не дрейфь, Арапов! Все будет путем! – ободряюще шепчу я, как шепчут супермены в бездарных отечественных фильмах, но, судя по всему, этот шепот не придает оперу бодрости. – Зовут-то тебя как?
Володя… Его зовут Володя, он вызывает у меня обыкновенную человеческую жалость и желание облегчить его участь – отпустить восвояси. Но мое сердце неумолимо висит над пропастью, а в таких условиях жалости места нет. Топор войны вырыт, кони топчут траву и бешено грызут удила. Вперед, Арапов! Что же ты, Арапов? Эх!..
А как давеча было уютно и покойно на этом свете: утро, февраль, снег! «Покой нам только снится…» Мало того что мы в муках рождаемся и умираем, – жизнь показывается для нас то с белой, то с черной стороны. Для чего это нужно? Чтобы душа не сморщилась от лени и не прилипла к желудку? Или мы, потомки тех, кого свергли из рая на грешную землю, обречены на страдания и грязь, дабы неповадно было вкушать запретный плод без Божьего соизволения?
Я гляжу с искренним сожалением, как вприпрыжку, заплетая ногами, скрывается за пеленой снега Арапов, и представляю в своей руке пистолет, щурюсь на убегающую спину сквозь мушку и, все так же сожалея, нажимаю на воображаемый курок: бац!..
И следом подступает откуда-то изнутри пустота, и всасывает в себя, точно вакуум, и полонит все и вся: сознание, мысли, ощущения, чувства… Господи боже мой! Господи, Боже мой! Что, о чем, для чего? Как неспокойно сразу и одиноко! Неспокойно – потому как мерещится за деревьями кто-то, глядит, сдерживая дыхание, отслеживает каждый шаг. Одиноко – потому как один на один со всем миром и спасение от этого мира – ты сам. И еще – вступает в действие притча о цепи и собаке: то ли ты держишь собаку на цепи, то ли она держит тебя…
Еще секунду-другую я топчусь на детской площадке, промелькивают в памяти пьющие из бумажных стаканчиков женщины, зримо и явственно – кровавая полоса помады по мятому бумажному краю, – и тут на меня накатывает неизъяснимое желание выпить, надраться и забыть обо всем.
«Ни в чем не виноват… Не за что так меня… Какая же гнида, а?!»
Но уже проскальзывает и иное: какие-то случайные и неслучайные лица, застолья, машина в гараже, дача на кудрявой опушке… В этом мире не бывает невиноватых! Каждый хотя бы раз оступается. Как говорят англичане, «у каждого свой скелет в чайном шкафу». Вот только наказывают далеко не многих – в основном за украденный доллар, а «…украдешь миллион – сделают сенатором».
Тут одиночество становится и вовсе невыносимым. Я оглядываюсь вокруг – все снег да снег, вот уж несет, прости господи, и оттого деревья в парке, сооружения и убогие скульптуры павшего соцреализма – сумеречные, размытые, как бы высовывающиеся на минуту-другую из небытия. Прочь, прочь! Я иду, оскальзываясь, неуверенно переступая через припорошенные неровности асфальта, не зная, куда и зачем. Недавней февральской тоски нет и в помине – есть давящий ком в том месте, где должно находиться сердце, и ощущение полной потерянности в пространстве.
А что же Арапов? Как и не было никакого Арапова, словно сквозь землю провалился этот Арапов. Может быть, привиделся, думаю я в поисках успокоительной отдушины, может, это проклятый февраль своим нежданным снегопадом навеял на меня необоримую душевную смуту? Но тогда… так бывает, по правде говоря, когда крыша едет. А ведь едет голубушка, как едет!..
Экая мерзость, или попадалось слово еще гаже: экая мерехлюндия!
5. Мост
Однако нехорошо, не по-доброму устроена наша жизнь. Какой-нибудь сумеречный дурак изрек бы: непредсказуемо, – но мне судьба представляется распечаткой электрокардиограммы, где взлеты и падения означают жизнь, прямая же адекватна смерти. Все хорошо бывает только при отключенном сознании, в психиатрической больнице, в тесно очерченном пространстве – да и там вдруг захочется чего-то эдакого, какого-нибудь аленького цветочка. Но с другой стороны, неудовлетворенность, неприятность, беда для человека – некий жизненный стимул, позыв к движению, необходимость выказывать сопротивление, стремиться дальше и дальше.
Внезапно я представляю себя абсолютно счастливым, без желаний и огорчений, беспечальным дауном, и содрогаюсь – как если бы заглянул в зазеркалье, а оттуда глянуло мне в глаза нечто…
«Вот и хорошо, – говорю я себе с напускной бодростью, – вот и прекрасно! Пошла полоса спада. Вывод: надо поменьше спать! Какой, к черту, февраль! Немедля встряхнуться, прогнать по телу кровь! А то ведь не повернуть уже головы – в затылке треск, в позвонках соли; суставы ноют – из организма спиртным и лекарствами вымыт кальций. Ну уж нет, как говорят в Бердичеве, не дождетесь!..»
По покатой, скатывающейся к мосту через реку аллее я направляюсь неведомо куда – нагружаю ноги, точно в них одних для меня сейчас спасение. Но ступать твердо и решительно не удается: подошвы скользят и разъезжаются, так что несколько раз я едва не взлетаю кверху башмаками. На мост меня выносит на предельной для моего возраста и комплекции скорости, я принужден хвататься по пути за перила и притормаживать, чтобы не стать – господи спаси! – подобием шара для боулинга и не покатиться, перемежая ноги с руками…
– А-а, чтоб тебя!..
Мост высок и длинен, глубоко внизу – обледенелые берега с черными прогалинами воды там, где быстрое течение вылизывает лед изнутри. Высота с детства внушала мне ужас. Но теперь, с усилием перебарывая легкую дурноту, я заглядываю вниз: что, взяли? не на того нарвались! Вода местами дымит, дым сумеречно-серый, свинцовый, сырой, тяжко ползающий у самых прогалин. Чуть в стороне, где лед толще и прочнее, над невидимыми с моста лунками – нахохленные, выдубленные спины рыбаков. Вот и еще один образец сиюминутного счастья: выковырять во льду отверстие в иной мир и пялиться туда, забыв обо всем на свете, кроме поклевки и выдернутого в чуждую, смертную среду несчастного пескаря!
А в этом мире, как оказалось, с некоторых пор ловят меня…
Итак, пока я один (только какая-то баба в платке, с мятым полупустым полиэтиленовым пакетом, чешет через мост на полусогнутых мне навстречу), нужно собрать мысли воедино, как говорится, сотворить систему из хаоса.
Если Арапов – дурак или путаник или имеет место быть какая-нибудь нелепость, если взять за основу сие предположение – тогда можно наплевать и забыть об этой истории.
Теперь следующий вариант: все всерьез. А если всерьез, то необходимо просчитать: я где-то прокололся? пасли кого-то и вышли на меня? – налицо тупой, элементарный заказ? Если последнее, то: кому-то не угодил? имеются виды на мою должность? другие возможные варианты?
Хуже всего, разумеется, если выполняют заказ: такая ситуация просчитывается наиболее сложно, заказчик до последнего станет выжидать и рядиться, скажем, в приятели, сочувствовать и выспрашивать о возможном моем противодействии (если находится рядом), а то и вовсе вынырнет в печальном финале, при передаче дел – от меня ему. Одно здесь ясно: человек он непростой, вхож на верхние этажи пирамиды, и потому вероятны влияния извне, наезды, указания или все вместе взятое. И еще: если подключили спецподразделение, а не учинили простую и примитивную проверку работы отдела – значит… а это значит… Это значит, что заказ маловероятен. Или заказчик не близок к руководству прокуратуры и потому ищет компромат через людей, которых хорошо знает в других ведомствах.
Что ж, при таком варианте имеются плюсы. Например: операм ставят задачу, естественно, не разъясняя причин. Нечеткая задача, в свою очередь, порождает нечеткое исполнение: нахватают того, что лежит на виду, а чего не сыщут – на то и суда не будет. Но есть и минусы: не станут бить в точку, пойдет распыление: каково происхождение, чем занимался до семнадцатого года, кто у него, то есть у меня, внучатая племянница?.. Примутся выискивать сомнительные связи, девочек с саунами, рыться в бумагах на недвижимость… И непременно что-нибудь выудят: ведь человек не живет в безвоздушном пространстве, какая-нибудь, образно говоря, инфекция нет-нет да и прилипнет.
– Если сдохнуть, то умело, чтоб на сердце праздник был! – бодрясь, мямлю я озябшими, непослушными губами стишок, придуманный мной когда-то для собственного ободрения в безвыходных ситуациях.
– Ась, сынок? – немедля откликается рядом бодрый старушечий голосок, и я, от неожиданности оскальзываясь на ровном месте, вижу в метре от себя ту самую бабку в платке, которая издалека шла по мосту мне навстречу и, неизвестно каким манером, вдруг вынырнула у меня под рукой. – Подай, милый, на хлебушек сколько не жалко!
Я роюсь в карманах, сую в протянутую ладонь мятую бумажку, а сам искоса, чтобы не глаза в глаза, всматриваюсь в это субтильное существо, вплотную приблизившееся к черте жизни человеческой. У бабки размытые годами водянистые зрачки, но осмысленные и цепкие, как впившиеся в кожу стекляшки. А еще мне кажется, она ночами летает на помеле и, хохоча, пугает поздних прохожих. Точно в сказке: сейчас вот притопнет, прихлопнет и обернется ведьмой, – невольно думаю я, ощущая на загривке озноб. «Ах ты, гой еси, добрый молодец!» – или как там говорят эти бестии и произносят заклятие. Ну-ка? Нет, не произнесла. Сморгнула, пожевала губами, пошла – в свою жизнь, жить-доживать. Соприкоснувшись с моею. И что? Сравнить ее и меня – так она более естественна в этом мире. Более создание Божье, чем я. Без мысленных выкрутасов, без противоестественной профессии – преследовать подобных себе. И вот теперь открылась охота на меня. За что? В наказание за грехи, за бездушие, за преобладание плотского над духовным?