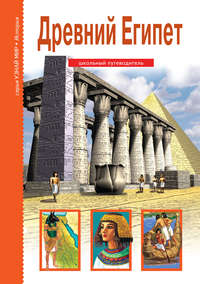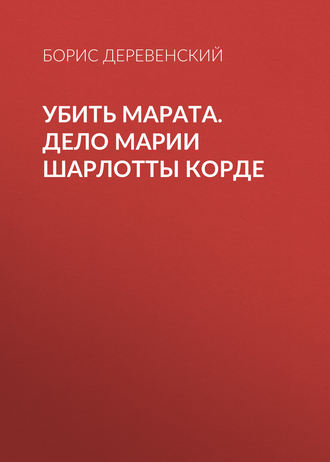
Полная версия
Убить Марата. Дело Марии Шарлотты Корде
Париж. Первый час пополудни
Бил час пополудни. Мария Корде быстрым шагом дошла до конца улицы Вье-Огюстен и устремилась к Пале-Роялю, по пути удостоверяясь у прохожих, верен ли её маршрут. Огромный город бурлил жизнью. Пешеходы спешили по своим делам, по мостовым проносились фиакры и кабриолеты, гремели колёсами гружёные телеги. Смех соседствовал с руганью, скрежет железа – со звуками виолончели. Никаких признаков надвигающейся грозы. Похоже, Парижу было абсолютно наплевать, что от него отреклись департаменты, что отовсюду уже движутся к нему войска федералистов, и ему угрожает настоящая осада. Здесь царил свой мир, своя жизнь, своя Франция. Подобно гигантскому киту, Париж горделиво рассекал волны, ударяя хвостом и пуская фонтан, не обращая особого внимания на снующую вокруг него мелкую рыбёшку. Париж занимался только собою. Так было не только в дни Революции. Так было всегда.
Впрочем, Революция внесла существенные коррективы, окрасила город в свои тона, наложила на него свой неповторимый отпечаток. Хотя Корде было недосуг вглядываться и изучать столицу, несколько вещей всё же не могли не броситься ей в глаза. Первое, на что обратила внимание провинциальная гостья – это великое множество афиш и прокламаций, печатных и рукописных, на холсте и бумаге, с рисунками и без. Ими было оклеено и увешано, кажется, всё: ворота и арки, колонны и пьедесталы, порталы церквей и перила мостов. Плакаты славили, взывали, стенали, грозили и улюлюкали: «Да здравствует Республика единая и неделимая!», «Национальное возмездие: смерть Бриссо, Петиону, Барбару и их шайке!», «Изменников-генералов под суд!», «Марата в диктаторы!». С фронтона театра Республики, выходящего на площадь Пале-Рояля, свисало большое полотнище, на котором были начертаны строфы из только что опубликованной песни Аристида Валькура:
Изменническим был Сенат,Где зажигался каждый взглядО деспоте заботой.Париж восставший, наконец,Низвергнул золотой венецПо воле санкюлота.Не монтаньярами ль данаНам драгоценная казна,Надежда патриота?Кому обязаны теперьМы Конституцией? Поверь:Уму лишь санкюлота.[50]Но чаще встречались афиши с народными стишками в духе «Папаши Дюшена»:
Сговорились бриссотинцыВ короли поставить принца[51],Задушить у нас свободу,Кандалы вернуть народу.Их манёвр раскрыл Марат,Приказал всем бить в набат.Генерал наш АнриоВышел с саблей наголо,И в минуту жирондистыРазбежались точно крысы.Ныне на охапке сенаЖдёт их дочка Гильотена.На каждом углу торговали газетами, журналами, брошюрами-однодневками, повсюду валялись листовки-летучки, снующие мальчишки выкрикивали названия периодических изданий и тут же пересказывали их статьи. Разумеется, и в Кане имелась своя периодика, регулярно выходили Бюллетень директории департамента, «Афиша Кальвадоса», ещё три-четыре издания. Но чтобы такое обилие бумаги!.. Там, где её не хватало, писали краской и мелом на стенах или прямо на тротуарах. Чтобы прочесть всю эту ежедневно обновляемую публицистику, двадцати четырёх часов явно не хватало, даже притом, если не отвлекаться на оба завтрака и обед и забыть про сон.
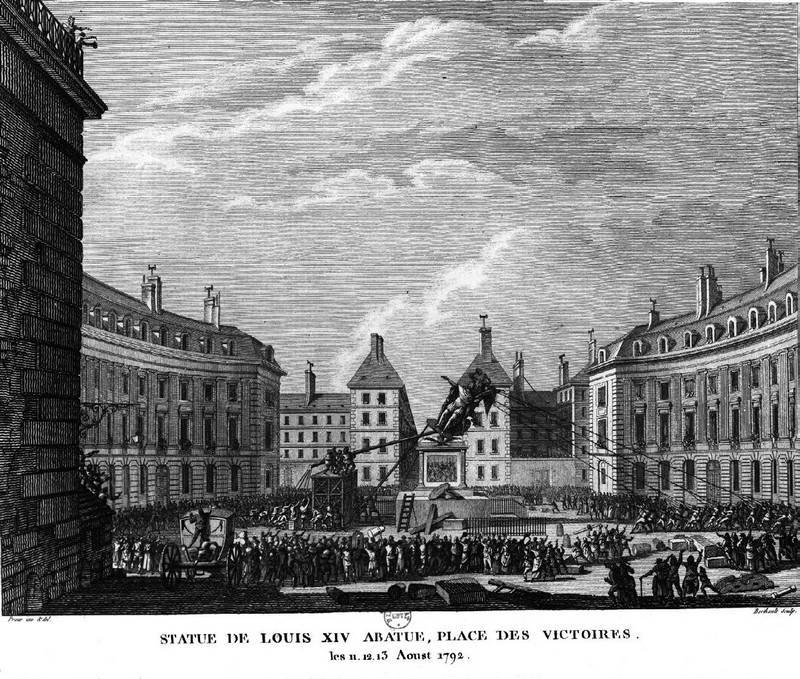
Париж, площадь Национальных Побед. Гравюра 1792 г.

Проспект гостиницы «Провиданс», который Корде вручила Дюперре.
Второе, что привлекло внимание Корде в «сердце Революции» – это бойкая торговля вразнос. На воротах больших торговых павильонов висели замки, но улицы были запружены продавцами обоего пола и всех возрастов. Нельзя было пройти и десяти шагов, чтобы не натолкнуться на какого-нибудь лотошника. Многие горожане раскладывали товары на пороге своего дома: это был их домашний скарб. Навстречу то и дело попадались озабоченные люди, толкающие перед собою тележки, доверху наваленные всяким тряпьём, обувью, головными уборами, посудой и антиквариатом. Очень много тряпья и рухляди.
Мария знала, что это отнюдь не признак благополучия. Когда начинают сбывать всё, что придётся, – значит, не хватает еды. Когда за позолоченную раму картины лотошник просит три су, а рядом в булочной батон стоит пять, следовательно, что-то не в порядке в этом королевстве. Цена на хлеб показательнее и красноречивее любых плакатов и афиш, всей этой показной бутафории. Горделивый кит Париж на поверку страдал расстройством пищеварения, нарушением обмена веществ, и на боках его уже проступала болезненная синюшность.
Впрочем, то было только начало. Ведь ещё стояло лето 93-го, а не зима 94-го, шёл только второй месяц господства Горы. Ещё не ввели карточки на хлеб; Париж ещё не вкусил настоящего голода, не знал «хвостов» – нескончаемых очередей за крупой, за яйцами, за мылом, за свечами, когда при лютой стуже очередь занимали с вечера и стояли всю ночь; ещё были открыты кофейни и рестораны; ещё не грянул финансовый кризис и не обесценились окончательно ассигнаты. Всё это было ещё впереди, и народ по-прежнему стекался в столицу, а не бежал из неё в деревню, где всегда можно хоть как-то прокормиться.
…На площади Равенства (бывшей площади Пале-Рояля) Марию едва не сшибла с ног проносящаяся мимо чёрная карета, которую сопровождал конный эскорт гвардейцев с саблями наголо. Подобное бывает только тогда, когда проезжает какая-то важная персона. Мария мельком увидела в окошке кареты чьё-то лицо, и оно показалось ей знакомым. Кажется, именно так на плакатах изображают Марата. «Вы знаете, кто это проехал?» – с тревогой спросила она торговцев зеленью, расположившихся перед рустованными колоннами Шато-д'О, но те в ответ пожали плечами. «Может, это кто-то из правительства?» – подсказала она. «Может быть… – отозвались торговцы с неохотой. – Здесь всякий раз кто-нибудь проезжает».
Несомненно, это был Марат! Это было его лицо. И презрительная усмешка, игравшая на нём, свидетельствует об этом лучше всего. Так усмехаться может только главарь разбойной Горы. Он пронёсся мимо Марии будто бы нарочно, чтобы подразнить её. Не успела она приехать в Париж, а он уже тут как тут. Она ещё только расспрашивает о нём и наводит справки, а он уже несётся ей наперерез с усмешкой уверенного в своём могуществе повелителя. Его карета промчалась в каком-нибудь полушаге от неё. Так кто из них преследователь, а кто преследуемый?
Карета скрылась из вида, удаляясь по улице Сен-Оноре, но Мария всё ещё смотрела ей вслед, поражённая неожиданной встречей с тем, ради кого она и явилась в столицу. Впрочем, замешательство её продолжалось недолго. Усилием воли она встряхнулась и попыталась рассуждать здраво. Её мысли были заняты Маратом, – вот он и чудится ей в каждом неизвестном, промелькнувшим перед глазами. Это всего лишь плод её воспалённого воображения. Может быть, в карете сидел совсем другой человек. Нельзя быть такой мнительной. Не следует терять рассудка. Нужно крепко держать себя в руках и спокойно продвигаться к намеченной цели. Шаг за шагом, пусть медленно, но твёрдо и непоколебимо.
Небольшая улица Сен-Тома-дю-Лувр, названная по имени расположенной на ней протестантской церкви Сен-Тома, рассекала жилой массив, находящийся между Лувром и дворцом Тюильри. На этой улице, в отеле Рамбуйе в своё время собиралось самое изысканное общество Парижа, – то самое собрание, которое Себастьян Мерсье восторженно называл Палатой Ума. Теперь в этом отеле заседал Генеральный совет секции Общественного договора. Название для своей секции местные патриоты взяли из сочинений Руссо и очень гордились таким выбором. Странно, что при этом они не потрудились переименовать и саму улицу, оставив ей прежнее «рабское» имя.
Нашей героине требовалось найти на этой улице дом номер сорок один. Тут ей предстояло наглядно убедиться в том, насколько запутана нумерация парижских домов, что давно уже стало предметом нареканий и сетования рассыльных, почтальонов, полицейских, газетчиков, да и всего делового мира столицы. После ноябрьского декрета 90-го года каждая секция по своему произволу присваивала номера домам, не считаясь с соседними секциями и вообще игнорируя какие-либо правила. На улице Сен-Тома-дю-Лувр первый дом после Шато-д'О носил номер 64, а следующее за ним здание имело табличку с номером 52. Далее по той же стороне улицы следовали номера 50, 47 (!?) и 46. Похоже, здесь не только не отличали чётные номера от нечётных, но и вовсе разучились считать.
На другой стороне улицы картина была не лучшей: за номером 53 следовали номера 51, 47 и 43 (причём № 47 уже был на противоположной стороне!). В такой неразберихе найти требуемый дом составляло немалого труда. Марии несказанно повезло, что она относительно быстро натолкнулась на табличку с номером 41, висевшую на боку несколько выступающего из общего ряда здания. Это был приличный особнячок в четыре этажа с белыми колоннами на фасаде и рустованным цоколем. Под карнизом большими буквами тянулась положенная надпись: «Отечество, Свобода, Равенство». При входе в дом, с правой стороны двери красовался список жильцов, – последнее достижение революционной гласности[52], – в котором имена располагались в столбик:
«Гражданин Босанкур; квартира № 1; всего 4 человека.
Гражданин Пуарье, продавец вина; квартира № 2; пять человек. Гражданин Сен-Бернар, нотариус; квартира № 3; всего 7 человек. Гражданка Морель, модистка; квартира № 4; пять человек и ещё кузина, приехавшая из департамента Об.
Гражданин Дюперре, представитель народа; квартира № 5; 4 человека.
Гражданин Февре; квартира № 6; всего 4 человека.
Да здравствует Республика единая и неделимая!»
Сделанная в конце приписка являлась своего рода коллективным заверением перечисленных лиц в своей благонадёжности.
Корде вошла в вестибюль и встретила сидящего консьержа.
– Спасение и братство! Мне в пятую квартиру, к гражданину Дюперре. Это какой этаж?
– Дюперре нет дома, – последовал ответ.
– Где же он? У меня для него посылка.
– Известно, где: в Собрании.
– А в котором часу заканчивается заседание?
– Когда как. Бывают и по два заседания в день, бывает, заседают до полуночи.
Мария призадумалась.
– Что же мне делать? Есть кто-нибудь в его квартире, кто может принять посылку?
– Прислуги они не держат, – пояснил консьерж, – а гувернантка от них съехала. Вот разве что его дочери… Они сейчас дома. Подождите здесь, я поднимусь и доложу. Как мне о вас сказать?
– Скажите, что я привезла посылку от друга, который сейчас далеко.
– Хм… – молвил консьерж озадаченно. – А как имя этого друга?
И, встретив в ответ молчание, предложил:
– Оставьте посылку мне. Я вручу её гражданину Дюперре, как только он появится.
– Я понимаю, уважаемый, что вы охраняете дом и покой его жильцов, – сказала Мария как можно мягче. – Но эту ценную посылку я передам только Дюперре или членам его семьи.
Бдительный консьерж проникся важным тоном посетительницы и поднялся по лестнице на последний этаж. Марии было слышно, как он звонит в дверь и докладывает о нежданной гостье. Через минуту он спустился обратно, а следом за ним по ступенькам сбежали две хорошенькие девочки в лёгких белых платьицах.
– Это вы пришли к папе? – спросили они, с любопытством разглядывая путницу. – Поднимайтесь за нами на третий этаж.
Очутившись в просторной светлой прихожей, Мария вынула из сумочки перетянутый тесёмкой пакет и отдала его девочкам. Дочери Дюперре были прелестными невинными созданиями. Старшей на вид исполнилось лет четырнадцать, а младшей было не более десяти. Однако наиболее говорливой из них оказалась эта кроха.
– Вы знаете, папы нет; он ещё не пришёл с работы.
– Во сколько он ушёл?
– В десять утра.
– А когда должен вернуться?
– Сказал, что придёт к шести часам вечера, и чтобы мы к этому времени накрыли стол. Он всегда приходит к этому времени, покушает и опять идёт на работу.
«Всё-таки лукавый у них консьерж… – подумала Мария, – Про два заседания сказал, а о том, что в перерыве Дюперре всегда приходит домой пообедать – ни слова».
– Передайте вашему отцу, что эту посылку я привезла из Кана, из департамента Кальвадос, и имею сказать ему кое-что на словах. В шесть часов я снова приду к вам.
– Вы будете у нас жить?
– Нет, я остановилась в гостинице, – улыбнулась Мария (этих девочек нельзя было слушать без умиления). – А вы сами-то давно живёте в Париже? Насколько мне известно, вы приехали из департамента Буш-дю-Рон?
– Из Апта, – уточнила старшая, показывая рукою куда-то на юг. – Папа служил там в мэрии. Потом он уехал работать депутатом в Париж, и мы писали ему, чтобы он забрал и нас. Потом папа приехал за нами, и вот уже полтора года мы живем в этом доме. Здесь тоже хорошо, только очень мало зелени и чистого воздуха как у нас, в Провансе.
«Полтора года… – задумалась Мария. – Значит, Дюперре был ещё депутатом Законодательного собрания».
– В вашей семье ещё есть дети?
– Наш братец Пьер сейчас служит в армии, а братец Эжен – на Коронной заставе.
– А где ваша мама?
– Мама не живёт с нами. Уже давно, с тех пор, как папа стал революционером.
– Ну, а гувернантка почему от вас съехала?
– Марион? Нет, она не съехала, а поехала в деревню навестить больного дядю. Только вот что-то долго не возвращается…
– Понятно, – молвила гостья. – И кто же теперь за вами ухаживает?
– С нами занимаются учителя музыки и танцев. И кухарка ещё приходит, но только по утрам…
Корде не удержалась, чтобы не погладить девочек по головкам (это вышло у неё непроизвольно), одарила их парой сахарных палочек и покинула квартиру. Открывший ей дверь на улицу консьерж заметил, что незнакомка чему-то улыбается про себя.
На обратном пути в гостиницу Марии пришлось вновь переходить через площадь Равенства, где полчаса назад её едва не сшибла чёрная карета. Она на секунду задержалась на том же самом месте. «Всё-таки это был не Марат, – пронеслось в её голове. – По словам девочек, их отец ушёл на работу в десять утра. Стало быть, в это время началось заседание Конвента, и продолжается по сей час. Но если Конвент заседает с утра, а Марат его член и главарь, то как он мог раскатывать в карете во время заседания? Значит, это был не Марат, а кто-то иной. И дьявольская улыбка в окне экипажа принадлежала не предводителю санкюлотов, а другому, неизвестному человеку. Чего только не померещиться в этом причудливом Вавилоне!..»
Из защитной речи Лоз-Дюперре в Конвенте 14 июляКогда в четверг я возвратился к себе, чтобы пообедать, то мои дочери, которые живут со мною в Париже, сообщили, что мне оставлен пакет из Кана, запечатанный в этом городе и адресованный мне Барбару… Я открыл пакет и нашёл пару публикаций, отпечатанных в Кане, которые предполагалось распространять в Париже, а также письмо, написанное мне Барбару, которое я передаю для ознакомления, чтобы весь народ узнал его содержание.
Письмо Барбару от 8 июля, адресованное Лоз-ДюперреПосылаю тебе, мой дорогой и добрый друг, некоторые сочинения, которые желательно распространить. Прежде всего это сочинение Салля о Конституции. В настоящий момент оно производит наибольшее впечатление. При случае я пришлю тебе побольше экземпляров.
Я писал тебе через Руан, чтобы обратить твоё внимание на дело, касаемое одной нашей согражданки[53]. А именно: надо извлечь из министерства внутренних дел некоторые бумаги, которые ты мне перешлёшь в Кан. Гражданка, которая передаст тебе моё письмо, сама очень интересуется этим делом. Оно кажется мне настолько справедливым, что я, не колеблясь, принял в нём участие.
Прощай, обнимаю тебя и приветствую твоих дочерей, Марион и друзей. Сообщи мне новости о твоём сыне.
Здесь всё хорошо. Вскоре мы будем под стенами Парижа[54].
Гостиница «Провиданс». 2 часа пополудни
В прихожей гостиницы по-прежнему было безлюдно, куда-то удалилась и матушка Гролье, а за конторкой стоял Луи Брюно. Корде протянула ему ладонь, чтобы получить свой ключ.
– Уже вернулись? – приветливо осведомился он, снимая ключик с крючка. – Так скоро! Вы, верно, не нашли того, кого искали на улице Сен-Тома-дю-Лувр…
– Почему не нашла? – Мария взяла ключ и поправила перчатки. – Прекрасно нашла.
– И… что же?
– Ничего.
Портье хотел сказать что-то приличествующее случаю, но не смог найти, что именно, и только глуповато заморгал глазами.
Мария быстро поднялась на второй этаж. По коридору на детском самокате катался шустрый мальчишка, в котором она узнала одного из постояльцев соседнего с нею шестого номера. Она появилась перед ним столь внезапно, что мальчик от неожиданности выпустил из рук руль, и несущийся самокат врезался в консоль, на которой стояла ваза с цветами. На крик упавшего сынишки из шестого номера выбежали его родители и увидели, как его уже поднимает с пола молодая женщина в белом платье с чёрными мушками. «Ты не ушибся, Альбер?! – встревожилась мамаша, принимая ребёнка на руки. – Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не носился как угорелый! Хорошо ещё, если только расквасишь себе нос, а то ведь можешь свихнуть шею!»
С мальчиком было всё в порядке; он кричал не столько от боли, сколько от испуга. Мамаша поставила его на ноги и повела в номер. Тем временем отец мальчугана, также выбежавший в коридор, почёл своим долгом поблагодарить молодую незнакомку за заботу о его сыне.
– Ох уж, этот младший Бензе! – проворчал он, приближаясь к Марии. – С утра до вечера прыгает, скачет, ни минуты не сидит на месте. Никакие уговоры не помогают. Что тут поделаешь? Весь в отца. Имею честь представиться: старший Бензе. Негоциант. Мы приехали из Дижона.
– Рада познакомиться. Корде из Кана, из департамента Кальвадос.
Рукопожатие старшего Бензе было крепким. Если бы не белая сорочка, велюровый фрак и атласный жилет с серебряной цепочкой, свисающей из кармана, этого широкоплечего, крепко сбитого дижонца можно было принять не за коммерсанта, а за кулачного бойца с какой-нибудь сельской ярмарки.
– О, да мы с вами соседи! – радостно воскликнул он, увидев, как Мария открывает ключом дверь седьмого номера. – Позвольте пригласить вас на чашку кофе. У нас, видите ли, собственная горелка имеется. Готовим кофе, когда пожелаем. Я пристрастился к нему в Англии, где учился на агронома. Если изволили заметить, у меня и супруга англичанка. В девичестве мисс Грей. Ну, так как же? Зайдёте к нам на чашечку?
– Благодарю, как-нибудь в другой раз. Сейчас я утомлена и хотела бы немного поспать.
– Конечно-конечно! – снова поклонился здоровяк. – Как вам угодно. Не смею беспокоить.
Закрыв за собою дверь, Корде почувствовала, что её ноги делаются свинцовыми, а усталые веки слипаются сами собой. Разостланная постель тянула к себе как магнит. «Нужно хотя бы немножко поспать», – сказала Мария самой себе, быстренько снимая платье и чулки, и облекаясь в длинную белую сорочку и ночной чепец. За стеной, в шестом номере возник какой-то шум, вновь заплакал голосистый мальчишка, но она ничего этого уже не слышала, отдавшись долгожданному сну.
Ей снилось, что она лежит на своей постели в Большой Обители, в тот послеобеденный час, когда большинство горожан, отягчённые сытной трапезой, обыкновенно предаются короткому сну, когда на два часа закрываются все лавки и по улицам не бегают даже собаки. Тихо и пустынно в Кане, погруженном в полуденный зной. Кто-то скребётся в запертую на крючок дверь её комнаты, царапая когтями кожаную обшивку. Верно, это хозяйская кошка Минетта. Мария пытается встать, хочет крикнуть, чтобы отогнать назойливое животное, но не может издать ни единого звука. Она даже не в силах разлепить веки. Но она хорошо слышит, как падает железный крючок, как открывается дверь, и кто-то тяжёлыми шагами ходит по комнате, двигая стулья, задевая тонкие ножки стола. На столе дребезжит посуда. Нет, это явно не кошка… И это не шаги мадам Бретвиль. «Кто здесь?!» – силится вскрикнуть Мария, но всё, что ей удаётся, это немного пошевелить рукой. Шумно отодвигается занавеска её кровати. Что-то похожее на платок падает ей на лицо. Она хочет освободиться от платка, хватает его пальцами и стягивает вниз, но платок всё тянется и тянется, ему нет конца; он превращается в длинное и прочное покрывало, которое нельзя ни разорвать, ни сбросить с себя. Мария запутывается в складках этого покрывала, беспомощно барахтается в клубке, с ужасом осознавая, что в таком положении она представляет собою отличную мишень для вошедшего в комнату. Ему даже не надо душить её; достаточно лишь подождать, когда она сама задохнётся, окончательно запутавшись в необъятной материи…
Тут Корде проснулась и открыла глаза. Она лежала на краю постели, комкая в руках покрывало. Сквозь задёрнутые гардины пробивался солнечный свет. Кроме неё в комнате никого не было, дверь всё также была закрыта и ключ лежал на столе. Только из гостиничного коридора доносились приглушённые голоса постояльцев. Мария сбросила с себя покрывало и села на кровати, свесив ноги на пол. Что за наваждение?! А ведь это только её первый день в Париже. Не надо было бы ложиться вовсе! Дневной сон ей противопоказан.
Стрелка золотых часов показывала половину шестого. Таким образом Корде проспала три с лишним часа, и если бы провела в постели ещё двадцать или тридцать минут, то к Дюперре можно было уже не торопиться. Но сейчас оставалась надежда, что ей удастся застать его в своей квартире в перерыве между заседаниями. Одев капот из полосатого канифаса и сменив ночной чепец на домашний, Мария прихватила полотенце и направилась в уборную. По коридору, мимо её двери, прохаживался взад и вперёд сосед из шестого номера, с которым она познакомилась некоторое время назад. Увидев молодую соседку, он вынул изо рта дымящуюся трубку и отвесил ей лёгкий поклон.
Мария задержалась возле него:
– Скажите, кто-нибудь входил в мою комнату немногим назад, когда я спала?
Бензе сделал удивлённые глаза:
– Воспитанные люди обычно не входят в чужое помещение без стука. К тому же, мне кажется, вы заперлись. Я слышал, как вы поворачивали в двери ключ, перед тем, как выйти в коридор.
– Не знаю. Может быть, от этой двери есть несколько ключей…
– Вам показалось, что к вам кто-то входил? – обеспокоено спросил сосед. – Во всяком случае могу поклясться, что за те десять или пятнадцать минут, пока я нахожусь в коридоре, к вашей двери никто даже не прикасался.
Корде продолжила свой путь. Когда она возвращалась из уборной, сосед-дижонец всё ещё прогуливался по коридору, хотя его трубка уже не дымилась.
– Говорите, вы учились на агронома, – молвила Мария, останавливаясь, – а стали негоциантом. Стало быть, вы торговец?
– Вроде того, – ответил здоровяк с нарочито простодушной улыбкой. – Что такое негоциант в наше смутное время? Это человек, берущий то, что лежит плохо, и помещающий туда, где будет лежать хорошо.
«Всё понятно, – подумала она. – Скупщик. Много сейчас развелось предприимчивых дельцов, наживающих капиталец на скупке и перепродаже конфискованного имущества, церковных угодий, всяких ценностей, оставшихся от эмигрантов. Для кого Революция – светлое божество, для кого – ужасный Молох, а для кого-то – дойная корова. Впрочем, не такой уж он и предприимчивый, коли поселился в дешёвеньком “Провидансе”».
Взгляд Марии остановился на огромном выпяченном носе собеседника.
– Скажите, вы еврей?
Здоровяк галантно поклонился:
– Мой дедушка был потомственным раввином. Его звали Бензадон. Мой отец стал бакалейщиком, женился на француженке и сократил фамилию. Сам я женат на англичанке. Теперь посчитайте, сколько еврейской крови осталось в моём сыне, младшем Бензе.
– Говорят, кровь сказывается и в пятом поколении, – заметила Мария.
– Вы так думаете? – развеселился сосед, не догадываясь, что собеседница, скорее всего, имела в виду себя и своего предка драматурга Корнеля.
Одеваясь для выхода в город, Корде слышала через стенку, как снова кричал и плакал младший Бензе, которого видимо, наряжали в непривычную и неудобную для него «столичную» одежду, как грозно прикрикивала на него мамаша и что-то деловито басил отец. Вскоре всё семейство шумно вывалилось в коридор и, стуча каблуками по паркету, удалилось в сторону лестницы, по которой спускались в прихожую. Минуты через три вышла и наша героиня.
Квартира Дюперре. 6 часов вечера
В то время, как провинциалы уже давно откушали, парижане ещё только садились за обед. Что касается членов Конвента, то у них обеденное время вообще сместилось на семь часов вечера, когда закрывалось собрание. Если же заседание затягивалось, что бывало отнюдь не редко, то давался часовый перерыв где-то между пятью и шестью часами, чтобы граждане представители могли подкрепиться на скорую руку и затем уже заседать до позднего вечера. Режим, надобно отметить, был прямо-таки каторжный, и Конвент работал на износ. Даже если и не назначалось вечернего заседания, то рабочий день депутатов всё равно не кончался, – они торопились на собрания в секции и народные общества или же отправлялись в политические салоны. Многие спали не более шести-семи часов в сутки, а члены больших Комитетов и того меньше.