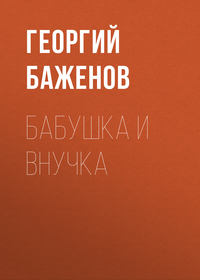Полная версия
Летящая стрела жизни (сборник)
С дипломом учителя рисования Гурий мог устроиться в любую московскую школу, однако теперь, имея постоянную прописку, он не спешил. Другая звезда манила его – не учительствовать, а творить. То есть рисовать, писать самому.
Все лето после окончания педагогического института Гурий провел на Урале, в родном поселке Северный. На улице Миклухо-Маклая жила его престарелая мать Ольга Петровна Божидарова, бывшая учительница географии, а ныне пенсионер, простой человек. Никаких «художников» в семье Божидаровых, по крайней мере по материнской линии, никогда не водилось, Гурий, как оказалось, был первым в этом ряду.
Каждое утро, захватив блокнот и карандаш (реже – кисточки и гуашь), Гурий уходил в лес и даже не столько в лес, сколько лесом, извилистыми тропами, поднимался на Мал аховую гору, туда именно, где в небо возносился Высокий Столб – прихотливо-узорная деревянная пожарная каланча, с верхней площадки которой открывались широкие и спокойные дали уральских дивных просторов. Всякий раз, когда Гурий забирался по шаткой лестнице на ветхую площадку Высокого Столба, дух его замирал в сладостном и восторженном преклонении перед странной, волнующей, даже страшной в чем-то красотой, которая открывалась жаждущим глазам. Он не понимал, не мог выразить понимания в словах, но чувствовал, будто сама истина жизни, ее суть и смысл раскинулись по далям и весям бескрайних просторов. Хотелось не только созерцать, но запечатлеть эту красоту, вот только как это сделать? Какими линиями, красками и оттенками передать, чтобы тот, кто смотрел на рисунок, почувствовал бы то же волнение, ту же благодать и возвышенность ощущения жизни? Гурий устраивался на верхней площадке, подолгу рисовал, набрасывал то один, то другой пейзажный кусок на бумагу, движения его были резки, смелы, и казалось, не сам он водил рукой, а неизвестная тайная сила вела его за собой, направляя все движения. Однако тайная сила была, поклонение и преклонение ощущались, а линии, силуэт, рисунок, то есть сама тайна, не давались легко и просто, свободно и широко, как это ощущалось в груди, в сердце, в самом легком дыхании, которое кружило голову. Еще тогда, в те дни, в те годы испытал Гурий безмерную пропасть между чувственным, видимым миром – и свершённым, запечатленным художественным движением души. Пропасть не уменьшалась от того, что ты чересчур сильно чувствовал и чересчур жарко хотел изобразить: сила чувств и мера дара не существовали как нечто равнозначное. Наоборот, они воспринимались как нечто мучительно-разное, противоположное.
И что такое художник? Тот, кто преодолевает это мучение? Или тот, кто не знает его вовсе? Кто парит в своем художестве, как птица над просторами?.. Или кто мучается, как легендарный Сизиф?..
Больше всего и чаще всего Гурий хотел изобразить именно такую картину: парящего над дальней деревушкой – над Красной Горкой – ширококрылого и широкогрудого коршуна. Ему хотелось воссоздать окружающий пейзаж – деревушку, синий сосновый лес, зеленую речку Чусовую, извилистую дорогу на Северный – как бы с высоты птичьего полета, с той точки, в которой широко и вольно кружил и кружил коршун; хотелось передать единство этих двух безмерно разных миров – мира птицы и мира людей, – так передать, чтобы единение ощущалось именно в природе, через природу. Природа как бы объяла эту картину в единую купель, и ничто – ни настороженно-хищный полет птицы, ни напряженность будничных забот жителей Красной Горки, – ничто не в силах разъять эту природой защищаемую высшую идиллию: даже враждующее, противоборствующее – всё было единым, слитным в природе.
Впрочем, не давалась эта мысль Гурию; не мог он ухватить ее, выразить до конца в словах, а в чувствах иной раз все мешалось, переходило в сумбур, в хаос, и он бросал в ожесточении карандаш или рвал наброски пейзажа. Не получалось, не срасталось ощущаемое и изображаемое, видимое и нарисованное.
Эта пропасть художества и жизни открылась ему впервые именно в то лето; до этого, как ему казалось, он осваивал основы техники, ибо главное, считал он, – это талант изображать, копировать действительность.
Какой же ты художник, думалось ему, если не можешь копировать жизнь один к одному?
Ан нет, не в этом тайна живописи.
Копировать-то можно, но художественность тут как раз и ускользает. Она прячется за семью холмами, слегка проглядывает из-за облаков или вдруг птицей улетает за тридевять земель… И никак не поспеваешь за ней душой: ты тянешься за тайной лишь рукой, карандашом, гуашью, а душа почему-то бескрыла, и вялы ее паруса, и не дует в них попутный ветер истины!
Измучился он в то лето донельзя; настроенный на высокую волну, подхваченный честолюбивым жжением души – взрастить иль пробудить в себе художника, Гурий с удивлением обнаружил: не только окрыленность, но даже и простое «копирование» жизни не даются ему легко и свободно, а постоянно ускользают, опустошая сердце, разрушая помыслы.
Однажды, как раз когда он находился в таком состоянии, повстречалась ему в лесу, на пологом спуске Малаховой горы, на девственной земляничной поляне, семья Варнаковых – мать с отцом и их дочка. Они были соседи, Варнаковы и Божидаровы, однако жили не на одной, а на параллельных улицах; зато огороды их как раз соприкасались друг с другом. И сарай, и дровяник, и конюшня, и сеновал стояли у них под одной крышей, только разделены были глухой перегородкой – точно по линии соприкосновения огородов. Так что соседи были близкие, как говорится, ближе не бывает. Жили, правда, обособленно друг от друга, но так жили все в Северном. Сосед соседом, а своя жизнь забирает настолько, что некогда по сторонам глазеть да оглядываться.
Варнаковы, отец с матерью, сидели на траве вокруг трапезы, разложенной на чистом цветастом платке: тут яйца, огурцы, помидоры, лук, хлеб, молоко. Дочь их устроилась на припёночке, задумчиво глядя меж деревьев: там, будто через решето, просеивались звонкие до стеклянности лучи восходящего солнца. Словно веер божеский ниспадал на землю…
Гурий не обрадовался встрече – не хотелось ему ни с кем разговаривать, душа, угнетенная, ныла и саднила, а вот соседи искренне заулыбались ему. Вышли они сегодня по землянику, всей семьей почти ведро набрали, вот немного осталось до верхнего венчика. (Земляника крупная, сочная, сладкая.) Да тут как раз притомились, сели отдохнуть, перекусить малость.
– Подсаживайся, – показал Варнаков-отец.
– Спасибо, дядя Емельян, – отказался Гурий. – Не хочется.
– Что ж ты за мужик такой, есть ему не хочется?! – всплеснула руками мать. – Ну-ка, садись, садись… – Когда он сел, захлопотала вокруг него, подкладывая то крупный краснобокий помидор, то свежую краюху хлеба, то кружку вспененного парного молока.
– Спасибо, тетя Наталья.
– Ешь, ешь, спасибо потом скажешь.
Гурий уныло ел, подавленный грустными размышлениями. Отец и мать Варнаковы недоуменно переглядывались: чего это с ним? И мать не нашла ничего лучшего, как упрекнуть дочь:
– А ты чего сидишь куксишься? Песню б, что ли, завела…
Дочь ничего не ответила, только покосилась недовольным глазом; и вдруг прыснула: Гурий неожиданно напомнил ей гиппопотама, которого она видела в зоопарке: у того были такие же грустные-грустные, будто бессмысленные, глаза и такая же тяжелая челюсть, как глыба.
– Во, прорвало ее! – удивился отец. – То сидит – слова из нее не вытащишь, а то веселится невесть с чего.
– Гурька на гиппопотама похож! – объяснила дочь простодушно и в открытую громко рассмеялась.
– Чего-о?.. – протянул отец. – Ты хоть думай головой-то, прежде чем ляпать!
– Ой, Ульянка, ой, девка! – запричитала мать. – Смотри у меня!
Матери с отцом, что и говорить, было неудобно перед Гурием: они знали, он в этом году институт окончил, учителем стал, а эта их балаболка – тьфу! – мелет чего попало.
Гурий тоже удивленно взглянул на Ульяну.
– Чего смотришь?! Думаешь, не похож? Похож! Гип-по-по-там! – веселей прежнего проговорила Ульяна и продолжала смеяться.
И тут вдруг, вот в этом лице Ульяны, в ее брызжущих весельем глазах, в ее полных ярких губах, в чуть откинутой назад голове, в ее по-лебединому изогнутой шее, в длинной-длинной косе с вплетенным в нее жарким красным бантом, тут вдруг померещилось Гурию, привиделось что-то особенно завораживающее, таинственно-мудрое и одновременно мудро-открытое… что-то такое, что…
Гурий привстал, медленно подошел к Ульяне (все смотрели на него с изумлением), осторожно, двумя пальцами, прикоснулся к девичьему подбородку, чуть приподнял его и отвел слегка в сторону:
– Вот так… Так… – И медленно, пятясь, отошел на свое место, присел на колени, пристально вглядываясь в Ульяну и иногда томно щурясь, будто от жаркого солнца.
Лицо у Ульяны неестественно вытянулось, улыбка исчезла.
– Ну, смейся! – приказал Гурий.
Ульяна покорно рассмеялась, но вышло не так свободно и весело, как прежде.
– Не так! Как раньше! – продолжал командовать Гурий.
Ульяна только таращила глаза.
– Ну, говори: Гурий – гиппопотам! Гип-по-по-там! – приказывал Гурий.
И тут, вздохнув, она сказала: «Гип-по-по-там!» – а сказав, рассмеялась так же громко и заразительно, как совсем недавно.
– Так, так, – забормотал Гурий, достал блокнот, быстро раскрыл его и начал стремительно, частыми штрихами набрасывать контуры смеющегося лица Ульяны.
Варнаковы-старшие замерли, как громом пораженные: прямо на их глазах в блокноте как бы само собою, по мановению волшебной палочки, стало возникать искрящееся весельем, запрокинутое, прекрасное своей молодостью и здоровьем лицо их дочери (беспутной дочери, с которой уж сколько они намучились!), с характером ее взбалмошным, грубым и неуправляемым.
И вот – такая красавица буквально на глазах расцвела на бумаге!
Сколько минут писал ее Гурий?
Минут пять, не больше, но пять этих минут во всем дальнейшем будущем этих людей, возможно, станут высшими и счастливыми мгновениями прожитой жизни.
Закончив портрет, чувствуя в душе невероятный подъем, Гурий великодушным, свободным жестом вырвал страницу из блокнота и, подойдя к Ульяне, протянул ей:
– Это тебе. На память.
И, не ожидая ни слов благодарности, ни слов удивления, а тем более слов отказа, Гурий легко повернулся и пошел… Но нет, не туда пошел, куда направлялся прежде, то есть под гору, домой, а снова наверх, на Малаховую гору, на заветную площадку Высокого Столба – снова и снова писать дали и просторы уральских пространств, а самое главное – того коршуна, кружащего над Красной Горкой… Будто что-то соединилось сейчас в Гурии в понимании сути происходящего: тот коршун и эта девушка, Ульяна, почему-то были одно целое, неделимое, вот только бы ухватить это не только мыслью, но чувством, движением руки, прозрением…
С того дня, странное дело, Ульяна часто думала об этом случае, о соседе, о Гурии и не могла не смотреть с удивлением на собственный портрет, который повесила над кроватью: это была она, конечно, да, но в то же время – совсем другая девушка, как бы выше, сложней и загадочней настоящей Ульяны; и оторваться от нее не могла Ульяна, но и согласиться, что она – такая, тоже не могла… Какая-то тайна тут была, недосказанность, недовыясненность, и эта тайна мучила Ульяну.
Ведь они – странно и смешно вспомнить! – когда-то учились с Гурием в одном классе, вместе выпустились из одной школы-десятилетки, но если и обращала Ульяна когда-нибудь внимание на Гурия, то только тогда, когда с жалостью, перемешанной с брезгливостью, отмечала его маленький рост, толстую шею и странно-выпуклый, тяжелый подбородок. Кого-то он все время напоминал Ульяне, какое-то животное, но она никак не могла уяснить, какое именно, и от этого нередко злилась. Мальчишки часто били Гурия, он не плакал, не сопротивлялся, он только подолгу смотрел на своих обидчиков большими глубокими глазами, в которых будто ничего не выражалось, а стояла только безмерная, внечеловеческая тоска… Его часто били и за это – за то, что так смотрел. Страшно было, неуютно, не по себе, когда он смотрел на своих обидчиков большими круглыми глазами, и молчал, и ничего не говорил, и только иногда губы его кривились в усмешке, верней, усмешки как таковой не было, просто губы кривились – и все.
Странный был парень, не похожий ни на кого, и его искренне не любили…
Пять лет после школы Ульяна провела как в чаду. Сразу после выпускных экзаменов пробовала поступать в Уральский политехнический институт – куда там, нахватала одних «троек», так и плюнула в досаде и больше об институте не вспоминала, не мечтала. Пошла работать на трубный завод оператором, работа ловкая, веселая, только знай нажимай на кнопки и тумблеры, когда идет погрузка или отгрузка труб; после смены Ульяна не чувствовала никакой усталости (молода была, полна сил), так что растрачивала себя на танцы, веселье, вечеринки, свидания, поцелуи… К двадцати двум годам знала все, частенько и дома не ночевала, отец Емельян Варнаков, когда это случилось в первый раз, выпорол ее вожжами, она покорно снесла побои, только позже твердо сказала отцу: «Тронешь еще раз – вот тут и повешусь! – и показала на крюк в сарае. – И записку напишу: отец довел, так что отвечать по закону будешь…» Емельян только хмыкнул, но с тех пор больше пальцем не тронул дочь – девка дурная, взбалмошная, в самом деле может руки на себя наложить… Но, что битая, что не битая, Ульяна продолжала жить по-своему, а когда рано начинаешь жить по собственному хотенью-разуменью, рано и тоска в сердце закрадывается. Живешь как Бог на душу положит, а все пустеет и пустеет сердце, ноет душа, и только новым весельем, еще более бесшабашным или бесстыдным, бывает, и выбьешь эту тоску, а только выбил – назавтра она еще больше, безотрадней и горючей.
Странная жизнь.
Скольким парням кружила голову Ульяна, сколько парней и ей головушку дурили, за одного, казалось, за Степку Перемышлева, она готова была хоть в огонь, хоть в воду, а обернулось, как провела с ним несколько ночей, что она для него «очередная дура», как сам Степан признался, легко улыбаясь ей в глаза. Всем им, хоть тому, хоть этому, одно нужно было… да и отчего им другого хотеть, если она сама не против?
Вот и выпестовался у нее характер: веселая, заводная, взбалмошная, а то вдруг в хандру впадет, голову туго-туго платком перетянет, чтоб не разрывало ее от боли-тоски, и валяется дня по три-четыре на диване, отвернувшись к стене, видеть никого не хочет.
И тут на тебе – встретился в лесу Гурий, в пять минут выписал ее такой красавицей, что она сама себя не узнавала, будто разглядел в ней то, что скрыто от чужих глаз, да и от своих собственных, за семью замками. А может, Гурий просто придумал ее? Наделил чем-то таким, чего в действительности в ней не было? Поманил странным видением, словно тайну открыл, а потом глядь – рассыплется все в прах, как много раз прежде случалось, когда она тянулась к кому-нибудь душой и сердцем?..
Но не думать о Гурии она уже не могла; он, казалось, забыл о ней, часто уходил в лес, на Малаховую гору, а Ульяна, выследив его, иногда кралась за ним следом. Ну, как кралась? Просто шла за ним, не окликая, не задерживая, будто так брела, своей дорогой, но дорога эта след в след совпадала с дорогой Гурия.
Он, конечно, замечал Ульяну, но ничего не говорил, как бы не придавая никакого значения, что она идет за ним следом. Но сердце его билось сильней, тревожней…
Приходили на Малаховую гору, на Высокий Столб, Гурий забирался на верхнюю площадку, рисовал изо дня в день неистовей, злей, самоотверженней, а Ульяна устраивалась внизу: то просто сидела, напевала какую-нибудь грустную песню, то ни с того ни с сего смеялась, кричала наверх: «Эй, художник, возьми меня к себе!», то тихо, трепетно собирала в округе цветы, ромашки и васильки, сплетала из них золотисто-голубой венок и царственно надевала его на голову, крича: «Эй, художник, смотри!»
Гурий был неспокоен душой, художество не давалось ему, он не мог понять, что нужно Ульяне от него, да она и сама не знала, зачем преследовала его, просто тянуло к нему, как раньше тянуло к другим, только в Гурии чудилась какая-то загадка, схожая с непонятной хрупкостью, слабостью, тонкостью, в то время как в других она прежде всего ощущала силу, удаль, озорство, азарт жизни. Но там – опустошало впоследствии, а здесь… Что здесь? Она не знала пока.
Ему хотелось прогнать ее: она мешала ему, не давала сосредоточиться, услышать в себе слияние с тишиной и безбрежностью открывающихся пространств, но и прогнать ее он не мог, не решался.
Однажды он спустился по шаткой лестнице вниз, думая, что ее нет, давно ушла (однако, как ни странно, с досадой чувствуя, что ему начинает не хватать Ульяны), а она вдруг вышла из избушки рядом, из заброшенной избушки лесника, в золотисто-голубом венке из ромашек и васильков, улыбнулась ему:
– Хочешь есть, Гурий? Я приготовила. Там, в избушке, – показала она рукой.
– Не хочу, – сказал он, и голос его прозвучал резко, грубо.
– Ты что, боишься меня? – спросила она.
Он не ответил. Верней, ответил, но не сразу. Он посмотрел на нее внимательным, строгим, едва ли не суровым взглядом и заметил, что глаза ее, прежде черные, вороного крыла, высветлели, будто покрылись пеплом.
– Нет, не боюсь, – наконец ответил он.
Она медленно пошла ему навстречу. Она смотрела Гурию в глаза, и ему показалось, что она – не просто Ульяна, а что-то другое, колдовское, неумолимое, вечное.
– Я нравлюсь тебе? – улыбнулась она.
И он, сам того не ожидая, сказал вдруг:
– Я люблю тебя.
Она покачала головой:
– Любишь меня? Ой ли? Разве ты знаешь, что такое любовь?
– Не подходи, – сказал он.
– А говоришь – любишь меня, – усмехнулась она. – Ты не сумасшедший, Гурий?
– Нет, не сумасшедший. Я хочу стать художником. Все очень просто.
– Тын так художник.
– Нет, я пока не художник. Я никто. Но я не хочу так жить. Не могу жить, чтобы быть никем.
– А как же другие, Гурий? – Она продолжала идти к нему, не послушавшись его слов: «Не подходи», приблизилась совсем вплотную, переспросила: – Как же другие, Гурий? Я, например?
– Женщины – совсем другое, – прошептал он. Он не в силах был отвести от нее взгляда.
– Поцелуй меня! – приказала она и что-то тихо-тихо стала бормотать про себя, будто молилась шепотом. Он видел ее слабо шевелящиеся губы, видел широко открытые пепельные глаза, полные огня и страсти, видел томную ложбинку меж ее грудей в разрезе легкого летнего платья и не посмел ослушаться ее, протянул к ней руки. А она протянула к нему свои, обвила его шею и закрыла глаза нежно-золотистыми, как персики, веками. И веки ее дрожали, он еще видел это…
А над дивными уральскими просторами кружил и кружил коршун.
Осенью Гурий с Ульяной уехали в Москву.
Весной следующего года, двадцать девятого мая, Ульяна родила первого мальчика – Валентина. А через год, тринадцатого сентября, второго – Ванюшку.
Жили они в комнате в девять метров. Конечно, два малыша в девятиметровке – хорошего мало, но как-то все обходилось впрямь по пословице: «В тесноте, да не в обиде».
Поначалу Гурий устроился в школу № 150 Фрунзенского района – преподавать рисование, но потом бросил учительство: Ульяна одна не справлялась с малышами. Пошел снова в дворники, в прежнее домоуправление, и теперь только ранние часы отдавал работе, а остальное время занимался, как и Ульяна, воспитанием сыновей.
Росли они болезненными, особенно мучили их уши, хронический отит: чуть простуда – глядь, опять осложнение. Однажды трое суток подряд из всех четырех ушей тек гной – ничего не могли сделать врачи. Пришлось вызывать платного – старую матерую профессоршу Ревекку Соломоновну. Та только и спасла ребят (а ведь могли оглохнуть): такое лекарство прописала, что после первых же двух уколов гной перестал сочиться, а через пять-шесть уколов отит отступил совсем. Вот только денег пришлось платить много: за разовый вызов профессорши к одному ребенку – пятнадцать рублей плюс оплата такси; один приезд Ревекки Соломоновны обходился им в сорок рублей.
Где такие деньги брать? Трудно приходилось, надо было изворачиваться.
От той поры осталась на память фотография – может, лучшая детская фотография ребят: сидят два малыша рядышком, глаза – грустные-грустные, а головы обмотаны бинтами, будто круглые белые скафандры надеты. Спиртовые компрессы делали на уши, накладывали на них непромокаемую кальку, на нее – толстые ватные прокладки, затем в несколько слоев шерстяные тряпицы, и все это густо-туго обматывали бинтами, чтоб компрессы служили подольше, понадежней. На фотографии этой Валентину – 2 года 3 месяца, Ванюшке – год.
А когда Валентину исполнилось три года, произошло грандиозное событие: райисполком выделил им двухкомнатную квартиру, причем с изолированными комнатами. Да и то сказать: даже по суровым московским меркам семья «уральских варягов» Божидаровых выделялась среди очередников: на одного человека приходилось у них по 2 квадратных метра с хвостиком. Как ни прижимист любой райисполком, а тут пришлось раскошелиться, выделить отдельную квартиру.
И вот с того времени, быть может, и потекла в их семье жизнь не совсем та, о какой мечталось всем прежде. Гурий вновь потянулся к карандашу, к которому всерьез, пожалуй, не притрагивался более трех лет. Отдельная ли квартира послужила толчком, или вновь преподавательская работа, которую в очередной раз Гурий предпочел «дворничеству», или оттого, что подросли ребята и с ними стало легче управляться, – как бы там ни было, но Гурий с прежней, а то и с еще большей силой потянулся к художеству. Теперь в его распоряжении находилась отдельная комната (не кабинет, конечно – в этой же комнате они и спали с Ульяной, – но все-таки…) – и он мог все свободное время рисовать карандашом или писать гуашью, отгородившись от семьи дверью. Пока еще Ульяна не работала – дело было терпимым, а когда Ванюшке исполнилось полтора года, пришлось Ульяне, чтобы не потерять стаж, устраиваться на работу. Из-за детей она пошла сначала няней в ясли, потом – завхозом в детский сад.
И что же?
Гурий как бы выпал из семейной жизни.
Ходил ли он на работу, был ли дома, отправлялся ли в магазин, отводил ли ребят в детский сад, он словно не замечал ничего вокруг, глаза его туманно и отстраненно блуждали по сторонам или, наоборот, как бы фокусировались на чем-то таком, что виделось ему одному, более никому. Ну ладно, если бы это касалось только его собственной жизни, но ведь он жил не один, в семье, а семейные проблемы он совершенно перестал брать в расчет.
И Ульяна потихоньку стала роптать. И не оттого, что делать ей нечего, не от характера своего, который, конечно, сладким не был, просто не успевала везде и всюду одна, задыхалась.
Но чем более она роптала, тем более замыкался в себе Гурий; чем более она ругалась, тем глупей и странней блуждала на его губах улыбка. Он мог, например, когда она исходила криком, вдруг как бы узреть в ней что-то необыкновенное, мчался за бумагой и карандашом, садился напротив и начинал набрасывать ее сверкающие гневом глаза, перекошенные злостью и раздражением губы, вздувшиеся на шее вены.
– Еще… еще немного, – умолял Гурий. Это все так выводило из себя, что она не только кричать или ругаться, но и просто слова сказать больше не могла – гнев и обида переполняли ее. А он продолжал: – Ну, Уля, еще… еще покричи… еще немного… прошу тебя!
Именно в один из таких моментов, не помня себя, Ульяна размахнулась и отвесила Гурию такую пощечину, что он не удержался на стуле и свалился на пол. Но и упав, обхватив от изумления и боли горящую щеку левой рукой, он продолжал (на четвереньках) пристально вглядываться в лицо Ульяны, словно стараясь постичь ее суть до конца, до донышка. А у нее… губы у нее задрожали, глаза безумно расширились… Ладонями Ульяна обхватила себя за лицо и, раскачиваясь, запричитала, как над покойником (непонятно только – над собой или над мужем):
– Господи, да за что нам жизнь такая?! Ты посмотри, посмотри на него, Господи…он безумец, безумец, Господи!
А Гурий как ни в чем не бывало поднялся на ноги, пристроился на стул и, продолжая пристально вглядываться в Ульяну, теперь набрасывал ее на бумагу уже вот такую – причитающую, без слез плачущую и молящую Бога кто его знает о чем…
Да и занятия в школе пошли вскоре у преподавателя Гурия Божидарова не тем привычным чередом, как это принято по любой министерской программе, а без всякой системы и последовательности, по наитию или совсем по зигзагам причуд.
Например, Гурий Петрович мог дать своим ученикам такое задание: нарисуйте меня, каким вы меня представляете, скажем, усопшим – в обыкновенном тесовом гробу, без цветов, но с разного рода венками и подношениями.
Особенно возмущалось школьное начальство вот этим словом: «подношениями»… Что имел в виду Гурий Петрович? – добивалось начальство. И тот ответ, который преподнес учитель рисования: что, мол, интересно взглянуть, какую именно дорогую для себя вещь они решатся подарить мне на прощание, – этот ответ принять вразумительным никак нельзя было, хотя Гурий Петрович и упирал на нравственный аспект поставленной перед учениками задачи.