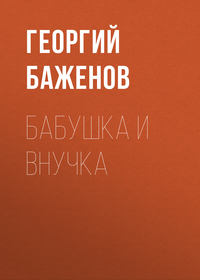Полная версия
Нет жизни друг без друга (сборник)
Дело в том, что, когда знакомились и Евграфов, как обычно, вполне серьезно представился: «Кант Георгиевич!» – Жан-Жанна посмотрела на него как на сумасшедшего и, не выдержав, взорвалась от смеха:
– О Господи, везет же мне на идиотов!
– Жан-Жанна… – Это, конечно, голос матери. Укоризненный голос.
– Одного зовут Кант Георгиевич, другого – Иван Карлович, третьего – Семен Семенович! (Иван Карлович, как выяснилось позже, был ее тогдашний – до Евграфова – любовник.) Ну скажите, что может быть смешнее этих сочетаний – Кант Георгиевич, Семен Семенович?!
– Ничего не вижу смешного, – вмешалась мать.
– А фамилия, фамилия ваша как? – смеялась Жан-Жанна.
– Ну, Евграфов.
И это еще больше рассмешило ее:
– Господи, Евграфов! Муж у меня – Нуйкин, а вы – Евграфов. Семен Семенович Нуйкин и Кант Георгиевич Евграфов! Восхитительно! Откуда вы только беретесь такие? В каких берлогах рождаетесь? Из каких дыр вылезаете?
Отец Евграфова – Георгий Иванович – был профессиональным философом, и нет ничего удивительного, что своего сына-первенца он назвал Кантом (нужно вспомнить те годы, всеобщий энтузиазм, мечту о мировой революции, повальное увлечение вечными вопросами бытия). Тогда это сочетание – Кант Евграфов – воспринималось не только красивым, но и значимым, осмысленным, передовым. Впрочем, и нынче в кругу художников, музыкантов, людей кино, в кругу женщин, обожающих искусство, имя и фамилия Евграфова – Кант Евграфов – принимались с уважением, с пониманием: был тут свой шарм, чувствовалась художественная изюминка. Многие, честно говоря, думали, что это не настоящие имя и фамилия Евграфова, а его псевдоним.
…Однако, несмотря ни на что, из квартиры в Бабушкине Евграфов с Жан-Жанной уезжали вместе. Ну, еще бы – у Евграфова машина, «Жигули», и почему бы не подвезти красивую молодую женщину? А куда подвезти? А хоть куда, ответила Жан-Жанна и рассмеялась. «Не понял», – подумал Евграфов. В машине она еще несколько раз принималась хохотать (Евграфов понимал – вспоминала его фамилию и имя, но, удивительное дело, теперь не злился, не обижался), блестели ее белые зубы, блестели глаза, обворожительна она была, ничего не скажешь…
– Вы что, свободны сейчас? – спросил Евграфов.
– Сама не знаю, – беспечно бросила она.
«Не понял», – подумал Евграфов, но уже с какой-то радостью подумал.
– Может, заедем к одному знакомому художнику? О, по делу, по делу, – поспешил добавить он, потому что Жан-Жанна посмотрела на него… с насмешкой? с презрением? с беспощадным пониманием? Одним словом, посмотрела так, что он забормотал: – О, по делу, по делу…
– Все ваши дела ведут к одному… Поехали!
Знакомый художник, Володя Хмуруженков, жил как раз в одном из домиков в поселке своих собратьев, неподалеку от «Сокола». Евграфов сам открыл деревянные ворота; с шелестящим шумом машина въехала во двор – шуршала под шинами пожухлая трава. Дымилась осень; горели клены. Выйдя из машины, Жан-Жанна почувствовала себя не совсем привычно: в городе шум, гам, столпотворение, а тут – райская тишина, покой, листья падают с кленов. Странное местечко в Москве.
Художник работал. Молодой, русый, с длинными чистыми волосами, с русой, будто пенящейся, бородой, со светлыми глазами, которые, правда, смотрели так, будто не видели вас: во всяком случае, никакого доброго расположения или радости они не выражали при вашем появлении. Художник даже не кивнул в ответ на их приветствие.
– Как дела? – спросил Евграфов.
– Работаю, – просто, без всякой интонации ответил художник.
Евграфов подошел к художнику со спины, взглянул на холст через плечо:
– Дега?
Художник, не оборачиваясь, кивнул.
– Жан-Жанна, это Дега. «Голубые танцовщицы», – повернулся Евграфов к Жан-Жанне.
– Не знаю таких.
Художник усмехнулся: его всегда забавлял выбор Евграфова.
– У вас есть выпить? – строго, как бы с вызовом спросила Жан-Жанна у художника.
Комната (мастерская), в которой они находились, была сплошь заставлена и завешана картинами. Было много цвета, обнаженных женщин, пленэра.
– Я не пью, – ответил художник, продолжая как ни в чем не бывало работать. – И вам не советую.
– Кстати, познакомьтесь, – сказал Евграфов. – Это – Жан-Жанна, а это – Владимир Хмуруженков. Великий художник.
Художник в который раз усмехнулся.
– Ну, в будущем, в будущем… – поспешил Евграфов. – Всех великих признают только после смерти.
– Не лги, Евграфов, – сказал художник.
– А вы могли бы нарисовать меня? – спросила Жан-Жанна. Она развалилась в мягком, глубоком старинном кресле. Она была молода, хороша собой, она знала это.
– Зачем? – спросил художник.
– Что зачем? – не поняла Жан-Жанна.
– Зачем вас рисовать? – Художник обернулся, посмотрел на нее долгим, пристальным, оценивающим взглядом.
– Неужели я хуже их? – Она кивнула на картины. На женщин, которых такое множество было вокруг. Кивнула и улыбнулась художнику.
– Вы не из тех, кого рисуют. – Художник вновь повернулся к холсту. – Если не ошибаюсь, вы женщина пустая. Как прикажете изобразить вас на холсте?
Жан-Жанна рассмеялась. Рассмеялась весело, искренне, как будто услышала отменный комплимент.
– Наверняка вы неудачник, – сказала она. – Точно, неудачник. Первый раз видит женщину и – обижает ее. Талантливые люди великодушны.
– Да? – удивился художник. Он и в самом деле удивился: оказывается, она не так глупа, как показалось вначале.
– Между прочим, я заехал по делу, – вклинился в разговор Евграфов. – Закончились картины.
– Вон, в углу, – кивнул художник. – Давно ждут…
В углу действительно стояли картины, завернутые в белую плотную ткань, перетянутые бечевкой.
– Ну, мы поехали? – сказал Евграфов.
– Давайте.
И на этом все, ни слова на прощание; Евграфов с Жан-Жанной вышли из дома.
– Он всегда такой? – спросила Жан-Жанна, когда они выехали на Ленинградский проспект. Жан-Жанна курила сигарету, в салоне струился оркестр Поля Мориа.
– Володя и правда талантливый художник. Но он вынужден зарабатывать на жизнь. И он злится, потому что на это уходит много времени.
– А ты? – Жан-Жанна впервые назвала его на «ты», и сердце у него залилось волнением: сколько ни живи, хоть до глубокой старости, сердце у мужчины остается молодым.
– Что – я? Я посредник. В воздухе мода на импрессионизм – видно, по контрасту со всеобщим прагматизмом, все хотят иметь хотя бы копии Ренуара, Сислея, Дега, Мане, и мы их поставляем.
– И когда-нибудь вас, конечно, посадят за это, – спокойно, в тон Евграфову произнесла Жан-Жанна.
Евграфов покосился через зеркальце на Жан-Жанну, снисходительно улыбнулся:
– За что? Володя – член Союза художников, я – научный сотрудник Всесоюзного художественного фонда. Ничего противозаконного.
– Живете, значит, на зарплату? – усмехнулась Жан-Жанна и стряхнула пепел на пол.
– У творческих работников, дорогая, зарплаты не бывает. Они живут на гонорары. Кстати, ограничений на гонорары не бывает.
– Хорошо устроились.
– Никому не запрещается. Бери кисть, краски, мольберт – рисуй. Небось сразу запоешь: есть хочу, пить хочу… А тебе вместо этого – шиш с маслом!
– Что-то не заметила ваших голодных глаз и подтянутых животов.
– Спасибо классикам, они нас выручают. Когда-то они голодали, теперь помогают нам. Потом и мы кого-нибудь выручим. Всему свое время…
– Ох, до чего мужики самоуверенный народ!
– Дело не в самоуверенности… Дело в вере. Заедем пообедать?
– Конечно, к тебе домой? И там, конечно, ты начнешь приставать? – Она смотрела на него с насмешкой.
– Зачем же? В ресторан «София», например. Сейчас как раз проезжать будем, площадь Маяковского…
– Ну, если в ресторан, – поехали.
Евграфов любил жизнь. И в такой форме тоже любил – когда на него плюют. Когда женщине нет никакого дела до него, до Евграфова, как до мужчины, а тем более – как до художественного дельца. Пусть. Ведь интересно, что вот ты для кого-то совершенное ничто, потом идет время, еще идет, и вдруг все разом меняется: женщине хорошо с тобой, женщина уже с трудом представляет, как это раньше не было тебя в ее жизни. Странно, правда, странно… А вся отгадка в том, что не нужно нажимать, давить, спешить. Не нужно подминать. Иногда нужно вместе пообедать в ресторане. Иногда – съездить куда-нибудь за город, например в Архангельское. Иногда – небрежно так вручить билет на Таганку, скажем – на Вознесенского. Иногда – что-нибудь подарить. Вот-вот, подарить. Мужчина нынче пошел прагматик: в постель – пожалуйста, а дарить, тратиться – увольте. А ты – даришь. Ты – Евграфов, ты добрый, улыбчивый, ты не обижаешься, даже если тебе плюют в лицо (ты еще возьмешь свое), тебе просто нравятся красивые люди, женщины, их слова, улыбки, жесты, мягкие волосы, большие глаза, плавные жгучие движения. Тебе нравится эта игра, потому что в любой игре есть победители и побежденные. Отчего же не побыть в роли победителя? В конце концов мужчина – всегда победитель, если он идет до конца. А кому не хочется лишний раз убедиться в том, что он – мужчина?
Мужа Жан-Жанна презирала. За что – о том рассказ ниже.
В Иване Карловиче, любовнике, она обожала эрос (именно так она выражалась), но не любила в нем хитрость, изворотливость, жадность.
И вдруг – Евграфов. Которому ничего не нужно. Добр. Улыбчив. Сговорчив. Что вам нужно от меня, Кант Георгиевич? О, ничего, Жан-Жанна, абсолютно ничего… Вот ведь врет, а все-таки приятно, когда человек говорит, что ничего ему не нужно от тебя. Наоборот – он только и занят тем, что делает подарки. Поверьте, это доставляет ему удовольствие. Один раз – джинсы. Джинсы – с ума сойти! Настоящие, американские, с заклепками, с «фирмой», с замками. В другой раз – позолоченные часы. В третий – югославские сапожки. В четвертый – японский халат и отличное, японское же, нижнее белье. В пятый…
В пятый раз они оказываются у Жан-Жанны дома. Сначала – за чашкой чая. Потом – в постели.
В метро, перед самым выходом из дверей, кто-то нечаянно толкнул Екатерину Марковну, сумка ее раскрылась, и апельсины, как бильярдные шары, веером покатились в разные стороны. Несколько человек бросились помогать Екатерине Марковне; она в благодарности кивала головой, подхватывала апельсины и, краснея, будто делала что-то постыдное, быстро складывала их в сумку. Неожиданно в одном из мужчин она узнала Нуйкина.
– Семен… Иванович? – удивилась она.
– Да, я, – кивнул он. – Только Семен Семенович. Добрый день, Екатерина Марковна.
– Вы? Откуда? Что вы здесь делаете? – Странные вопросы задавала она, как будто человек не имеет права оказаться там, где он оказался. Тем более в Москве, где дороги каждого неисповедимы.
– Я здесь живу. Неподалеку, – ответил он, и они вместе вышли наконец из метро.
– Странно, – сказала она. – Насколько мне помнится, вы жили от «Сокола» Бог знает на каком расстоянии…
– Все меняется, Екатерина Марковна, – ответил Нуйкин. – В том числе и место жительства.
– Ах, да, да… – догадливо произнесла она, вспомнив, что Нуйкин ведь собирался разводиться с женой.
Сколько прошло времени со дня их последней встречи? Верней, с того дня, когда Екатерина Марковна выставила Нуйкина за дверь? Тогда была осень, сырость, промозглый вечер, теперь – апрель, сухо в Москве, набухают почки тополей, скоро майские праздники… Полгода? Пожалуй, даже больше.
– Разрешите, – Нуйкин подхватил сумку Екатерины Марковны.
– Но мне вот сюда. Налево, – показала она.
– Ничего. Мне почти туда же, провожу вас, – сказал он.
Некоторое время шли молча. Странное дело, оба чувствовали, что за последние месяцы они изменились. Или это только казалось?
– Ну как вы, развелись с вашей женой? – спросила она.
– Да, развелся, – кивнул он.
– У вас есть дети?
– Дочка.
– Теперь платите алименты?
– Да, – сказал он.
– Больше всех страдают от семейных неурядиц дети.
Нуйкин на это ничего не ответил, промолчал.
– Вот что я вспомнила, – Екатерина Марковна улыбнулась. – Нашли вы тогда себе «невесту»?
– Нет, не нашел. – Отвечать улыбкой на улыбку Нуйкину не хотелось. Он ответил строго, серьезно.
– Значит, никто не захотел комедию ломать?
– Никто.
– Вот видите… А вы, наверное, обиделись тогда на меня?
– Нет, не обиделся. Я испугался. Вы тогда так разозлились…
Екатерина Марковна рассмеялась.
– Странный вы человек, – смеялась она. – И часто вам приходят в голову такие сумасбродные идеи?
– Если идеи помогают меньше страдать – разве это сумасбродные идеи?
– Да? – удивилась она.
– Да, – ответил он.
Он сказал «да» и подумал: странно, что она смеется. Полгода назад ее, такую воинственную, суровую, неприступную, нельзя было и представить смеющейся.
– Наверное, у вас случилось что-то хорошее? – спросил он.
– Хорошее? – она внимательно посмотрела на него, потому что вопрос этот удивил ее. – Как сказать… А в общем, да: приехала дочь с Байкала.
– Я и не знал, что у вас есть дочь. Поздравляю!
Они уже вышли на улицу Алабяна, теперь пересекали ее, переходили на другую сторону неподалеку от моста.
– Она окончила десять классов и уехала на БАМ. Она ненавидела нас. Нас – то есть родителей. В знак протеста не стала никуда поступать и уехала.
– Ненавидела… За что? – задумчиво спросил Нуйкин.
– Как будто не было за что ненавидеть, например, Евграфова, – ответила Екатерина Марковна. – Она все видела. Все понимала. А меня ненавидела, потому что я терпела. Смирялась с подлостями мужа.
– Понятно, – в прежней задумчивости проговорил Нуйкин.
– Ну, вот мы и пришли, – неожиданно бодро-приподнято сказала Екатерина Марковна. Они и в самом деле стояли около ее дома. – Спасибо вам, – и протянула руку. – Рада была повстречаться с вами.
Нуйкин стеснительно пожал ей руку в ответ.
– Где же вы живете? – спросила она.
– На Песчаной, – ответил Нуйкин.
– О, совсем близко. Даст Бог, увидимся еще. Всего доброго!
– До свидания, – сказал Нуйкин.
На этом они расстались.
У Евграфова были любопытные мысли насчет «вечного двигателя». Когда он их высказывал, например, людям техническим, инженерам, физикам, электронщикам, мало ли какие специалисты встречались ему на пути в его коммерческих вояжах, от него поначалу отмахивались: ну, глупости какие!.. А потом, подумав, каждый вдруг находил идею Евграфова не совсем сумасбродной. То есть, конечно, сумасбродной, дикой, но тем не менее в принципе любопытной, даже, может быть, существенно новой, а может, отчасти и гениальной. Только вот циничной, что ли… Или гениальность не бывает циничной?
Отец Евграфова, философ Георгий Евграфов, в бесконечных спорах с коллегами нередко касался и этого вопроса – «перпетуум мобиле». Сын слушал, думал, ломал голову и, став взрослым, не только нашел разгадку «вечного двигателя», но даже удивлялся, почему до него никому не приходило в голову это простейшее, и легкое, и на поверхности лежащее решение.
– Ты знаешь, что такое «перпетуум мобиле?» – спросил Евграфов у Жан-Жанны в первый же день их постельной любви.
– Думаешь, я совсем дурочка? – усмехнулась Жан-Жанна, развалившись как тигрица на белоснежных простынях.
– А все-таки?
– Ну, «вечный двигатель». Устраивает?
– Вечный двигатель – это любовь, – глубокомысленно произнес Евграфов.
– Ах-ха-ха! – рассмеялась Жан-Жанна. – Евграфов, ты не только живописный маклер, ты еще и философ! Поздравляю, поздравляю, Евграфов.
– Да ты вдумайся, в самом деле! – разволновался Евграфов. Он каждый раз волновался всерьез и искренне, когда приходилось объяснять свою теорию новому человеку, особенно женщине. – Покуда было, есть и будет человечество, была, есть и будет любовь. Любовь вечна, это аксиома. А какова любовь в физическом смысле? Она – двигательна. Представь себе наш земной шар. Он постоянно вращается. И каждую секунду, каждую минуту, каждый час где-то на земле ночь, а ночь – это любовь, а любовь – это движение. То есть движение любви не прекращается на земле никогда. Теперь вопрос: использует ли человек это движение? Не в сущности своей, не в конечном результате – то есть не в воспроизведении потомства, а в смысле использования любви как физического движения? Если бы человечество обязало каждого из нас после свадьбы, например, прикреплять к ноге специальный аппарат, который преобразует физическое движение в энергию, скажем, электрическую, то, представь себе, какие запасы энергии получало бы человечество в каждую секунду своего существования! Появился бы вечный, никогда не прерываемый и никогда не истощаемый «перпетуум мобиле». Понимаешь ли ты, любовь – это и есть вечный двигатель?! Понимаешь, нет?!
Жан-Жанна искренне смеялась. Повалив Евграфова, щекотала его: Кантик ты мой, Евграфов ты мой глупый, дурной, ох, и дурной… Запомните: Кант Евграфов – изобретатель вечного двигателя!..
Увиделись они гораздо быстрей, чем, наверное, могла предположить Екатерина Марковна. Через два дня. На Ленинградском проспекте, неподалеку от 57-го отделения почтамта, Екатерина Марковна зашла в булочную – редко сюда заходила, не совсем по пути, а тут зашла. Взяла половинку черного и батон. Подошла к кассе. И когда подняла глаза от полиэтиленового пакета, в который сложила хлеб, – обомлела. За кассой сидел Нуйкин.
– Добрый день, Екатерина Марковна, – улыбнулся он.
– Здравствуйте, – пролепетала она и почувствовала, как жгучий, сильнейший стыд залил ей лицо. И не только лицо, но и шею. И даже руки. К тому же руки, почувствовала она, стали мелко дрожать.
– С вас двадцать одна копейка, Екатерина Марковна. – Он продолжал, кажется, улыбаться, но она плохо видела, неожиданно все стало для нее как в тумане.
– Да, да, сейчас… – Дрожащими руками она достала из кошелька «двадцатник» и копейку, причем копейка выскользнула из пальцев, пока Екатерина Марковна нагибалась, искала ее на полу, в очереди раздались недовольные голоса.
– Тихо, тихо, товарищи, – успокаивал их Нуйкин, и, кажется, еще больший стыд, чем прежде, вновь залил лицо Екатерины Марковны, когда она наконец нашла копейку и подала деньги Нуйкину.
Подала и тут же пулей выскочила из магазина, ничего не сказав Нуйкину в ответ, хотя он как будто о чем-то спросил ее. Впрочем, нет, он, кажется, просто сказал: «Всего доброго, Екатерина Марковна, заходите еще». Она выскочила из булочной и, красная, возбужденная, слепо наталкиваясь на прохожих, помчалась по проспекту. И вдруг встала. Остановилась как вкопанная. (Прохожие с удивлением посматривали на нее.) Вспомнив себя, свой стыд, горящие щеки и как отводила глаза, когда Нуйкин приветливо здоровался с ней, и как мелко, подло дрожали руки, когда возилась с кошельком, вспомнив все это, она вдруг пронзилась чувством гадливости к самой себе. Как же так? Что с ней случилось? Оказывается, ей было стыдно! Стыдно, что Нуйкин – ее знакомый, что он, мужчина, сидит за кассой, в хлебном магазине; показался стыдным сам этот факт. Как же так?! Что с ней случилось?! Неужели она такая? И теперь другой, новый стыд, не тот прежний, жалкий, трусливый, а стыд настоящий, из глубины души, стыд человеческий опалил ее всю с ног до головы так, что по телу побежали мурашки. И ведь он понял, наверное? Конечно, понял! Он же не дурак… Он все понял, Господи! И это она, которая всегда и всюду, в каждом человеке стремилась прежде всего разглядеть душу… Она, которая кричала когда-то Евграфову в лицо: «Мерзавцы, подлецы, из-за вас нечем дышать простому человеку, вы все осквернили своими хапужными руками, у вас все продается и покупается, и нет ничего для вас святого!» (На все эти слова Евграфов спокойно-блаженно улыбался.) Она ненавидела Евграфова, его знакомых, его философию, всю его жизнь, тайную и явную, и в себе самой, в глубине, в спрятанной сути, хранила только одно, как талисман: святое уважение к простым людям, к труженикам, к тем, кто истинно работает, занимается делом, каким бы маленьким и неприметным оно ни казалось. И вот – устыдилась Нуйкина! Отчего? Оттого, наверное, что в мыслях своих она кем только не представляла Нуйкина, но только не продавцом, не кассиром в хлебном магазине! Инерция шаблонного восприятия людей сыграла с ней злую шутку. Она заранее, давно отринула от себя Нуйкина, представляя его, по подобию со своим мужем, каким-нибудь верным подлецом и негодяем. Ведь, положа руку на сердце, она ни разу не поинтересовалась, чем занимается Нуйкин, хотя разговаривала с ним не однажды. Почему? А когда увидела, осознала, что он самый наипростейший человек (уж куда проще – кассир в хлебном магазине), – сразу и устыдилась его. Узнай она, что он, к примеру, директор ювелирного магазина, или кандидат технических наук, или хоть стоматолог, – наверняка не устыдилась бы, хотя про себя могла с радостью отметить: а-а, ясно, и этот мошенник, бездельник, паразит или кто там еще… В том-то вся и штука в жизни: подлецов не уважаем, ненавидим, негодуем против них в глубине души, но – не стыдимся знакомства с ними! А простого человека – любим, уважаем, восхищаемся им, а чуть до дела, чуть до того – что о нас подумают окружающие, как мы выглядим в глазах толпы, – сразу и устыдишься знакомства с маляром, вахтером, бедно одетой старухой или вот мужчиной – кассиром в хлебном магазине.
Екатерина Марковна резко развернулась и, как прежде, слепо наталкиваясь на прохожих, заспешила в обратную сторону. Вошла в магазин. Нуйкин все так же сидел за кассой, спокойно, приветливо, чуть ли даже не с радостью, как казалось, обслуживая покупателей.
– Семен Семенович! – Она решительно подошла к кассе – не со стороны очереди, а чуть сбоку, прямо от входной двери. – Семен Семенович, – повторила она несколько глуше (в очереди начали поглядывать на них), однако самым мучительным оказалось то, что Екатерина Марковна сама не знала, что хотела бы сейчас сказать.
– А, Екатерина Марковна! Забыли что-нибудь? – радостно, как совсем недавно, улыбнулся Нуйкин.
– Семен Семенович! Завтра у моей внучки день рождения. Приходите, пожалуйста! – Екатерина Марковна не ведала, откуда всплыла в ней эта идея, верней – как она вспомнила о дне рождения внучки, хотя это было истинной правдой. Слова высказались сами собой, как если бы их вынесло наружу какое-то течение.
– У вас есть внучка? – удивился Нуйкин. – Поздравляю! Сколько же ей?
– Завтра год, – ответила Екатерина Марковна (ее все еще продолжали смущать взгляды – этакие взгляды – из очереди). – Приходите, – повторила она и вот – улыбнулась. Робко, смущенно, но улыбнулась.
– Приду, – пообещал Нуйкин. – К которому часу?
– Ну, часам так к семи…
– Товарищи, ну сколько можно болтать в магазине? Работать надо, а не лясы точить! – заволновались в очереди.
– Спокойно, спокойно, товарищи, – проговорил Нуйкин, приподняв руку.
– До свиданья, – сказала Екатерина Марковна. – Так мы вас ждем. – И вышла из булочной.
На другой день точно в семь часов вечера Нуйкин позвонил в квартиру Екатерины Марковны. Дверь открыла хозяйка.
– Семен Семенович? Проходите, здравствуйте!
– Вот, примите, – Нуйкин протянул букет мимоз. – Поздравляю от всей души!
– Спасибо, – Екатерина Марковна несколько смутилась. Она тем более смутилась, что из коридора вышла молодая девушка и настороженно, цепко окинула Нуйкина взглядом. – Возьми, это тебе. – Екатерина Марковна протянула цветы девушке. – Семен Семенович нас поздравляет.
– Здравствуйте, – проговорил Нуйкин в явной робости.
– Здравствуйте, – ответила девушка довольно холодно.
– Познакомьтесь, – быстро заговорила Екатерина Марковна. – Это Тося, моя дочь. А это – Семен Семенович…
– Нуйкин, – добавил тот и даже как бы поклонился, что ли.
– Очень приятно, – сказала Тося, но настороженности своей к гостю не изменила.
– Ну, что же вы, раздевайтесь, – заторопила Екатерина Марковна Нуйкина. – Плащ вот сюда, шляпу сюда…
Прежде чем сесть за стол, Екатерина Марковна повела Нуйкина в спальную комнату. В детской кроватке, под красивым кружевным одеялом (в кружевах, конечно, был пододеяльник) спала девочка: нос кнопкой – не в бабушку, губы пухлые – тоже не в нее, а вот цвет лица – темный, скорее, даже смуглый – точно шел от Екатерины Марковны.
– Нравится? – спросила она.
– Да. Хорошая девочка.
В дверях, в проеме, появилась Тося. Роста она была небольшого, худенькая, совсем девочка, только глаза – крупные, внимательные и, кажется, немало пережившие, узнавшие, что почем бывает на свете; так вот – внешне она как-то мало походила на женщину-мать, скорее, напоминала обиженную десятиклассницу или, в крайнем случае, первокурсницу института: так еще она была хрупка, юна, беззащитна.
– Мама, ну ведь разбудите… – с укоризной, еле слышно прошептала она.
– Мы тихо, тихо. – И Екатерина Марковна увлекла за собой Семена Семеновича. – Мы только немного, посмотреть…