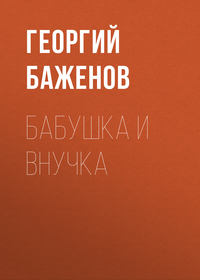Полная версия
Ловушка для Адама и Евы (сборник)
Надо жаловаться… Настал он, этот момент, когда напротив должен сидеть человек и слушать, какой ты невезучий, как все не так и как все должно быть…
И этот человек, действительно, сидел, напротив, давно сидел и наблюдал за Коломийцевым.
– Вот я тебе и расскажу, расскажу, – сказал Антонин Иванович, как будто сто лет был знаком с человеком. – А ты рассуди. Хочешь рассудить?
– Меня Ваней зовут, – сказал человек, – я студент.
– Да какое это имеет значение?! – успокоил Коломийцев. – И хорошо, что студент. Правда, хорошо…
Антонин Иванович налил в две рюмки (Ваня пил вообще-то красное вино, но уж раз такое дело):
– За знакомство!
– Давай! Только тебя как зовут?
– Антонин.
– Ну и имечко! – Ваня незлобливо рассмеялся. – Ладно, поехали!
Вскоре Антонин Иванович рассказывал о себе… Как утром на работе был, как Павлик его выручал, и как семейная жизнь трещину дала, и как совсем недавно, часа два-три назад, ездил он к жене и сыну, да не очень-то его там приняли… Что? Как зовут ее? А какое это имеет значение?
– Нет, имеет. Очень даже имеет, – возразил Ваня.
– Ну, Светлана ее зовут… Она, и правда, светлая такая, чистая, хорошая… А сын весь в меня, такой из себя… Глаза черные, во какие… Как у меня, точно. М-да… Вернулся, значит, в Тюмень, настроение – хуже некуда, ну и решил сюда зайти, в ресторан…
– Дура она у тебя, – сказал Ваня. – Да и все они, бабы…
– Нет, чего уж говорить. Это я все, я…
– Ты?! А ты-то чего? Ты, что ли, от нее сбежал? Ты, что ли, спр-р-рашиваю?..
– Так-то оно, конечно, так. Но ведь и ее понять нужно. Вот скажем, у тебя ребенок, сын на руках, а муж студент…
– Так ты что, тоже студентом был?
– Да был, пришлось когда-то…
– Ну, тогда за это…
– …студент, говорю, на втором курсе еще, три года впереди. Жить-то надо? Надо жить. А как жить? М-да… Работа, правда, хорошая после подвернулась – в «Тюменьлесе», когда институт окончил, помог кое-кто, да и сам, вроде, не без ума, а там и привык, втянулся; Петр Никандрович, начальник, уважает, корректный, волевой человек, да… Только вот получилось как-то… Как бы это сказать… Ну, да я тебе рассказывал, Ваня, ты уже знаешь… В понедельник отчет представлять. Ты не думай, Ваня, я не проходимец какой-нибудь, но в отчете все обман. Не обман… Ну, что-то вроде того. Только для меня-то обман, я знаю…
Шумный и неугомонный сидел в ресторане люд, у каждого своя жизнь, и о жизни этой у всех не хватает времени наговориться. Но вот тот, кажется, пьяный уже человек, стоит ни с кем не разговаривая, качаясь, и опускает в чудесную, как ему думается, машину монету за монетой – и она поет ему бесконечно. Что нравится этому человеку? Песня «Ландыши». Он готов, кажется, слушать ее тысячу раз, слушает, улыбается, а всем другим в зале порядком надоели эти «Ландыши», сколько можно! – да и мода-то на песню десятилетней уже давности… Но Коломийцев, вдумавшись и чувствуя к себе за это уважение, вдруг понимает человека, он знает теперь, что с этой песней связано у того что-то хорошее, дорогое, и было это, конечно, лет восемь-десять назад, так что как запоют «Ландыши», так то, незабываемое, подымается из тумана… У него, у Антонина Ивановича, тоже так бывает, вот, например, как запоют где: «Девочка плачет, шарик улетел…», так он сразу подхватывает: «…ее утешают, а шарик летит…» – и больно, светло и грустно станет.
– Ну, так чего же она сбежала?
– Да как сказать… Не сбегала она, это я во всем виноват.
– Все ты да ты… А я не верю им, да и ты врешь! В них все дело, в бабах, то-о-олько в них, точно тебе говорю! Ты хоть и того лучше, а они все равно тебя сожрут…
– Ты что, женат, Ваня?
– Я-то? Нет, не женат… и не желаю! Потому что… я что знаю? Я жизнь знаю! Вот что я знаю…
– A-а… ерунда все это. В жизни проще и сложней. Но я Свету понимаю…
– А она тебя понимала?! – вдруг закричал Ваня. – Понимала она тебя, я тебя спрашиваю?!
– Тихо, не кричи… «Понимала»!.. Ей чего понимать. Она говорит: ты муж? Я муж. Ты глава семьи? Глава я. Отец ты сыну своему? Отец я. Так вот, говорит, и будь отцом, а не называйся… А ведь я просил: Света, пожалуйста, не надо никого… пока. Так она: раньше надо было думать, а здоровье из-за тебя не буду гробить! Родила сына, Сашей назвали, хорошее, конечно, дело… Только Света все чаще и чаще: ты отец – и все, делай что хочешь, а отец… А я тоже уперся: бросать учиться, что ли? Не могли мы иметь в то время ребенка, а он родился, сын… Что было делать? Зарабатывает Света мало, она воспитательницей в яслях, денег не хватало, вот и ссорились буквально по пустякам. А у меня то сессия, то проекты, то курсовые, то практика, то еще что-нибудь – в общем крутился как белка в колесе… В конце концов и запарились мы оба. Она говорит: «Не могу больше. Не могу!» А что я ей отвечу? Потерпи, говорю, еще два года – и все. «Два года! – плачет она. – Да я что, сумасшедшая? Нет, нет и нет! Уезжаю от тебя, а ты как хочешь… Ты не муж, не отец, не любимый ты, а ничтожество, ничтожество!» «Сама виновата, не надо было рожать!» – кричу я, а сам трясусь от обиды и бешенства. «Я всю жизнь, всю жизнь виновата! – плачет она. – Что любила тебя – виновата, что требую нормальных условий для семьи и ребенка – виновата! А ты, ты – эгоист, трус и ничтожество! Ты всегда всегда прав! Всю жизнь ты думаешь только о себе, да, да!..»
Коломийцев вновь почувствовал всю горечь этих слов, нахмурился и замолчал. Он сидел, не глядя на Ваню, и вертел в руках бокал, ни на чем, кажется, не сосредоточиваясь, только ощущая в сердце боль. И Ваня не мешал Антонину Ивановичу молчать, было ему отчего-то неудобно и одновременно жалко… Кого? Антонина Ивановича? Свету? Он не знал этого.
– Конечно, – сказал Коломийцев глухо, – не очень-то хорошо, когда тебе говорят: не люблю!., трус!., ничтожество!.. Несправедливо все это. Да что делать? Я все понимаю…
– «Понимаю», «понимаю»! Да чего тут понимать-то? – разозлился вдруг Ваня. – Чего? Почему теперь-то не сходитесь? Из-за тебя, может? Ведь у тебя квартира, деньги, работа… Из-за тебя, да? Молчишь? Молчи, молчи… Только скажу я: плевать ей на тебя. Она уж, наверно, с другим снюхалась!
– Не надо, Ваня, – поморщился Коломийцев. – Об этом не надо… – И вдруг, словно подхлестнутый чем-то, заговорил быстро, страстно, живо: – Да ведь я сам об этом думаю, понимаешь, сам все время думаю! Как представлю только, что она, может, не одна там, – и страшно сделается, так и переворачивается все внутри! И знаешь что? – Коломийцев перешел на шепот. – Я тут Павлика здорово подозреваю… я тебе рассказывал о нем, такой на все способен. Надумал я как-то мириться со Светой, а одному ехать страшно. Ну и взял его с собой. Приехали в поселок, познакомились… Мы со Светой свои дела решаем, а Павлик по комнатам ходит, – у Светы после матери целый дом остался, – ходит, репродукции рассматривает, произведениями искусства интересуется. Говорю Свете: переезжай ко мне. А она: нет, ни за что, никогда! Почему? И отвечает: ни почему, не верю тебе – и все. А Павлик ходит и ухмыляется потихоньку, есть у него такой прием – ухмыляться: будто все ему давным-давно знакомо, пройденный этап, детская забава… И все что-то бормочет вполголоса, про Кафку, Матисса, Ренуара, Джойса… или там про алкеевскую строфу, а сам наверняка в ней ни бум-бум, или еще про Эйнштейна, романтизм, символизм… Я-то хорошо знаю все его штучки!
Вот тут она возьми да и обрати на него внимание! Ему, конечно, не возразишь, не опровергнешь его – а букет-то из красивых и умных слов он уже преподнес. Он все учит меня, этот Павлик, что мужчина любит глазами, а женщина ушами… Ну, она и заинтересовалась им, загадка он уже для нее какая-то, разгадать ее надо. А его не очень-то легко разгадать, если он что задумает… Пока в душу к человеку не залезет, до тех пор и не разгадаешь. Это у него прием такой. Верный, говорит, прием, ни одна рыбка еще не сорвалась…
И вот смотрит она на него, а он как будто и не обращает внимания… тараторит себе и тараторит. Что для такого момента нужно? – учит он меня. Нужно пыли побольше подпустить, очаровать женщину во что бы то ни стало. Ну, он и говорит, небрежно так, но на хорошем английском языке. Я-то, правда, так себе английский знаю, но все-таки знаю:
«So if you have loved some woman and some country, you are very fortunate, and if you die afterwards it makes no difference…»
«Да что же это такое? – умиляется вдруг она. – Как красиво! Что это?»
«Что? – спрашивает в свою очередь удивленно Павлик. – Да вы разве не знаете?»
«Да откуда же? – говорит она. – Ведь я не знаю языков… Это английский, кажется?»
«Английский, – соглашается он покровительственно, а сам опять чуть-чуть усмехается: английский-то, мол, английский, да не совсем английский. – Это американец Хемингуэй, папа Хэм…»
«Ой, как интересно!»
«Еще бы, – подхватывает он, – не интересно. Это все-таки Хэм!»
«А вы на русский, Павлик, можете перевести? Что такое он сказал?»
А он говорит:
«Отчего не могу перевести, перевести можно… – А в тоне его примерно вот что: я все могу, только зря-то стараться, даром-то, не очень хочется… Правда, для вас-то, в виде исключения, пожалуй, и соглашусь, даже с радостью, может, соглашусь…»
«Ну так переведите, Павлик!»
«И если ты любил какую-нибудь женщину, – начинает он, – и любил какую-нибудь страну, то тебе дьявольски повезло, и если ты умираешь потом, это не имеет значения…»
«Как, как вы говорите, Павлик?!»
«…и если ты умираешь потом, это не имеет значения…»
«Боже, как здорово сказано! «…если ты любил какую-нибудь женщину и какую-нибудь страну…» Вот как надо любить, вот что такое любовь!»
И вот теперь сомнение во мне, подозрение. Понимаешь, Ваня, ненавижу я этого Павлика. Обойтись без него не могу на работе – а ненавижу! Он иногда куда-то пропадает, на несколько дней. Несколько раз я его на вокзале встречал; по глазам вижу – смеется он надо мной, издевается… До чего я дожил! Ничего не знаю, никому не верю! Себе не верю! Тяжело!
– Это точно! Это так – нелегко, – согласился Ваня. – Вот скажи, скажи, друг Антонин, кто читает ныне Георгия Валентиновича Плеханова? Кто из нынешней молодой шпаны, не буду говорить – внимательно, хотя бы просто читал прекрасное плехановское «К вопросу о роли личности в истории» или «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»? Кто? А вот я, Иван, двадцать раз читал и еще сто раз прочту, потому что я умный, индивидуальный человек! Я простора хочу, ибо я не совсем обыкновенный человек, не-ет! Личности, говорил Плеханов, благодаря особенностям – во, особенностям! – своего характера могут влиять на судьбу общества. Mo-гут! И я – тоже могу! И Антонин – тоже может! Поэтому вот тебе мой совет: прийти в понедельник на работу и плюнуть в Петра Никандровича: на тебе! Точно, точно! Потому что ему, значит, можно над человеком издеваться, лгать его заставлять, а нам что же – даже плюнуть в него нельзя?! Ну уж дудки, Петр Никандрович! Мы ведь знаем кое-что, мы о роли личности знаем многое… И вообще мы знаем все, нас не проведешь…
IV– Билет, билет, говорю, покажи! – толкал проводник Коломийцева. – Слышишь? Билет покажи, чего так крепко спишь?..
Коломийцев открыл глаза и сквозь пелену увидал человека с грустными, понимающими глазами.
– Спасибо, что разбудили, – сказал Антонин Иванович. – Воздухом пойду подышу, муторно. – И встал, пошел в тамбур.
– Билет, билет покажи, – настаивал проводник, идя следом. – Слышишь?..
Антонин Иванович не останавливался, а когда они оказались в тамбуре, тихим и горьким голосом сказал:
– Нет у меня билета, дядя.
– Тогда не возвращайся снова в вагон. Не возвращайся, прошу тебя.
– А не договоримся мы с тобой, дядя? – Но просьба Коломийцева звучала как бы безразличной к ответу.
– Нет, не проходи больше в вагон. Не надо…
– Ну, все равно… Закуривай. – Антонин Иванович протянул папиросы.
– За это спасибо. Теперь пойду. Кури здесь один… Только контролеры пойдут, высадят тебя. Далеко едешь, едешь далеко?
– К вам в столицу. В Ташкент.
– Ой-ой-ой, далеко Ташкент! Билет не купишь – высадят…
Антонин Иванович остался один, курил… Странным и смешным даже показалось ему, что вот он уже как будто не пьян, не безумен, но все равно покорно согласен в себе: ехать надо, и раз едется в Ташкент, то в Ташкент и надо… Уж и не вспомнить, как и куда они вышли с Ваней из ресторана, плыли лишь фонари над платформой… а потом Ваня уже и не вспоминается… Вот только тревожный гудок электрички… и голос диктора: до отхода поезда на Ташкент остается две минуты… и как заныло внутри, встревожилось сердце – бежать, бежать на край света, подальше от всего этого, подальше… И это «все» в тот момент было не вещественным, не реальным, а просто – «все, все»! – так что мчаться отсюда, мчаться, пока желание – серьезное и действительное. Но вот теперь он понимает, что это было не серьезное и не действительное желание, это как безумие было, но все равно – даже теперь – он согласен уехать и упрям в желании: ехать, ехать… И бежал он на поезд, чтобы не опоздать, чтобы уложиться в две минуты, трудно пришлось, но поезд тронулся – и он был в нем, шептал: «Прощай, прощай!..» – и никакого сомнения, что не вернется сюда никогда, – да и не могло быть такого сомнения… Потом он сидел в вагоне, слушал узбеков, как они разговаривают и играют в карты, засыпал… Была уже ночь, пассажирам пора укладываться спать, но, видя, как Коломийцев как-то строго и одновременно горестно вдруг заснул, они не будили и не прогоняли его с законных своих плацкарт, разрешили посидеть, отдохнуть пока… Он спал и видел сон, но ничего теперь не вспомнить… Выручил пассажиров проводник: он пошел по вагону спрашивать билеты, записывать, кто куда едет и когда кого где разбудить, чтобы все было в порядке, чтобы люди остались довольны… Он-то и разбудил Коломийцева, так что теперь стоит он, безбилетный, в тамбуре, курит и вспоминает.
И чем больше думал Антонин Иванович, тем несправедливей казалась ему судьба. Вот он такой человек, что никому не то что не делал – даже не желал зла, да и ему, кто ему желает зла? А между тем поезд мчится в Ташкент, и он, Антонин Иванович, согласен с этим, потому что иного выхода, как бежать, нет.
Но от кого бежать?
Думает он об этом упрямо, мучается – но ответить не может. Может, он бежит от Петра Никандровича, боится его, трусит? Конечно, думает он, боюсь, боюсь, вспомни весь день, весь свой утренний страх! Да, это так, но все же не в этом дело… Да почему не в этом? Нет, не в этом, не в этом, все же упрямится он, потому что если бы в этом, то разве стоило бы бежать? Ерунда!.. Тогда почему, почему вместе с людьми, которые едут на родину, к себе домой, спешит в далекий, не нужный ему Ташкент и Антонин Иванович Коломийцев?.. И он начинает думать о жене, о сыне, вспоминает их с мучительным беспокойством… Вновь встают все ссоры перед глазами, вновь видит и слышит он то правду жены, то свою правду, то правду всех троих – отца, матери и сына, то вдруг возьмет свою сторону, то сторону жены и сына, – и такая тут начинается головная боль, что чуть постанывает Коломийцев, бросив папиросу и потирая виски. Нет, неправда, что бежит он от Светы, от Саши, потому что не бежать ему хочется от них, а наоборот – прийти к ним, наладить жизнь и любить их, свою семью, и чтобы они его тоже любили, чтобы все было хорошо… Но когда он приходит к ним, вот именно он, муж и отец, вот такой, какой есть, не делающий и не желающий никому зла, то отчего-то как раз происходит отдаление. Но уж совсем странным – как озарение – показалось (может быть, только показалось?) Коломийцеву то, что чем дальше уносит его поезд от Тюмени, тем не жена и сын становятся ему ближе, – он их и так, без побега этого любит, – а наоборот, он, Коломийцев, становится им, особенно Свете, ближе, родней, он как бы почувствовал это за Свету, каким-то сверхчутьем угадал, но это было лишь миг, и тут же расплылось, растаяло… И не успел ухватить Коломийцев, в чем тут дело. Как-то сразу, за этим же, навалилась обида – обида горькая – на Светлану, вспомнилось, как разговаривала она с Павликом и как старалась показать ему, мужу, что нравится ей чем-то этот озорной мальчик; обиделся он на жену и за то, что вот и Ване даже, вовсе незнакомому человеку, взбрело засомневаться в ней, но он, муж, не хочет во все это верить, не может поверить, нет, нет! Ведь он знает – она любит его, только не принимает почему-то такого, какой он сейчас, не принимает. Но почему? Нет, не принимает… Да и не из тех она, конечно, женщин, чтобы маленькие Павлики могли всерьез заинтересовать ее…
И это так… так-так-так… – стучит, гремит убегающий из Тюмени поезд.
Убегающий…
От кого, от кого бежит Коломийцев? Не от Павлика же, в самом деле, не от Вани, например, не от жены, конечно, не от сына, не от кого еще?.. Да ни от кого вообще не бежит Антонин Иванович! Откуда, думает он, взялся в голове этот дурацкий вопрос? Чепуха все это! Почему обязательно от кого-то бежать? Ни от кого он и не бежит, взбрело в голову, зацепился в голове проклятый этот вопрос, а ничего-то и нет на самом деле! Ничего, ничего!
И только, было, подумал, что теперь уж все, легче станет, отбросил он нелепые и мучительные вопросы, вот, мол, вот полегчает – как в тамбур вошли два контролера и нисколько, кажется, не удивились, что стоит здесь безумный на вид пассажир, вокруг окурки валяются, а времени уже третий час пополуночи…
Но вот когда была уже первая после Тюмени продолжительная остановка, спокойствие их улетучилось… Всей душой они ненавидели Антонина Ивановича, потому что не понимал он, шумел, не хотел понимать, что нельзя без билета! А что у него денег нет на билет, это их совсем не касается, нет денег – не езди, поэтому они пока культурно просят – выходи, выходи давай! – а если не понимает по-хорошему, то они сейчас живо милицию вызовут – это они быстро могут…
И чем ясней становилось Коломийцеву, что придется сойти, тем яростней было желание остаться в вагоне, ехать – туда, в ненужный Ташкент, и он умолял, просил, требовал – ничего не помогало.
Он вышел.
Он стоял внизу, на земле, а контролеры, взявшись за поручни, темнели, казалось, высоко вверху, и Антонин Иванович, совсем не узнавая себя, задрав лицо кверху, пытался еще и еще упросить их… А была ночь, темная, холодная, осенняя, дул ветер… Коломийцев поднял воротник, нахохлился и… придумал выход, едва скользнув взглядом повдоль вагонов. «Хорошо же, – думал он злобно, – хорошо…» И как только дернулся поезд, так дверь в вагон шумно захлопнулась, контролеры удовлетворенно вздохнули, но Коломийцев не остался стоять внизу растерянный и несчастный, он тотчас бросился к соседнему вагону, где, случайно или нет, но дверь была открыта… Бежать пришлось по движению поезда, но он лишь начинал набирать скорость, так что без труда нагнал заветный тамбур Антонин Иванович…
Он стоял в тамбуре уже минуту, две… жаждал, чтобы поезд вдруг полетел как стрела, но будто назло тащился он очень медленно.
– A-а, опять ты тут! – услышал Коломийцев знакомый, прерывистый от гнева голос: перед ним стояли контролеры!
И неминуемо завязалась борьба!
И вот лежит уже, не покалеченный и не сорвавшийся с поезда, лежит, а потом подымается и стоит на земле Антонин Иванович Коломийцев, и смотрит с тоской и презрением вслед уходящему поезду. Что думает, что решает он? Ничего – не думает, не решает…
А потом он идет на вокзал и, войдя в него, вдруг ясно и отчетливо сознает, что трезв уже совершенно, словно и не пил. И долго бродит Коломийцев по вокзалу, и смотрит на спящих повсюду людей, и удивляется, отчего их так много, почему не спят они в своих сибирских квартирах или, если они не местные, почему не уехали отсюда заранее? И вдруг он чувствует, что, как это ни странно, а наступило в нем успокоение: ни в Ташкент, ни в Тюмень, ни к черту на кулички ему не хочется, никуда… Все кажется теперь призрачным, смешным донельзя, глупым, все его мечты, все его желания. Он идет к свободной скамейке, садится и закрывает умиротворенно глаза…
Он проснулся от неожиданного и бесцеремонного шума вокруг. Было уже утро, тусклый заоконный свет будоражил толпу, все спешили, толкались, беспокоились, как бы без них не ушла первая ранняя электричка.
Вдруг странное, сильное беспокойство подхватило и Антонина Ивановича. И не сумел он еще осознать это беспокойство, как уже бежал вперед, обгоняя спешащих, как и он, людей на электричку. И даже, уже устроившись, заняв удобное место у окна, и даже вспомнить Антонин Иванович не вспомнил, что нет у него ни билета, ни денег, ни, значит, права ехать в такую далекую, как теперь кажется, Тюмень. Да и что тут беспокоиться… Это-то и есть ерунда… совершенная ерунда…
И правда: тронулся поезд, замелькал в окнах вокзальный пейзаж, уходя назад, назад… И совсем непонятное по своей природе беспокойство – не о деньгах, не о билете – все больше и больше начинало тревожить Антонина Ивановича. Все чаще спрашивал он себя: за каким чертом он здесь, в этой глуши? За каким дьяволом потянуло его в Ташкент? За каким вообще он напился вчера? Ах, Коломийцев, Коломийцев, думал он, упрекая себя, пропадешь ты со своим характером, пропадешь, ни за грош пропадешь… Подумать только – потерять вчера целый день! Вместо того, чтобы подумать, взвесить, решить, какую бумагу в понедельник отдавать Петру Никандровичу или уж, в крайнем случае, чтобы семейные дела утрясать – в Ташкент, к козлу на рога покатил! Хорош гусь, ничего не скажешь, хорош! Да-а!..
Так и несла Антонина Ивановича Коломийцева, безбилетного, безденежного и бесправного, несла и несла электричка в Тюмень. И Тюмень эта все ближе и ближе. И чем она ближе, тем острей беспокойство; беспокойство это становится вскоре и не беспокойством, а страхом, и будущая – после воскресения – неделя кажется строгой, беспощадной Антонину Ивановичу Коломийцеву.
Пространство и время
Повесть
На вечере по случаю пятилетия супружеской жизни Вагановых заговорили о верности.
Были мнения такие: верности нет; верность есть; верности нет, потому что ее вообще не может быть; нет ни верности, ни любви; любовь есть, но что такое верность? – мираж; все это не так – есть только то, чего нет; а это уж совсем непонятно: выходит, мы живем иллюзиями?..
Молчал лишь Дмитрий Ваганов.
– А знаете, почему он молчит? – спросила гостей Лена Ваганова и обвела всех веселым взглядом.
– Почему?
– Потому… – она смело встретила взгляд мужа. – Потому… что Митя ведь предатель. Да, Митенька, да!
Лена погрозила озорно пальчиком и непринужденно рассмеялась, будто получилась хорошая шутка. И все тоже весело рассмеялись…
Вскоре, однако, о шутке забыли; спорили о том, какой теперь сложный век, кого считать хорошим, кого плохим, и о прочем.
Дмитрий Ваганов участия в споре не принимал.
Он после слов жены вдруг почувствовал жесточайший приступ обиды, обида растекалась по всему телу – Ваганов ощущал ее движение, грубый напор и силу. Вскоре ему даже показалось, что уже не обида растекается в нем, а сам он, вместе с мыслями, ощущениями и восприятием, растворился в обиде.
И было так, словно за общим столом сидели семь человек и одна обида, и у этой обиды обостренный светился изнутри взгляд. Вот жена, которая с легкостью назвала его предателем, разумея при этом что-то свое, несправедливое, а вот друзья, которые с той же легкостью посмеялись сами не зная над чем. И вот он…
«За что? – думал он. – За что?..»
Он размышлял над тем, почему жена назвала его предателем и размышлял серьезно, потому что знал, что жена вовсе не шутила, а высказала какое-то тайное свое раздумие о нем, муже Мите Ваганове.
И всегда, когда было ему очень обидно и больно, он мечтал остаться один, то есть не просто остаться, а убежать от всех, скрыться, спрятаться, потому что страдание на виду у всех невыносимо.
Ему казалось, что душа его сродни душе собак, которых он понимал и любил. Он то в них понимал и любил, что, когда им больно и тягостно, они убегают, а куда – знают только они.
– Ты куда, Митя? – спросила она.
– Так… Я сейчас, – ответил он и взял с полки какую-то тетрадь.
В коридоре он надел плащ и фуражку, и, когда открыл уже дверь, сзади его обняла мягкими теплыми руками жена и прошептала:
– Митя, ну что с тобой?
Он повернулся, посмотрел ей в глаза и виновато, но серьезно улыбнулся:
– Я подышу немного… Это ничего.
В приоткрытую дверь он увидел, как на них, вернее – на Лену, смотрит из комнаты Борис и ухмыляется глазами. Это он говорил: нет ни верности, ни любви.
Ваганов вышел, мягко закрыв за собой дверь, как будто так просто вышел, действительно погулять, подышать, а не чтобы убежать, скрыться…
Он боялся погони, как боялся ее всегда, потому что он, когда убегал, чувствовал, от чего убегает, а тот, кто его догонял, не понимал, зачем догоняет. Догоняли его просто из мысли: раз бежит— надо догнать, вернуть, остановить… И, боясь этой бессмысленной погони, Ваганов вдруг побежал по лестнице вниз… Мелькали ступеньки, перила, двери…