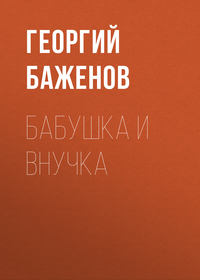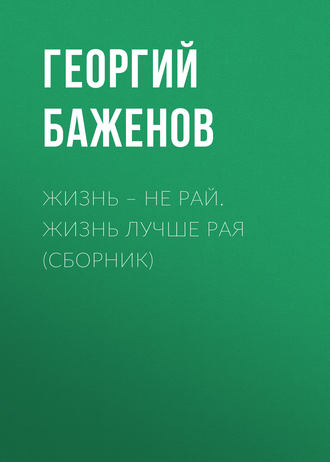
Полная версия
Жизнь – не рай. Жизнь лучше рая (сборник)
– О, ты опасный человек, Алена! Тебя надо остерегаться. Ты все знаешь, все помнишь. Нет, определенно тебе надо работать в агентуре.
– Значит, так. Послезавтра во время обеда ты звонишь мне на работу. Договорились? Ключи у меня будут в кармане. Об остальном я позабочусь сама. Да, запиши мой рабочий телефон. Диктую…
– Записал.
– Ну что, пока тогда?
– Пока.
И, уже почти положив трубку, Алена на всякий случай прокричала:
– Так позвонишь? Точно?
– Позвоню.
– Ой, Алеша, смотри! Не позвонишь – я в людей перестану верить.
– Зачем такие глубоко идущие выводы?
– Ты меня целуешь?
– Целую.
– То-то же! – Она рассмеялась и с легким сердцем положила трубку на рычаг.
С Петром происходило что-то непонятное, он помрачнел, посерьезнел, при разговоре отводил глаза в сторону: тайная тоска точила его. Первой заметила это Людмила Ивановна, мать Алены, и не просто заметила, а как бы подвинулась душой к Петру, всегда испытывая к нему внутреннюю симпатию. Самое себя, истинную и правдивую, она часто прятала в тайниках души, давно поняв, что с таким мужем, как Георгий Александрович, невозможно жить в открытую. Чем больше откроешься ему, тем больше будет подавлять тебя. Мужу важно, чтобы человек, который живет рядом, мерил жизнь теми же мерками, что и он; в этом он видел назначение мужчины, мужа, главы семьи. Твердые, жесткие люди – они живут для себя. Для них не существует чужих правил. Мягкие люди (вроде Петра) – те дают жить другим. Мягкие люди (вроде самой Людмилы Ивановны) позволяют другим людям не только жить, но и садиться себе на шею. Вот в чем чувствовала Людмила Ивановна тайное родство с Петром. Вот отчего замечала перемены в его внутреннем состоянии. Вот почему он был ей дорог.
– А вы знаете, как я выходила замуж? – спросила Людмила Ивановна Петра.
В квартире они были одни, Григорий Александрович последние дни пропадал в спорткомитете (скоро соревнования, а он работал тренером по тяжелой атлетике), а Алена, естественно, была на работе в райздравотделе. После работы она велела Петру ждать ее дома, у родителей.
Петр вопросительно взглянул на Людмилу Ивановну.
– Совсем не так выходила, как однажды рассказывал Григорий Александрович. Помните?
Петр не очень хорошо помнил, но кивнул.
– Он как-то рассказывал: мол, собрались в студенческом общежитии, стрельнули шампанским, дешевая закуска, танцы под пластинки…
– Да, да, помню… – Петр и в самом деле вспомнил рассказ Григория Александровича.
– Дело-то все в том, что… только, Петр, дайте слово, что никому не расскажете о нашем разговоре.
– Да, конечно, конечно, Людмила Ивановна. О чем речь…
Людмила Ивановна рассказывать не торопилась. Накрыла на стол, заварила свежий чай, поставила домашний кекс.
– Кушайте, Петр.
– Спасибо.
Людмила Ивановна и сама села за стол; лицо ее вдруг показалось Петру обновленным: схлынула вечная усталость, озабоченность, померкшие обычно глаза налились светом, в котором проскальзывали искринки неожиданного озорства.
– А не хотите по рюмочке, Петр? Кагора. Слабенького дамского напитка.
– По рюмочке можно. – Петру и самому сделалось легче, свободней рядом с Людмилой Ивановной – впервые он видел ее такой раскованной, естественной. Он даже улыбнулся.
– Та-ак, погуляем сегодня. Сегодня такой день, сегодня можно…
– А что за день? – снова улыбнулся Петр.
– Ох, не спешите, Петр. Все по порядку…
К чаю Людмила Ивановна налила по рюмке кагора, они чокнулись.
– Ну, Петруша, поздравьте меня!
– Поздравляю… Только что у вас за праздник? Ей-богу, не пойму.
– Праздник? Молодость вспомнила, молодые годы, Петруша.
– А, ну, поздравляю вас, Людмила Ивановна!
Когда начали пить чай, Людмила Ивановна, несколько захмелевшая то ли от кагора, то ли от воспоминаний, с улыбкой призналась:
– Не просто молодость вспомнила я… Ведь день свадьбы у нас сегодня. С Григорием-то Александровичем.
– Как день свадьбы?! Простите, Людмила Ивановна, не знал.
– Не надо просить прощения, – мягко улыбнулась она. – Дело-то все в том, что мы никогда не отмечаем этот день.
– Почему? – удивился Петр.
– Да как вам сказать… – Людмила Ивановна задумалась на некоторое время. – Свадьба-то и радостью была, и горем, что ли… Ну, если не горем, так что-то вроде этого…
Петр не перебивал, слушал.
– Только, Петруша, вы дали слово: никому ничего… Особенно Алене. И особенно – Григорию Александровичу.
– Ну, конечно, конечно…
– Дело-то все в том, что в тот день я должна была выходить замуж не за Григория Александровича…
– А за кого же, простите?
– А за ученика Григория Александровича. Ивана Кошкина.
Петр ничего не понимал, но молчал, слушал. Удивила его только эта фамилия – Кошкин. Ведь и у Григория Александровича, и у Людмилы Ивановны, и у Алены была та же фамилия – Кошкины.
– Да, да, – кивнула на его догадку Людмила Ивановна, – он был однофамильцем. Причем любимчиком у Григория Александровича. Григорий-то Александрович, он не студент тогда был, он на десять лет старше меня, работал тренером в нашем институте (я ведь тоже Институт физкультуры окончила, легкой атлетикой занималась). А получилось как… Опоздал Иван на регистрацию. Банальная ситуация: на тридцать минут опоздал. И этого Григорию Александровичу вполне хватило.
– Как это?
– Он был свидетелем у нас. Ну как же, любимый тренер, любимые ученики. Я знала, он любил меня. А я… Мне они оба нравились – и Ваня, и Григорий Александрович. Но Ваня – молодой, сами понимаете, ровня. А Григорий Александрович – преподаватель, взрослый мужчина. Я его просто-напросто боялась…
– Ну и? – Отчего-то все в Петре напряглось от этого рассказа, замерло в душе.
– Ну, Григорий Александрович взял меня крепко вот так за руку, – она показала, как именно он взял – за запястье, – смотрит в глаза, мне даже страшно стало, и говорит так, что я чуть в обморок не падаю: «Люся, – говорит, – последний шанс у нас. Со мной ты будешь счастлива, с ним – нет. Он не боец. Он сойдет с помоста. Победителей не судят. Ну?!» И как закричит на меня! Я как во сне. Кивнула. Ивана нет. Когда Иван приехал, было уже поздно. Я расписалась с Кошкиным – только с другим, с Григорием Александровичем. Какая уж там свадьба после этого? Какое шампанское? Все отвернулись от нас…
И тонкая жгучая игла вонзилась в сердце Петра. Он ничего не говорил. Он слушал. Он во все глаза смотрел на Людмилу Ивановну и не мог поверить: да неужели? Не может быть… А Людмила Ивановна продолжала дальше:
– Всю жизнь потом Григорий Александрович боялся потерять меня. Он запер меня в клетке, отгородил от друзей. Запретил заниматься спортом. Только семья. Только дочь… И постепенно я превратилась в то самое, что вы видите перед собой. В женщину, о которой и подумать нельзя, что в молодости у нее были такие страсти… – Людмила Ивановна горько усмехнулась.
А Петр продолжал во все глаза смотреть на нее. Неужели опять? Неужели и здесь? Да что же это?!
– Не знаю, почему я вам рассказала все это сегодня… Впрочем, нет, знаю. – Она с грустью и с пониманием внимательно посмотрела Петру в глаза. – Дело в том, что я не хотела бы, чтобы в моей дочери, в Алене, повторилась моя жизнь. Конечно, вы совсем другой человек, не такой, как Григорий Александрович, вы мягкий, добрый, отзывчивый, но ради Бога, Петр, умоляю вас – никогда не притесняйте жену. Не запирайте ее в клетку. Не душите в ней живое, естественное, натуру. Жизнь в ней не душите, жизнь! Не надо…
Петр согласно кивнул, хотя мысли его шли совсем не в русле слов Людмилы Ивановны; на него снизошла как бы оторопь, недоумение: да что это, почему опять, зачем?!
– Я прожила немалую жизнь и должна признаться: жизни с Григорием Александровичем я не видела. Он подавил меня. Уничтожил. Растоптал во мне самостоятельность…
В это время раздался телефонный звонок, и, продолжая договаривать свою мысль – «…свободного человека» – Людмила Ивановна спросила:
– Да?
– Мам, это я. Привет. Петр у нас?
– Да. Мы сидим с ним чай пьем. Разговариваем.
– Передай ему, чтобы ждал меня и никуда не уходил. Что бы ни случилось – ждал и никуда не уходил.
– Хорошо, хорошо.
– Ну, пока! – Алена без всяких объяснений положила трубку.
Во время обеденного перерыва Алексей не позвонил. Не позвонил и через час. И через два часа. Выходит, Алена зря отпрашивалась у заведующей: ключ от квартиры Петра лежал в ее сумочке мертвым грузом.
– Что же ты не уходишь, Леночка? – поинтересовалась Нина Васильевна, взглянув на нее с некоторой насмешливостью, которую с трудом переносила Алена.
– Решила закончить срочное, а потом пойду, Нина Васильевна, – ответила Алена.
– Ну, ну, хорошо… – И заведующая вновь улыбнулась как бы ласково, но со скрытой усмешкой. И чего ей надо?
Наконец Алексей все-таки позвонил. Часа через три.
– Господи, я уж думала, ты провалился сквозь землю! – обрадованно затараторила Алена. Она так искренне обрадовалась звонку, что даже укорять Алексея была не в силах.
– Видишь ли, – сказал он, – раньше никак не мог. Дела.
– Ну, хорошо, хорошо. У меня все готово. Ключ в кармане. Где встречаемся?
– Тут такие дела, птичка. Сегодня я никак не могу. Уезжаю в командировку.
– Как так?! – с недоумением вырвалось у Алены.
– И вообще, понимаешь ли… я переезжаю. В другой город. Насовсем.
– Ой, не ври! Ты что? Так я тебе и поверила!
– Серьезно.
– Да врешь ты все!
– Ну, хорошо. Допустим, вру. Допустим, не уезжаю. Остаюсь здесь. Но в командировку-то я уезжаю точно.
– Но почему так срочно? Ты же говорил… Ты же обещал…
– Ничего я не обещал. И вообще, птичка, пора заканчивать наш телефонный роман. Побаловались – и хватит. Я устал…
– Но как же? Ведь я…
– Очень просто. Скажем друг другу: «Адью» – и повесим трубки.
– Но я люблю тебя.
– Не говори глупости.
– Я не могу жить без тебя. Послушай, я люблю тебя…
– Да ты просто сумасшедшая.
– Я люблю тебя. Я не могу без твоего голоса. Без твоих слов. Без тебя. Я люблю тебя…
– Ты ненормальная…
– Но я люблю тебя! Люблю!
– Все. Адью! – И он повесил трубку.
Через неделю должна была состояться свадьба.
Сёстры
Сказание о русских женах
Сестре Лоре
Глава 1
Полина
…Полина только усмехалась; Варвара – мать Варвара – и ворчала, и ворчала, и то не так, и это не так, все равно помирать, на кой черт затеяла переезд этот, вот она, веревка, как уедешь, Полина, так на этой веревке и вздерну себя: уж лучше там, в адовых вратах, чем здесь, в иудиных хоромах, тьфу!.. Полина слушала и усмехалась: неожиданно у нее возникла одна идея… Идея эта была так проста и хороша, что Полина удивлялась, как такое не пришло ей в голову раньше. И вот усмехалась – скорее от радости, чем прислушиваясь к ворчанию старухи.
Мать Варвара сидела на узлах посреди комнаты, в туго повязанном на голове цветастом платке, в просторном, довольно потрепанном платье, поверх которого была надета сначала шерстяная, пегого цвета, безрукавка, а затем одна кофта – магазинная, со скатавшимся от времени седенько-пепельным ворсом, а другая – домашняя, вязаная, которую Варвара носила, казалось, не снимая ни днем ни ночью, – подарок Полины. На ногах у матери Варвары, несмотря на жаркое лето, были натянуты теплые темно-коричневые чулки в резинку, и, хотя она сидела в войлочных полусапогах и ступней ее не было видно, Полина была уверена, что поверх чулок мать Варвара обязательно надела шерстяные, грубой вязки, носки, – от старости или, может, от вечной боязни простыть и заболеть, она всегда одевалась чересчур тепло, отчего выглядела неуклюжей и, что хуже всего, даже неряшливой.
Полина, нисколько не боясь, что мать Варвара может что-то сделать над собой, потому что она уже много раз грозилась посчитаться с этим светом вчистую, Полина решила тут же, не откладывая дела в долгий ящик, сделать то, что надумала. А именно – съездить в совхоз к отцу, Авдею Сергиевичу, всего-то двадцать километров отсюда, от поселка, – полчаса езды на автобусе.
– Ты вот что, – строго сказала она матери Варваре, растащив узлы по углам, – я сейчас обернусь мигом, надо мне по одному делу… А ты смотри не дури, разбери пока вещи, по шкафам разложи… Учти, вернусь не одна – с гостем; чтоб все чин чином было. Новоселье-то надо отметить, а? – И усмехнулась-улыбнулась.
– Новоселье я тут отмечу, как же… говорю тебе, Полина, вот она, веревка, как уйдешь, так и вздерну себя. Не увидишь меня больше живой…
– Попробуй только помри! – пригрозила Полина. – Из петли вытащу и выпорю, помяни мое слово!
– Как это – выпорешь? – неподдельно удивилась мать Варвара.
– А возьму вот этот ремень, видишь – он кожимитовый, тонкий да хлесткий, да ка-а-ак начну хлестать по одному месту…
– По мертвой-то?
– А что? И по мертвой. Может, совестно тебе станет, к тебе гости пришли, а ты висишь, как дура стоеросовая. Авось сама слезешь – от стыда да от боли.
– Так ведь я мертвая буду…
– Ничего, оживешь. Оживешь, как миленькая… Так что лучше и не затевай, самой же стыдно будет. Поняла?
– Тьфу на тебя! – озлилась мать Варвара.
На этом разговор их окончился, Полина подхватила сумочку и, щелкнув дверным замком, выпорхнула из квартиры.
Дом, в котором поселилась нынче мать Варвара, – пятиэтажный, блочный, выкрашенный по замыслу поселкового архитектора в желто-белые тона – клетка желтая, клетка белая и так далее, – дом этот находился несколько на отшибе от поселка и поэтому представлялся, особенно издалека, то ли разноцветной игрушкой, то ли бутафорией. Во всяком случае Полина слегка подтрунивала над матерью Варварой: «Заживешь королевой теперь. Дом-то, как дворец, разукрашен, а ты все недовольная…» На что мать Варвара скороговоркой отвечала: «Плевать мне на дворцы ваши, плевать, плевать…» Полина, правда, не обращала никакого внимания на ворчание матери Варвары: если б ее слушать (с давних, ох с каких еще давних пор тянется эта ниточка старухиного характера!), так тогда бы уже пришлось либо в злобе иссохнуть, либо руки на себя наложить… И черт его знает, что за характер такой! Однако, привычная к ее характеру настолько, что уже не реагировала и не выделяла его среди других, Полина безропотно выносила любые его причуды и выкрутасы, так что со стороны, если посмотреть необвыкшимся глазом, могло показаться, что характер у матери Варвары даже золотой, потому как Полина вокруг старухи разве что не пляшет – уж так, кажется, заботится о ней, боготворит и любит ее! С другой стороны, почитание это иной раз представлялось притворным, потому что Полина нередко без всякой причины и умысла помыкала старухой, говорила с ней грубо, откровенно, без обиняков. В общем, отношения между ними были непростые…
Оглянувшись на дом раз, другой и третий, Полина побежала окраинной дорогой в центр поселка, к автобусной остановке, продолжая затаённо улыбаться. Никто, слава Богу, не встретился из знакомых, не хотелось отвлекаться на пустые разговоры и расспросы, хотя в душе у Полины, в сокрытой тайной глубине, как будто пела какая-то струнка, ищущая отзвука, чужого понимания, – все-таки Полина переломила мать Варвару, заставила, как та ни упиралась, переехать в новый дом, а то ведь стыдно уже людей… На этот раз Полина просто-напросто не выдержала, примчалась из Свердловска – мать Варвара сидит посреди двора, на черном, почти в дёготь, бревне, широко расставив ноги и бросив на подол заскорузлые, не отмытые от назёма руки, – как возилась в огороде, так, видно, и во двор пришла, не ополоснув их хотя бы в бочке, которая издавна стоит у них под водосточной трубой; взгляд тусклый, жива ли, мертва, не поймешь, но как услышала Полинину ругань, глаз у старухи – правый глаз – прям-таки засверкал жаром и ненавистью… «Левый-то глаз у тебя, – не раз в сердцах говорила Полина, – недаром как мертвый, потому что сердце закаменелое, злобное…» – «То-то и оно, что сердце у меня, может, по правую руку, не как у вас, балбесов, а ты и не знаешь этого, дура…» – не оставалась в долгу старуха.
Короче говоря, встреча с матерью Варварой получилась, как всегда, не из радостных. Но какое это имеет теперь значение? Сейчас главное – надо ехать в совхоз, к отцу Авдею Сергиевичу, вот и автобусная остановка уже показалась, да и автобус как раз выруливает на посадочную площадку.
Время было – чуть за полдень, народу в автобусе в самую меру – ни лишку, ни мало, стекла по правую сторону были приспущены, так что под мирный пассажирский говор, монотонный гул «пазовского» мотора и свежий струистый ветерок, желанно лившийся из окон на разомлевших от жары пассажиров, дорога, казалось, сама собой, легко и непринужденно катилась вперед. За поселком, за южной его окраиной, дорога нырнула в низину, где повсюду нынче разросся бурьян да репей, – были и тут когда-то дома, самые близкие к заводу и поэтому, как считалось, самые удобные: вышел из дому, а заводская проходная – вот она, не надо и тратить время на дорогу… Металлургический завод, к которому, как дитя к соскам матери, прилепился когда-то поселок, был некогда самой важной, самой существенной частью всей поселковой жизни, десятки лет только и страсти было, как борьба между тремя уральскими соперниками – Северным, Верх-Исетским и Нижне-Салдинским заводами. Чугун, сталь, прокат – вот три кита, на которых стояла жизнь и самый смысл существования поселка… Но пришло время, и рядом с металлургическим взошли, как опята вокруг матерого пня, корпуса нового – трубного завода, который поначалу лишь на цыпочках тянулся за своим старшим братом, даже лучше сказать – отцом, затем нагнал его, а там и перерос, да так сильно, что нынче металлургический завод уже ничто, а трубный – вся жизнь поселка Северный, со временем ставшего, пожалуй, небольшим городом. А пустырь, заросший теперь репьем да бурьяном, а кой-где коноплей, среди которой летними утрами и вечерами поселковая ребятня охотилась с садками за разнопёрыми, в ярких одеяниях щеглами, пустырь этот тоже некогда был поселком, но расширяющимся корпусам трубного завода требовались новые площади, и часть поселка снесли, оголив землю под фундаменты цехов. Однако фундаменты возводить не торопились, а затем и вовсе перенесли на другие земли, на пять километров южнее искусственного пустыря – поближе к прудам, вода которых так была нужна трубному производству… Осиротелая земля, некогда живая из живых, цветущая и плодоносящая, осиротела вдвойне, поросла диким разнотравьем, среди которого живо и радостно бежала лишь лента плотно укатанной, будто утрамбованной проселочной дороги. Дорога эта соединяла северную часть поселка с южной (вместе они и составляли, собственно, небольшой город), а дальше дорога текла к совхозу, к молочным и животноводческим фермам, еще дальше – в леса, в далекую глушь, за которой, казалось, начиналась исконная дикая Русь; на самом деле и там не было никакой дикости, а были дивные лесные и горные озера и пруды, где со временем наладили кооперативный отлов промысловой рыбы – от тщедушных окуней и щук до царственных сазанов и карпов.
Где-то на исходе третьего километра обширного дикого пустыря дорога прибивалась к пруду и бежала обочь его извилистого, поросшего кувшинкой и тростниковой осокой берега, и вот тут-то начинались корпуса трубных цехов… На ближайшей остановке из автобуса, распаренные и разморенные, вышли почти все пассажиры – ехали на работу, на завод. «Это ты одна лентяйка, – подмигнув Полине, крикнул с дороги молодой, щекастый, с веселыми глазами и густыми, выгоревшими до белесости усами мужик, – ездишь-катаешься, а мы вот вкалывать… Эй, слышь меня! Эгей!» – и рассмеялся. Полина, еще в автобусе почувствовав на себе его заинтересованный взгляд, но ни единым движением не идя этому взгляду навстречу, – мужику-то? да ну их в баню, одна только маета с ними! – теперь, когда автобус тронулся с места и озорной мужик стал неопасен, вдруг тоже весело крикнула в окно, помахав бедолаге рукой: «Иди, работай, иди, усатик ты наш миленький! Заработаешь чего – тогда поговорим!..» И оглянулась, и долго смотрела вслед убегающей дороге, на краю которой продолжал стоять веселый, а теперь расстроенный, огорошенный своей бестолковостью мужик: «Раньше надо было подвалить, эх, раньше…»
Миновав заводские корпуса, дорога бежала уже не среди пустыря, а среди соснового леса – с одной стороны, а с другой, естественно, продолжался пруд; это был самый девственный, тихий и радостный осколок дороги, сюда еще не добрался человек ни со своим жильем, ни с производственными заботами. Свежезеленый – будто умытый – молодой сосняк переходил в густой сосновый бор, который волнообразно, словно перед тобой морская стихия, растекался и вдаль, и вширь, и самое замечательное – ввысь. Впечатление это возникало оттого, что лес не просто растекался в разные стороны, он залил собой, заполонил все видимые глазу горы, которые сами по себе были не велики, не высоки, но тем не менее это были горы – исконно уральские, основная линия которых – в холмообразной бесконечности, сливающейся в конце концов с горизонтом. Горы и леса, а справа от дороги – струящаяся на солнце, блистающая гладь пруда – вот чему радовался сейчас глаз Полины да, пожалуй, и всех других пассажиров, оставшихся в автобусе. Там, в поселке, когда садишься в автобус, у тебя одно состояние – несколько возбужденное, голова полна мыслей, а сердце – забот, но постепенно дорога как бы примиряет тебя с жизнью, и особенное согласие с ней чувствуешь именно здесь, среди неба, леса, воды и гор… Покой и мир сами собою вливаются в твою душу, и жизнь не кажется больше бесконечной борьбой за мнимые ее блага…
Вот в таком состоянии, несколько идиллическом, несколько успокоенном и уравновешенном, и вышла из автобуса Полина, когда приехала наконец в южную часть поселка. Здесь, на конечной остановке, в старой, хмурого вида, обшарпанной и неухоженной церкви, расположился поселковый автовокзал.
Полина быстро пересекла привокзальную площадь, разом расплескав недавнее благодушное состояние, и шаг у нее, как прежде, стал тверд, решителен, выявляя обычную для нее силу, даже непоколебимость характера. Для своих сорока лет Полина, пожалуй, была несколько грузновата, но грузноватость эта шла от широкой кости, от мощной отцовской, а еще дальше – дедовской породы. В ней ясно чувствовалась эта порода, и дело тут не просто в физической силе, которая исходила от всей ее размашистой, широкой и вольной фигуры, дело было в другом: в ее поступках, в твердом и смелом взгляде, каким она встречала любую, даже самую тяжелую и трудную новость, в открытости и смелости слов, которые она говорила для того, чтобы высказать свою мысль, а никак не спрятать или утаить ее, тем более – не смалодушничать перед кем бы то ни было. При всем при этом, считая себя вправе говорить только правду, какой бы горькой она ни была, Полина сердечно жалела всех людей без разбору, и нередко случались нелепые сцены, когда человек, только что обруганный ею или услышавший от нее праведные, но вовсе не желанные для себя слова, с оторопью или даже ненавистью встречал неожиданные слова сострадания, жалости или понимания со стороны Полины. Изничтожает, а потом жалеет, – не каждый принимал это за чистую монету, и кое-кто считал ее за обычную дуру, кто-то – за рёхнутую, а некоторые – за двурушную. По-разному относились люди к Полине, но понимать ее, пожалуй, мало кто понимал. То-то и странно было для нее…
Животноводческая ферма начиналась почти сразу за поселком; метрах в двухстах от окраинных его домов тянулись длинные бараки с загонами для коров, огороженными длинными жердями-пряслами. Рядом с фермой пристроился небольшой хуторок из нескольких домов, в одном из них и жил отец Полины, Авдей Сергиевич Куканов. Когда-то он работал на металлургическом заводе, потом оказался здесь, на ферме (а как оказался, про то история особая); но оказался, конечно, не случайно и прижился в конце концов в доме однофамилицы своей, вдовы Кукановой Елизаветы, попросту Лизки-говоруньи. А что Лизка-говорунья была тоже Куканова, удивляться нечему – Кукановых в поселке, как гольянов в пруду, чуть не на четверть водилось. У Лизки-говоруньи рос сын, и иначе как Петька-сорванец никто его на ферме не звал. Доставалось от него и Авдею Куканову, «приемному Куканышу», как дразнил его Петька-сорванец. «Эй ты, приемный Куканыш, а ну-ка догони!» Или по-другому еще кричал: «Эй, Куканов-приемыш, айда опарышей ловить!» Лизка-говорунья сладить с сыном никак не могла, а Авдей Куканов, тот больше молчал, молчать он любил, а если когда и разговаривался отчаянно, так это лишь в перепалках с Варварой, в старой своей жизни, в бытность рабочим на металлургическом заводе. Но как ни молчал Авдей Куканов, а не кто иной, как он, все же урезонил Петьку-сорванца. Уж так тот изгалялся над «приемным Куканышем», так дразнил да подначивал, что однажды Лизка-говорунья не выдержала, расплакалась на глазах у своих «мужиков» – от обиды за Куканова-старшего. И вот этого, слез Елизаветы, не смог простить Петьке-сорванцу Авдей Куканов. Неповоротливый-неповоротливый, а тут вдруг изловчился, хвать Петьку-сорванца за рубашонку (Петька, размазня, растерялся от материных слез: «Чего она? Вот дура!»), и, как ни крутился Петька, Авдей преспокойно подтащил его к пряслам, взял хворостину, больше похожую на добротное удилище, уложил сорванца на беремя непиленых дров да и угостил хорошеньким деревянным медком, ничего не говоря, не приговаривая, а только лишь ахая да пристанывая от старания. Петька молчал; извивался поначалу, пытался укусить «приемного Куканыша», да не тут-то было – Куканов-старший хорошо знал свое дело, так что Петька вскоре смирился, лежал ничком, молчал, только вздрагивал да охал в нахлёст ударам: сначала, замахиваясь хворостиной, Авдей ахнет, потом, отведав хворостины, ахнет Петька-сорванец. А закончилось дело, как ни странно, полным примирением сторон. Получив свое, Петька, не заискивая, не унижаясь, степенно подтянул штаны, поправил рубаху, взглянул смело в глаза «приемному Куканышу: «Ну, дядька Авдей, – сказал он, – я думал, ты просто прилипала, а ты, оказывается, ничего пахан!» Авдей было усмехнулся победно, но вовремя задержал ухмылку в губах, почувствовав серьезность момента. И понял еще, что перед ним не сорванец, не хулиган, а настоящий мужик, с характером, хотя было Петьке в ту пору лет девять, не больше. Как говорится, не ударишь – не полюбит, – такая среди мужиков присказка ходит насчет своих жен. Так и с Петькой получилось: пока Авдей характер не показывал – был для Петьки ничто, а поучил пацана хворостиной – сразу «паханом» сделался, право получил на уважение и признание. С тех пор меж ними было полное взаимопонимание; ну, не без срывов, конечно, на то и прозвище к Петьке приклеилось – сорванец. Позже уже, когда «сорванец» этот служил в армии, он письма писал не столько матери, сколько ему, Авдею Сергиевичу, признал его за отца, а зачины писем были постоянны: «Здравствуй, отец Авдей Сергиевич! А также большой привет от меня матери!..»