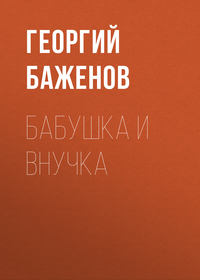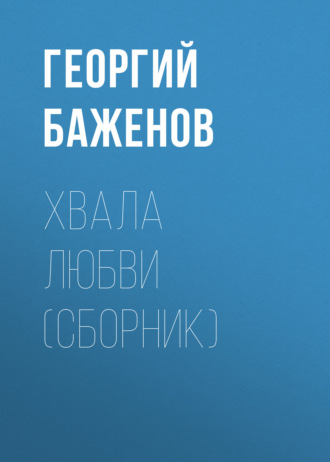
Полная версия
Хвала любви (сборник)
– Ну-у, бабушка-а, – недовольно заканючили пацаны, – мы потом, попозже…
– Быстрехонько, быстрехонько! – заворчала бабушка Наталья. – Ишь, спозаранку мастерскую тут открыли.
– Мы потом, – продолжали упрашивать ребята. – Ну-у, бабушка…
– Ладно, сынки, идите завтракайте, – поддержал тещу Гурий. – Самокат позже доделаем.
– И я с вами, – закричал Важен, – я тоже!
– Ага, пошли и ты с нами, – погладила его по голове бабушка Наталья. – Яичницу любишь?
– Не, я не есть, я самокат, – нахмурился Важен.
– Ну, пошли, пошли с нами, клоп, – Ванюшка подхватил младшего братца на руки. – У бабушки яйца не простые…
– А какие?
– А золотые… правда, бабушка?
– Правда, Ванюшка, правда, – улыбнулась мать Ульяны.
– Тогда ладно. Тогда пошли, – согласился Важен.
– Может, и ты с нами за компанию? А, Гурий? – как ни в чем не бывало спросила Гурия бывшая теща.
– Да нет, я уже позавтракал, – смутился Гурий. – Спасибо.
– А то смотри, – улыбнулась теща. – У меня к закуске и погорячей что найдется…
– Да нет, ладно, не надо, потом… – забормотал Гурий. – Спасибо.
– Вольному – воля, – вздохнула мать Ульяны. – Ну, пошли, ребятня!
И тройка братцев отправилась, как за наседкой, за нахохлившейся бабушкой Натальей в дом Варнаковых.
Гурий перемахнул через забор, снова уселся на крыльцо.
– Эй, муженек, – услышал вдруг, – здравствуй! Баженчика не видел?
Смотрит – за соседним забором стоит Вера, в легком цветастом сарафане, с открытыми, начинающими полнеть, но все равно такими прекрасными и родными плечами, улыбающаяся, свежая, прямо золотистая какая-то, светящаяся.
– К Варнаковым убежал, – ответил Гурий. – Завтракать его позвали.
– Ну и ладно, – продолжала улыбаться Вера. – Ты-то чего делаешь?
– Да вот, сижу…
– Приходи завтракать!
– Да нет, я уж как-нибудь тут перебьюсь.
– Чего ты? Дома все равно никого нет. Отец в лес уехал, мачеха в магазин ушла.
– Лучше ты сама приходи.
– Ох, дожили, – смеется весело Вера. – Жена мужа завтракать приглашает, а муж жену на свиданку зовет.
– Доживешь тут. С такой-то жизнью.
– Кто у тебя дома-то? – игриво спрашивает Вера.
– Мать дома, кто еще, – говорит Гурий.
– Ну вот, – огорчается Вера. – Не обнимешь тебя… – И вдруг переходит на шепот: – Гурий, Гуричка, ну иди ко мне, иди, я соскучилась. Честное слово.
– Да ты что, дурочка, белены объелась? Средь бела дня?
– Гуричка, честное слово, соскучилась. Ну, чего ты? Иди, ну иди, пока никого нет… ни ребят, ни отца с мачехой.
Гурий, странное дело, воровато оглядывается и вдруг, лихо гикнув, перемахивает через забор – прямо в объятия жены; правда, жены незаконной, не расписанной с ним… Но им-то какое дело?
Потом, когда они лежат в чулане, опустошенные счастьем близости и взаимной нежности, они долго и смешливо шепчутся обо всяких пустяках, но постепенно жизнь как бы отрезвляет Гурия, он начинает жаловаться Вере, что трудно ему здесь, неуютно как-то и неприкаянно, дома косятся, у тебя косятся, у Ульяны – тоже косятся… Не знаешь, куда и спрятаться от всех.
– А ты не обращай внимания, – шепчет, успокаивает его Вера. – Я тебя люблю. Сыновья любят. Это главное. А остальным до нас дела нет.
– Да что я как вор здесь живу?! На улицу выйдешь: «Гурий Петрович, – подзуживают соседи, – как Ульяна поживает? Как Вера? Ах, какие они обе у вас хорошие, красивые, пригожие! А детки? Сыночки? Ну просто прелесть… И главное – все на вас похожи. Вот счастливый отец!»
– И правда, – тихо смеется Вера, – не счастливый, что ли? Плюнь ты на этих соседок, им самое важное – языки почесать. Вот и все.
– Может, уехать мне?
– А мы на все лето одни здесь? Да ты посмотри, как сыновья к тебе тянутся. Вот и пользуйся моментом, воспитывай их. Сколько раньше переживал: как Ваня с Валей будут жить без меня?! Ну вот, они рядом – что же ты? Радуйся!
– Да они-то рядом… Это верно. Зато сколько косых взглядов вокруг?
– Плюнь, не обращай внимания. Лучше поцелуй меня! Еще, Гуричка, еще… вот так. Ах ты мой глупый, любимый, страдалец ты мой… Люблю тебя, люблю, люблю!
Иногда Гурий не выдерживал, уходил из дома.
Как прежде, как много лет назад, брал с собой альбом, карандаши или гуашь и бродил то по лесу, то забирался на Малаховую гору, а то оказывался на Высоком Столбе, откуда по-прежнему открывались безмерные уральские дали, леса, дороги, синие пруды и долгие извилистые речки – Чусовая и Северушка.
Опять и опять он делал наброски, эскизы, мучился все той же прежней идеей: хотел разом выразить суть жизни в каком-то одном рисунке, который бы объял собой все – и смысл, и красоту, и глубину, и единственность жизни. Однако странное дело: теперь, когда он стал старше, умней, опытней, эта идея еще больше ускользала от него: рука слушалась, но сердце молчало. Раньше сердце его разрывалось на части, кричало, неистовствовало, было переполнено горделивой мечтой поразить мир прекрасной совершенной картиной, ибо чувственная предтеча этого совершенства явственно ощущалась в душе, только нужно было передать ее через линию и красоту рисунка; а теперь? А теперь душа оставалась холодной и пресной, то есть никак не подключалась к тому, что назвал он «сердцем работы». Словно душа его – это одно, а рисунок, линия – совсем другое. С некоторого времени он стал все явственней ощущать в себе эту двойственность состояния, и это раздвоение мучило его не меньше, чем прежняя неопытность, когда не слушалась рука и не подчинялась линия; теперь – рука слушалась, линия подчинялась, но рисунок получался неодухотворенным, холодным и пустым, ибо оставался лишь слепой копией жизни.
Раздосадованный, опустошенный, Гурий возвращался домой, где тоже не находил себе места: здесь на его глазах продолжалась прежняя несуразная жизнь, и причиной несуразности был прежде всего он сам, Гурий Божидаров. И еще сильней начинало угнетать чувство вины, ирреальность происходящего.
Впрочем, почему ирреальность?
Вот он пришел домой, забросил на веранду альбом, краски и карандаши, вышел на крыльцо, сел на ступеньки; там, за забором, во дворе Варнаковых, кипит работа. Ванек с Валентином носят доски, что-то отмеряют, кладут доски на козлы; Вера, веселая, загоревшая, в одном купальнике (ее только там не хватало, думает Гурий, да еще в таком виде), так вот – Вера подхватывает ножовку и начинает азартно пилить доску. Рядом с ней вертится Важен, придерживая доску за свободный конец, и Вера не прогоняет сына. («Еще оттяпает ему руку», – думает Гурий.) Отпиленные по определенному размеру доски Ванюшка с Валентином уносят в сарай, а Вера с Баженом продолжают работать дальше. Вот слышится: застучал молоток, а через несколько минут – перебранка ребят:
– Да не так, не так бей! Эх, мазила!
– От мазилы слышу! На, забивай сам, если такой умный.
– Ну и буду. Давай.
И опять слышится стук молотка, а через некоторое время новая перебранка:
– Что, съел? Тоже мне – народный умелец! – Ладно. Я хоть по пальцам не бью. А ты… – А я что? Один раз только и долбанул тебя. – Ага, мало одного? Молотком по пальцу?! Раскрасневшиеся, злые друг на друга, ребята выскакивают наружу, и тут Валентин замечает на крыльце отца, кричит:
– Папа, помоги нам! Слышишь?
И все разом – и Вера, и Важен, и Ванюшка – тоже поворачиваются к нему и кричат:
– Пожалуйста, папа! Помоги!
Он, с не очень большой охотой, поднимается со ступеньки, подходит к забору:
– Ну, чего тут у вас?
– Нам дедушка с бабушкой курятник отдали, – объясняет Валентин.
– Курятник? – усмехается Гурий. – Теперь будете вместо кур на шестках сидеть? – Гурий и сам не знает, почему говорит эту глупость, просто никак не может справиться с неожиданным внутренним раздражением.
– Ну, зачем ты так с ребятами? – укоризненно качает головой Вера. – Лучше посмотри, как они его отчистили, отскребли.
– А ты бы лучше халат накинула, – говорит он ей в прежнем раздраженном тоне. – Тут не пляж, кажется.
Густо покраснев – от обиды, от унижения, – Вера накидывает на плечи яркий цветастый халат и, подойдя к забору поближе, тихо говорит Гурию:
– Не с той ноги встал сегодня? Дед Емельян им курятник отдал, чтоб у них своя комната была. Вон, посмотри, как они ее отмыли.
– А ты здесь что делаешь? – Гурий продолжает ядовито усмехаться.
– Как что? Помогаю им.
– Дешевый авторитет зарабатываешь?
В глазах у Веры появляется укоризненная слезная пелена:
– Ну зачем ты так, Гурий?
Он и сам чувствует, что переборщил; берет себя в руки, перемахивает через забор. Тут же к отцу подбегает Важен, берет его за руку и тащит к сараю:
– Смотри, папка!
Гурий с некоторым недоверием входит в курятник. То, что он видит, действительно удивляет его. Раньше в этом небольшом отсеке сарая все было загажено курицами и петухами, внизу были кормушки, наверху – насест, длинные толстые жерди, тоже все изгаженные, а теперь… Ну просто блистала комнатенка от свежести и чистоты! Все жерди убраны, кормушки выставлены, стены и потолок отчищены, отмыты (горячей водой с порошком, как объяснили позже ребята), а пол не просто вымыт, а поначалу выскреблен лопатами, вычищен ножами, а затем три раза промыт горячей водой с порошком, с добавлением дезодоранта. Чистая благоухающая комната!
Странное дело: у Гурия неожиданно меняется настроение, он невольно улыбается:
– А что, молодцы, пацаны. Честное слово, молодцы!
И всем становится хорошо на душе, у всех теплеет в груди, а Вера даже говорит:
– То-то же!
И Важен тут же повторяет за ней:
– Те-те же, папка, эх ты! – Он всегда чутко улавливает настроение родителей.
– Так… ну, и в чем тут у вас заминка? – интересуется повеселевший Гурий.
– Понимаешь, папа, – очень серьезно начинает объяснять Ванюшка, – внизу у нас будет жилая комната, а наверху мы сделаем полати. Бабушка обещала сшить из старого материала большой матрац, набьем его сеном, застелим одеялом, подушки возьмем и будем здесь спать, когда тепло. Здорово? Внизу настелим половики (бабушка отдаст нам старые), сделаем стол, табуретки, еще кой-чего придумаем, и будет у нас свое жилище. Даже вас будем в гости приглашать!
– А точно пригласите?
– Точно! – в голос кричат Ванюшка с Валентином. И Важен тоже кричит за ними следом:
– Точно!
– Ну, и что у вас не получается?
– А вот, видишь… По бокам мы хотим прибить бруски, потолще и покрепче, чтоб доски на них укладывать. Тетя Вера сказала: бруски лучше дубовые, они надежней. Взяли дубовые, а прибить не можем – гвозди гнутся. Вон, смотри – толстенные такие, а не идут. Все пальцы отбили.
– Силенки не хватает?
– Да нет. Просто не идут гвозди, и все.
– Не идут – и все, – повторил серьезно и деловито Важен.
– Тихо, клоп, – останавливает его Ванюшка. – Не мешай.
– Я не мешаю, я наоборот, эх, ты!
– Так, ладно, сейчас посмотрим. – Гурий подхватывает молоток, берет гвозди-двадцатку; под первым же его ударом толстенный гвоздище, действительно, гнется, как проволока. И главное – потом этот гвоздь никак не вытащишь плоскогубцами, так уцепист этот дубовый брусок-поперечина.
Намучился Гурий изрядно, прежде чем сумел-таки «пришить» бруски. Тут главное было сообразить, – как наносить удар: вначале несколько тихих, как бы нежных ударов по шляпке, а потом один – сильный и резкий, затем опять несколько тихих, как бы примеривающихся ударов, и снова – один резкий и мощный. В чем тут секрет – неизвестно, но при таком способе гвоздь не гнулся, а потихоньку-помаленьку, хоть и упрямо, но подвигался в глубину дуба. И уж, действительно, когда бруски были приколочены, а на бруски уложены толстые, сантиметра в три, доски, настил получился таким крепким и надежным, что мог вынести не только десятерых пацанов, но и пятерых взрослых в придачу.
Сколько было радости у ребят!
А когда закончили настилать доски, из дома вышел хозяин, старик Емельян Варнаков; за последнее время он заметно сдал, как-то усох, сгорбился, к тому же отпустил густую белую бороду и стал изрядно походить на лесного гнома-боровичка. Поздоровался с Гурием за руку, похвалил ребятишек:
– А смотри-ка, молодцы, ребятёшки, молодцы… – и улыбнулся заискивающе Гурию.
Гурий стыдился старика, отводил от него глаза.
– А что, сынок, – напрямую обратился Емельян к Гурию, – не заглядываешь к нам? Вон мать говорит – приглашала. Не идешь.
– Да так как-то… вроде некогда, что ли, – забормотал Гурий.
– Иди, иди, загляни к ним, – подтолкнула Гурия Вера.
Гурия как током ударило:
– Ну, ты-то чего?!
– А чего? – как ни в чем не бывало проговорила Вера. – Не чужие небось. Зайди, попроведай.
– Ага, ага, – обрадованно закивал головой старик, благодарный Вере за поддержку. – Пошли-ка, сынок, а?
Что делать? Гурий вздохнул с сомнением:
– Да не одет я… в трико, в майке. Неудобно…
– Э, брось, брось, сынок, – заулыбался старик, чувствуя, что Гурий начинает сдаваться. – Какие там неудобства среди своих?
Гурий растерянно взглянул на Веру, а та улыбнулась ему ободряюще:
– Иди, иди… Ну, чего ты?
И пошел Гурий за стариком в дом; за ним, правда, тут же увязался Важен, но Вера остановила его:
– А ты куда? Мы тут дела делаем, а ты бежать от нас?!
– А папка?
– У папы свои дела. Взрослые.
– А у меня?
– А ты с нами дом строишь!
– Дворец, мама, ага?
– Дворец. Точно.
– Ладно. Строю. Папка, я с Ваньком-с Вальком дворец строю! – закричал он вслед уходящему отцу.
Гурий ничего не ответил, они со стариком Емельяном поднимались уже по крыльцу в дом, не до младшего сына ему было.
В доме, на кухонке, как по заказу, был накрыт стол. Это старуха Наталья, завидев еще в окошко, как во дворе разговаривают Емельян с Гурием и как они потом медленно пошли к дому, тут же сообразила накрыть на стол. Соленые огурцы поставила, маринованные маслята, капусту хрустящую, буженинку домашнего копчения, холодную вареную картошку, графинчик с медовухой; а если что еще надо – сообразят сами, подумала старуха, и чтоб не мешать мужикам, даже не стала встречать зятя у порога, а скрылась, спряталась в «малухе», в малой комнатенке, где обычно занималась рукодельем, обшивала семью одеждой.
А сидение на кухне у мужиков получилось удивительное. Выпили по одной, по второй, по третьей, почти не закусывая, потом просто сидели, молчали, вздыхали. Старик Емельян все не решался расспросить Гурия поподробней, поосновательней, как оно у них так с Ульяной получилось, что за напасть нашла и отчего семья развалилась… Кое-что знали они, конечно, со старухой, знали, что Ульяна сама выгнала Гурия из дома, и нет, не хвалили ее, не поддерживали. Гурия-то она выгнала, он и ушел: мужик, он нигде не пропадет, он с другой бабой жизнь построит, вон хоть с Веркой, чем девка плохая, молодая, красивая, добрая, замуж за Гурия не вышла, а сынка от него родила, вот и разбирайся теперь, думай, что к чему. А к Гурию, как ни странно, не было у старика со старухой вражды, дочь-то свою, Ульяну, ох хорошо они знали, горячая, взбалмошная, упрямая, дров в любой момент наломать может… А по их разумению так: вышла замуж, поехала за мужиком по столицам – так слушайся его там, не перечь, палки ему в колеса не ставь; он хоть и не совсем мужик простой, художник, а все же мужик, а мужик не потерпит, чтоб баба поперек его шла. Выгнала? С сыновьями осталась? Кукуешь теперь? Это еще хорошо – Верка ему подвернулась, своя, поселковая, от Ванюшки с Валентином отца не отвращает, а пожалуй, что и наоборот: все подталкивает его к ним, во как бывает… И вздыхал, вздыхал старик Емельян рядом с Гурием, но так ничего и не спрашивал. Им как-то и без разговора было все понятно, а от выпитого да от обоюдного молчания-согласия легче становилось на душе, теплей, прощённей. Да и что мог спросить старик Емельян? Что мог ответить и объяснить Гурий? Уважали старик со старухой Гурия, вот хоть убей – уважали, потому что был он какой-то иной, загадочной породы, не как все они тут, в поселке; а в то же время – и свой он был, свой, другой бы, может, давно про сыновей забыл, а этот нет, не только помнит, а вот каждое лето с ними здесь, в Северном. Да и там, в Москве, ребята когда захотят, тогда и едут к отцу, к Вере с Баженом, никто от них не морщится, не отказывается, оглобли назад не поворачивает…
Так они сидели, пили, пьянели. И в основном молчали. И оттого, что Гурий знал, что старик относится к нему с непонятным почтением, в нем, в Гурии, иногда возникал пронзительный внутренний стыд и протест: он не хотел принимать этого почтения. Он чувствовал и знал, что не заслужил его, ибо в нем, в Гурии, нет того, чем наделяет его в своем воображении старик. Но как он мог объяснить такое Емельяну? В каких словах? В каких понятиях?
…Старуха Наталья слышит через час – полное молчание на кухне. Вышла потихоньку из «малухи», заглянула на кухонку – так и ахнула: спят, голубчики, свесив головы. Сначала старика подхватила под руку: отвела на диван; Емельян даже не очнулся, послушно передвигал ногами и улегся на подушки, не открыв глаза. А Гурий пришел в себя, встрепенулся на минуту:
– Что? Что такое?
Но старуха Наталья успокоила его:
– Ничего, ничего, сынок, все хорошо, пойдем-ка на веранду, отдохнешь малость, отдохнешь, голубчик…
На веранде, с трудом скинув с себя ботинки, Гурий повалился на диван и разом провалился в глубокий сон. Пока еще шел сюда, поддерживаемый рукой старухи, билась в голове мысль: домой, домой надо, а как лег – сразу все забылось, и он уснул крепким богатырским сном.
Между прочим, диван, на котором он спал, был давний его знакомец. Некогда, в пору их любви с Ульяной, сколько вечеров провел Гурий на этой веранде, сколько поцелуев и объятий случилось именно на этом диване, да и первая их дивная близость тоже произошла здесь, на этом диване.
А теперь Гурий спал на нем, как пустой выпотрошенный мешок. Странная жизнь…
Впрочем, почему странная?
Иногда она была самая что ни на есть обыденная, реальная.
Например, на речке, на Чусовой, во время рыбалки, натолкнулись ребята на рассохшуюся лодку, спрятанную в кустах тальника. Сколько она там пролежала, эта лодка, неизвестно, но и дно ее, и борта были изрезаны крупными расщелинами, иногда с мизинец толщиной; да и это бы еще ничего, главное: нос лодки был наполовину сколот, так что вода, пусти только лодку на Чусовую, залила бы посудину в одно мгновение. Но сколько Ванюшка с Валентином мечтали о своей лодке! И тут вдруг такая находка… Неужто ничего нельзя сделать – как-то отремонтировать, подлатать посудину? Конечно, вдвоем-то им лодку даже с места не сдвинуть, и они пришли к отцу: папа, помоги! Гурий поначалу рассердился на них: что за лодка?! Чужая наверняка, раз в кустах, значит, кто-то спрятал до лучших времен?! Но когда сам пришел на речку, убедился: нет, лодка давным-давно заброшена, давно никому не служит, да и послужить вряд ли сможет – видать, вышел ее срок… Но сыновья не отставали от Гурия: давай попробуем, давай отремонтируем! Что делать? Гурий понимал возможную зряшность затеи, но и отказать ребятам вот так сразу, резко, тоже не мог. А с чего начинать? С великими трудами вытащили вчетвером (Вера тоже помогала, да и Важен под ногами вертелся) лодку из кустов, перевернули вверх дном. Затем на костре, в старом мятом ведре, растопили вар и стали заливать щели густой тягучей массой. Вар схватывался быстро, начинал глянцевито и красиво блестеть; казалось, лодка прямо на глазах оживает. Когда дно и борта залили варом с внешней стороны, то лодку перевернули и установили ее на дно. К отколотому носу аккуратно прибили березовую баклажку, а затем и нос, и дно, и борта лодки густо просмолили варом и с внутренней стороны. Получилась, кажется, не лодка, а загляденье!
– Ур-ра! – закричали сыновья.
Но когда спустили лодку на воду, из всех расщелин (казалось бы, так плотно залитых смолой) стала густо сочиться вода, а потом вода откровенно потекла внутрь лодки, будто и преграды никакой не было; а уж о том, что нос тотчас залило водой, и говорить не приходится. Ребята сразу сникли.
– Ну вот, – обреченно махнул рукой Гурий, – я же говорил: ничего не получится…
А Важен, видя, как опустили головы братья, как враз испортился у них такой веселый и радужный настрой, даже заплакал, на что тут же отреагировала Вера:
– Ну, ты еще будешь портить настроение! – и хотела в сердцах шлепнуть его, но тот быстро смекнул и спрятался за спинами старших братьев.
Что делать?
Дня через два Вера уговорила своего отца, Ивана Фомича, прийти к реке, посмотреть на их «рукоделие». Очень не хотелось Ивану Фомичу приходить – видеть он не мог Вериного «суженого», но, с другой стороны, пацаны Ульяны и Гурия, Ванюшка с Валентином, вызывали в нем чувство сродни скрытому уважению: уж больно самостоятельны, любознательны, не ленивы, совсем на городских не похожи, тем более на москвичей… Был Иван Фомич мужиком еще молодым, сорока трех лет от роду, всего на десять лет старше Гурия; в далекие годы, случалось, даже в одних игрищах приходилось им принимать участие, например в игре в лапту, где и взрослые пацаны по 14–15 лет, и малые по 4–5 лет едва ли не на равных бегают за мячом. Даже странно и подумать нынче такое: Иван Фомич и Гурий – в одной игре забавляются. Ибо теперь, по прошествии-то многих лет, Иван Фомич с его густой черной бородой, с широкими вразлет бровями, с недоверчивым взглядом колюче прищуренных глаз и серьезно сжатыми неулыбчивыми губами мог бы, наверное, и в самом деле сойти за отца Гурия, безбородого, безусого, мало что умеющего и ни к чему, по мнению Ивана Фомича, не приспособленного, кроме как портить бабам судьбу да плодить детей-безотцовщину. А это тем более грех, при живом-то батьке. Не только не любил Иван Фомич Гурия, главное – не уважал; и слышать не хотел от дочери, что она теперь – жена Гурия. Хорош гусь: с одной еще не развелся, а уже с другой живет как с женой. Сладкая малина получается… Но что делать? Ради пацанов, Вани и Валентина, согласился Иван Фомич заглянуть с дочерью на реку.
Пришел, посмотрел на лодку. Покачал головой. Усмехнулся недобро. Усмешка эта относилась прежде всего к Гурию, который сидел замшелым пнем на берегу Чусовой с удочкой: делал вид, что занят рыбалкой.
Прежде всего вырубил Иван Фомич тройку ваг да несколько бревнышек потолще, и накатили они все вместе лодку на бревна, чтоб постояла да просушилась она основательно на ветру да на солнышке. Затем остро, цепко осмотрел нос лодчонки: да, дела невеселые… Что нос расколот – это полбеды, хуже, что он сгнил основательно, раструхлявился. Тут никакая латка не поможет, новый нос нужно рубить. А стоит ли? Задумался Иван Фомич. Конечно, если по-хозяйски подходить, серьезно, лодку надо бы на слом да на дрова, вон хоть в тот костерок дровишки пойдут, что дымится на берегу Чусовой. Но, с другой стороны, понимал Иван Фомич пацанов: свою лодку охота им иметь, пусть плохонькую, да свою. Так что сомнения Иван Фомич отбросил, постоял рядом с лодкой, помороковал над ней, измерил носовую часть рулеткой, щели получше рассмотрел. А через три дня в рюкзаке принес выструганный и ошкуренный до лоснящегося блеска новый нос для лодки: выделал он его из доброй смолистой сосны, из крепкого комелька, который сохранился у него в дровянике еще с прошлого года, когда рубил делянку по красногорской дороге. Не все тогда на дрова пошло, кое-что оставил Иван Фомич для хозяйства, а несколько сосенок, особенно прямоствольных, строевых, пустил в продольный распил, на доски; можно бы, пожалуй, из досок новую лодку сварганить, да решил отложить такую затею Иван Фомич до других времен: пацанам ведь главное – свою лодку отремонтировать, ту, которую нашли, которая их собственностью стала. А что толку, если им кто-то новую лодку сварганит? Это неинтересно.
Что удивительно – новый нос, посаженный на шипы и деревянный клей, так слился со старым остовом лодки, будто век сидел здесь: недаром Иван Фомич делал точные замеры рулеткой. Ванек так и присвистнул:
– Вот это точность, американская!
– Не американская, – усмехнулся Иван Фомич. – Мастерить-то меня отец учил. А отца – дед. А деда – прадед. Понял, Ванюшка?
– Понял? – повторил вопрос и Важен.
– Нуты-то, клоп, помалкивай, – Ванюшка подхватил братца на руки и стал щекотать. – Вот сейчас защекочу – тогда узнаешь!
– Тихо, тихо, ребята, – стала успокаивать их Вера.
– Вы вот что, пацанва, подбросьте-ка дровишек в костер, – приказал Иван Фомич, – да гудрон в ведре ставьте. Пусть растапливается пока.
Ребята, вся тройка, бросились к костру, а Иван Фомич сказал Вере:
– Принеси-ка рюкзак сюда… Шнур мне нужен. Вера тотчас принесла отцу рюкзак.
– А этому своему, – кивком головы указал Иван Фомич на Гурия, – скажи: пусть черпалку возьмет, гудрон помешивает.
Надо сказать, Вера относилась с юмором к взаимоотношениям отца с Гурием; не то что бы она не переживала, что отец не признавал Гурия за ее мужа или что Гурий побаивался и сторонился ее отца (переживала, как не переживать), но умела настроить себя так, что видела в этом и смешную сторону: два мужика, как два индюка, надулись друг на друга, а смысл какой? Вера все равно живет с Гурием. Будет отец признавать Гурия или нет, будет Гурий сторониться отца или нет, Вера давно породнила их, через себя породнила, через Бажена, так что смешно ей частенько было, что два взрослых мужика никак не уяснят себе такой простой и очевидной истины. Вот и тут не выдержала, рассмеялась на кивок отца: – У сына твоего имя есть!