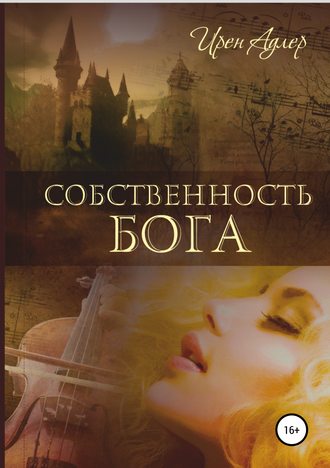 полная версия
полная версияСобственность бога
Я надеюсь, что Липпо навестит меня еще раз, но его нет. Вместо визита он передает мне через Любена какие-то порошки, которые я должен принимать на ночь, и записку. В ней он рекомендует мне совершать часовые прогулки на рассвете. Почему на рассвете? Почему не перед сном? Вновь таинственная восточная мудрость? Впрочем, при сложившихся обстоятельствах это лучшее время. Замок полон гостей, и мое появление в парке вряд ли останется незамеченным. К тому же Любен не выпустит меня днем. У него приказ. Ее высочество не желает, чтобы я привлекал к себе внимание и служил темой для разговоров. Предпочитает держать нашу связь в тайне. После нашей поездки в Лувр она уже не мечтает о триумфе зависти. Скорее наоборот, пытается упрятать меня как можно дальше. Будто я не победа, а главная из ее ошибок, свидетельство поражения. Один мой взгляд – непоправимый урон для репутации непобедимой Цирцеи. Одним словом, мне не следует кому бы то ни было попадаться на глаза. Начало дня, первые сумрачные часы – самые подходящие для пленника. Весь замок спит. Гости, после ужина и танцев, долго не покидают своих спален. Их примеру следуют утомленные слуги. Только кухарка на цыпочках спускается вниз, чтобы развести огонь. С ней заспанный, взъерошенный поваренок. Воду и съестные припасы доставили накануне вечером, чтобы на рассвете не тревожить благородных постояльцев стуком колес. Я сам, без совета Липпо, предпочел бы это время, не решился бы стать действующим персонажем пьесы. Нет нужды ужесточать надзор и прятать меня в тень, я сам – ее порождение.
Почерк у Липпо корявый, прыгающий, будто птичий. Так и вижу его огромную длиннопалую пятерню с утонувшим в ней пером. Он держит его всей горстью, вывернув ладонь набок. В слове «прогулка» у него две ошибки. «Прэгулга». Меня это забавляет, как неуклюже подрисованная рожица или тайный дружеский привет, скрытый в чопорном рецепте. Что ж, прэгулга так прэгулга. Советом пренебрегать не стоит. Я не покидал комнаты с момента появления гостей. А мне, как узнику, положены прогулки. Вот я и воспользуюсь правом. Любена я не предупредил накануне, и он самозабвенно храпит поперек двери в гостиную. Я переступаю через него и крадусь к черной лестнице. По ней я спущусь на кухню, где кухарка уже согрела воду. Там умоюсь и съем кусочек запеченного яблока с ореховой крошкой. Их вчера подавали на десерт. Любен сетовал, что почти ни одного не осталось, но старая Эсфирь всегда прятала для меня лакомства в буфете. Не уверен, что она позаботилась обо мне и на этот раз, но поманить себя среди дремы и влажной осенней прохлады очень действенный метод. Я и прежде так делал, в бытность свою студентом. Выдумывал на рассвете, когда день подкатывался мукой, какой-нибудь приятный, легко достижимый приз, вывешивал его, как морковку, и бежал за ним, невзирая на холод и замерзшую в тазу воду. Чаще всего это была свежеиспеченная хрустящая вафля или слоеная трубочка, свежий аромат которой доносился из ближайшей лавки. Я выскальзывал из-под одеяла, взламывал ледок и, невзирая на дрожь, укрощал влажным полотенцем разнежившуюся плоть. Зуб на зуб не попадал, но я дразнил себя сдобным видением и чувствовал на языке почти липкую ванильную сладость. Если в кармане находилась мелочь, видение обретало вкус, форму и тяжесть в желудке. Я чувствовал себя вознагражденным и отправлялся дальше, по часовому кругу, почти счастливым. Если же мелочи не находилось, я перемещал видение в следующее утро и там уж клятвенно обещал себе награду. Здесь на роль утешительного приза, приманки для будущего, мало что годилось. Пресная вафля более не имела той ценности, которую ей приписывал невыспавшийся студент, мне необходим был другой приз, сладость, которой я уравновесил бы предстоящий день. Утро, если его подсластить, уже не пугает. И день за ним прокатится незаметно. Я не думаю о том, что будет дальше, не воображаю длинный вечер в ожидании герцогини, я вижу только укрытый под серебряной крышкой запеченный, в медовом сиропе, плод. Я найду его в потайном месте и угощу тоскующий рот. Запеченных яблок не нахожу, но на полке в буфете, там, где условлено, сливовый пирог, фруктовое желе и тягучий засахаренный дягиль, доставленный из монастырей Пуату. И вода уже согрелась.
Осеннее утро негостеприимный хозяин. Хмурится в ответ на приветствие, клубится промозглым туманом. Листья за ночь отяжелели и уже не блестят – умирают. Я тревожу их башмаками, переворачиваю, приминаю, но они поддаются без хруста, как отсыревший ворс ковра. Часть их еще крепится на ветвях, но уже поникла и готова сдаться. Цвет – позолота со ржавчиной. Я обхожу пруд, темный, с теми же бурыми лиственными трупиками на поверхности, и отправляюсь мимо цветника в буковую аллею. Она почти не просматривается из замка. Даже сейчас, когда листья уже опали, ветви деревьев переплетены так густо, что разглядеть что-либо из окон почти невозможно. Скоро станет светлее и кто-нибудь подойдет к окну. Но различим лишь силуэт. Слева от меня вроде каменного цоколя с колонной. Это остатки павильона, который был разрушен испанскими наемниками герцога де Гиза в 1585 году. Ее высочество, получив Конфлан в качестве приданого, почему-то не позаботилась о восстановлении этого грекоподобного сооружения, и на его месте осталась только одинокая обезглавленная колонна. Ее почти до вершины оплел дикий виноград, и она казалась пойманной в некие волшебные сети. С наступлением осени эта сеть превращалась в дырявую пурпурную мантию на плечах мраморного исполина. Я часто приходил сюда и воображал себя блуждающим в развалинах Парфенона. Мне даже виделись в мраморных разводах таинственные, нечитаемые знаки, ибо по легенде, совершенно безосновательной, этот продолговатый кусок мрамора был и в самом деле привезен из Афин. Я не находил доказательств этой легенде, но воображал ее документально изученной, а следовательно, подтвержденной. Взявшись за жизнеописание Ликурга или Фемистокла, я призывал молчаливую колонну в свидетели. Вот и сейчас я по привычке иду к ней. Побродить, подумать. Вспомнить и даже произнести вполголоса несколько строк. Мне этот жалкий обломок представал то разрушенной Троей – «…и у стен Илиона / Племя героев погибло – свершилася Зевсова воля», то стенающим Карфагеном – «Carthago delenda est»56, то разграбленной, лишенной струн Эоловой арфой. Жалкое доказательство минувшей славы.
– Доброе утро.
Я едва не подскакиваю от неожиданности. Оборачиваюсь. Передо мной – женщина, на первый взгляд незнакомая. Плащ подбит лисьим мехом. На руках тонкие лайковые перчатки. Под капюшоном рыжий задорный локон. Жанет! Княгиня Караччиолли, самозваная принцесса д’Анжу. Смиренно сложив руки, улыбается. Глаза таинственно блестят. Я не слышал ее шагов. Она ступила ко мне прямо из тумана, из-под белесой завесы, не потревожив башмаком лиственный саван. Будто веса в ней не больше, чем в облаке. А может быть, она только что сотворила свое тело из подвернувшихся ей лоскутков, прохладных капель и сумрачных теней?
– Как… вы?.. Почему? Что вы здесь делаете?
– Я кое-что забыла… В нашу первую и последнюю встречу, у меня не хватило времени.
– Но как вы?..
И тут меня осеняет. Липпо! Ну конечно же, интрига продолжается. Его совет прогуляться на рассвете все равно что вызвать меня на свидание. Он дал мне эту рекомендацию с ведома Жанет или даже по ее просьбе. Какая пьеса! А я и не догадывался.
– Вы знали, что я приду, – срывается с моих губ. – Рано утром. Понятно, это Липпо. Но откуда вы узнали, что именно сюда?
– Ваш парень подсказал, этот… как его… Любен.
– Любен?! Не может быть! Но…
– Как мне это удалось? Это несложно.
Она извлекает из расшитого кошелька, который красуется у нее на поясе, золотую монету и подбрасывает ее в воздух. Ловит и раскрывает ладонь. Монета блестит унылым монаршим профилем. Ее коронованный брат скучающе пятит губы.
– Очень весомый аргумент, – поясняет Жанет. – Особенно, если не один.
– Любен обязан донести…
– Не донесет. Он силен, как Полифем, но, к счастью, не настолько глуп. Он будет молчать.
Я смотрю на нее с изумлением. Ни тени смущения или страха. Глаза сияют. От утренней прохлады щеки у нее раскраснелись, губы чуть полуоткрыты.
– Но… зачем? – вырывается у меня.
Вопрос, который любая женщина оставила бы без ответа, оплела бы ложью, скрыла бы напускной стыдливостью, только бы избежать признания, но только не Жанет. Она продолжает улыбаться, не опускает глаз и спокойно отвечает:
– Чтобы увидеть вас.
– Зачем?
Ничего глупее не придумаешь, но я в таком замешательстве, в таком безукоризненном отпадении от искусства извлечения и составления слов, что произнести и придумать что-либо не в силах.
– Я влюбилась.
Я хотел бы сослаться на туман, на его искажающие, растворяющие свойства, на то, что смысл остался мне неясен, и отмести, отогнать услышанное, как сорвавшийся, закруживший на ветру лист. Я хотел бы ослышаться и стать жертвой обмана. Но она произнесла это без малейшего фонетического огреха, с безупречной дикцией и чистотой, сыграла изумительный аккорд. Но я все-таки переспрашиваю, ибо в ее присутствии непроизвольно глохну.
– Что, простите?
И она терпеливо и даже радостно повторяет.
– Я влюбилась.
В ее глазах золотые мерцающие крупинки. Они плавают, вращаются, соединяются в звезды, я смотрю на нее как зачарованный, будто околдован и обездвижен заклинанием, очень простым, но безумно действенным. Она чуть склоняет голову и смотрит на меня так, что взгляд из-под вскинутых, взведенных ресниц особенно резок. И та же ласковая блуждающая улыбка, что и прежде, зовущая, нежная… Уголок рта чуть подрагивает, не то от нетерпения, не то от тревоги. Влажно поблескивают зубы. Молочно-белый подбородок, от него в тень, вглубь, под завязку плаща уходит линия ее горла, от которого начинается полоска кожи к ее груди, туго схваченной бархатом лифа. Я только угадываю вырез ее платья, но кожа ее матово и призывно светится, как будто там, внутри, находит свой приют изгнанное с небес солнце. Ее темный тяжелый плащ подобен облачному шатру над головой, он непроницаемо тесен и хранит за собой светящийся жар. Он пробивается в ее глазах, в ее улыбке, в прядях, что выбились и горят у нее на лбу. Она соперничает со светилом, что таится за горизонтом и дарует свой свет лишь благодаря капризу. Солнце разорвет облачную завесу, а она сделает шаг и распахнет плащ. И она делает шаг. Я отступаю, но позади меня поросший диким виноградом каменный цоколь. Бежать мне некуда.
Жанет приподнимается на цыпочки и шепчет мне в ухо.
– Три дня мечтала об этом.
Она целует меня. Сначала одним касанием, будто перышком по губам проводит. Потом возвращается и затягивает вдох. Будто вино пробует. Крошечный глоток, чуть подольше, и еще протяжней. Отстраняется, делает паузу, полузакрыв глаза, проводит языком по губам.
– Дягиль, пастила или варенье.
Затем еще глоток, уже решительней, нежнее и жарче. Я сам как перебродивший дурман. Голова идет кругом. Ее гладкая прохладная щека прижимается к моей. Упругая и свежая, будто сорванное налитое яблоко. От нее пахнет цветами. Она трется щекой и снова целует. Расчетливо, умело и очень ласково. У меня колени дрожат. Меня захлестывают ее тепло и нежность. Я чувствую ее тело, такое женственное, полное силы. Это та самая, божественная сила, что своим проявлением сводит с ума любого мужчину. Это сама ипостась природы, богиня, дарующая весну. Та самая сила, что увлекает и пьянит. Неразгаданная, таинственная женственность, вечный враг и союзник. Я улавливал присутствие этой силы в Мадлен. Но там она была будто разбавленное молодое вино, почти без вкуса. Мадлен была так неопытна, она еще не созрела и только слепо, неумело время от времени давала приют этой силе. Она не умела с ней обращаться, избегала и даже боялась. Возможно, в будущем, она бы освоилась и смирилась бы с ее присутствием, обретя ласковую властность и гармонию, но смерть забрала ее слишком рано. Герцогиня и вовсе лишена этой силы. Безупречно сложенная внешне, созданная, казалось бы, как живой сосуд для волшебного нектара, она не обнаруживает в себе ни малейшего признака. Ее мраморное тело – только футляр. Она умела будить мою чувственность, темную и звериную ее ипостась, но никогда не одаривала ее восторгом. Она изымала мою жизнь, грабила и ничего не давала взамен. А Жанет переполнена силой. Ее сила брызжет, разливается, обжигает. Я чувствую благодатный, сладостный жар. Это зов, восторг и желание. Я почти безумен. Пьян и счастлив. Как же я хочу ее обнять… Прижать ее к себе, до боли, до хруста. Чтобы чувствовать, желать… Узнать, как она подчинится, как податливо изогнется… Вдохнуть запах ее волос. Они жесткие, упрямые, будут щекотать ноздри, виться лозой вокруг шеи, связывать пальцы… Какая мука… Я не могу, мне нельзя… Если я прикоснусь к ней, мне уже не остановиться. Я кинусь ей навстречу и совершу безумство. Погублю себя. И ее. И свою дочь. Мне нельзя. Обеими руками я цепляюсь за камни у себя за спиной. В мышцах ноющая боль. Неужели она не понимает? В горле у меня пересохло. Я задыхаюсь. А она гладит мое лицо руками, перебирает волосы. И снова целует.
– You kissed by the book57.
Веки, ресницы, уголки губ, ямочку под нижней губой… Блаженство переплетается с отчаянием. Она опускает руку и ноготками царапает мою одежду. Она едва касается, но для меня эти прикосновения, будто картечный залп, с разрывом кожи и кровотечением.
– Нет… Нет… Не надо, умоляю… Пощадите меня. Пощадите…
Я сам не узнаю собственного голоса, он хриплый и тусклый. Не могу вдохнуть, захлебываюсь и задыхаюсь. Отвергнуть ее сейчас, оторвать от себя ее руки все равно что отказаться в раскаленной пустыне от глотка сладкой родниковой воды.
Жанет слышит меня. Ее вздох прокатывается по моей щеке, и она отступает. Глаза ее печальны, но все так же ласковы. Она понимает. Она читает все на моем лице и только грустно качает головой. Прозрачная горечь, будто аромат иссохшей полыни. Мне стыдно и неловко. Она отступает еще на шаг и набрасывает на голову свалившийся капюшон. От этого движения плащ ее распахивается, и я вижу ее затянутый в темно-бардовый бархат стан и высокую грудь. Над корсажем вновь матовый блеск. Такой теплый… Уткнуться бы лицом. Я издаю стон и почти прыгаю в сторону. Чтобы вырваться из западни и бежать. Петляю между деревьев, как заяц. Кидаюсь то влево, то вправо. Перед глазами круги, сердце колотится. Спотыкаюсь о корягу и валюсь на кучу влажных, скользких листьев. Сбиваю колени. И обдираю ладонь. Пугливо, в отчаянии, замираю. Боже милостивый, Боже милосердный, сжалься на рабом Твоим… Как же он слаб, раб Твой… Как же грешен…
Глава 12
Она затруднилась бы назвать причину своего интереса к Жанет. Но сводная сестра ее по-прежнему раздражающе волновала. Как ей удалось сохранить свою душу в неприкосновенности? Почему эта душа не мумифицировалась, не отмерла, как души всех прочих? Что за эликсир придумала и выпила Жанет? Клотильда вновь и вновь, помимо воли, задавала себе эти вопросы. Жанет обратилась в предмет ее изысканий, и, чтобы подобраться к ней ближе, герцогиня и задумала эту увеселительную поездку в загородный замок. Доверить подобный смехотворный предлог постороннему уху было бы, по меньшей мере, неосмотрительно. Легко вообразить, с каким пугливым изумлением на нее взглянула бы герцогиня де Шеврез, эта жрица придворной интриги и житейского здравомыслия. Хороша была бы она, принцесса крови, в глазах светских дам, она, этот столп рассудка и хладнокровия, изрекая подобные тезисы: я желаю приблизить к себе сводную сестру, чтобы изучить ее метафизические способности, раскрыть секрет ее живого присутствия. После подобных откровений по Парижу непременно поползли бы слухи, что герцогиня Ангулемская тронулась рассудком. Или попала под влияние безумца-священника, желающего обратить ее к покаянию. Она не настолько глупа, чтобы открывать мотивы своих действий. Она могла бы поговорить об этом с Анастази. Та не сочла бы ее безумной. Был еще Геро, который понял бы ее с полуслова.
* * *Камзол безнадежно испорчен, и ладонь саднит. Любен отводит глаза. «За сколько ты продал меня, иуда?» Но вслух прошу только воды. Помочь себе не позволяю, сам промываю ссадины на руках и осматриваю разбитое колено. Вот и знаки расположения, которые я получил, как нежданные дары при первом свидании.
История повторяется, сюжет, ставший основой трагедии, с невинными жертвами и пролитой кровью, теперь адаптирован к фарсу. Нет сомнений – она забавляется. Изгоняет скуку тем же способом, каким когда-то действовала ее сестра. И ничего удивительного. Они одной крови и схожи в своих забавах. Я приглянулся одной, так почему бы и другой не одарить меня расположением? Жанет при всей своей жаркой искренности все же напоминает сестру. Возможно, тот же поворот головы, или небрежная властность, с которой она держится, или та же мерцающая равнодушная улыбка, линия плеча, полусогнутый локоть. Она из числа избранных, с кровью помазанника Божьего в жилах. С правом избирать. Только пользуется она этим правом более утонченно. Жанет усложняет игру, обращая ее в блестящий розыгрыш. Ее сестра, герцогиня Ангулемская, действует с угрюмой прямолинейностью, не затрудняя себя полутенями. Ей не приходит в голову совершить обходной маневр или пойти на переговоры. Подобно Иисусу Навину, верному заветам Моисеевым, она предает мечу «все дышащее», разрушает и порабощает. Но Жанет сродни Одиссею – строит деревянного коня, но начиняет его не воинами, а игрушками и сластями. Ей не нужен залитый кровью жертвенник, ей по вкусу засахаренный дягиль. Она не принуждает – она влечет. Зачем тратиться на оружие, если в ее руках верное, проверенное средство? Расчет ее верен. Я одинок, болен, несчастен, мои бастионы готовы пасть от первого же слова участия. Она приласкала меня, как бездомного пса, и я уже готов целовать эту великодушную руку. Как просто… Ни противостояния, ни усилий. Выкажи она высокомерие, я бы нашел в себе силы обороняться. Но она не лжет, она действительно меня жалеет. Пусть на минуту, но без фальши. Конечно, есть еще и азарт, и любопытство. Я – собственность ее сестры, ее тайна, а какая женщина устроит перед соблазном разгадать тайну? К тому же Жанет только что покинул возлюбленный, и она должна чувствовать себя уязвленной, жаждать реванша. Ей необходимо одержать победу, обратить другую, удачливую, в прах под ногами. Тут как нельзя кстати подворачивается добыча, чужая собственность. А ее сестра, герцогиня Ангулемская, противник более чем достойный, победа над ней излечит страдающее самолюбие рыжеволосой княгини.
Нет, нет, я преувеличиваю. Никакого хитроумного плана нет, это порыв, приключение, которым она искренне наслаждается. Возможно, она даже испытывает некоторую толику чувств, о которых говорит. Любопытство и жалость. Она назвала это влюбленностью. Боже милостивый, у меня сердце заходится, когда я вспоминаю, как она это сказала. Она не опустила глаз, не смутилась. Произнесла без жеманства и трепета. «Я влюбилась». Через несколько дней это пройдет, она забудет меня, но сейчас… сейчас она не играет. Я слышу ее. И чувствую поцелуй. Меня бросает из холода в жар, терзает беспокойство. Что же она наделала! Я, подобно Софоклу, мнил себя почти свободным «от яростного и лютого повелителя». Близость с герцогиней – это обязанность, которая не имеет ничего общего с божественным вмешательством Эрота. Это безрадостная, глухая прерогатива тела, которой я пользуюсь в отчаянии, не зная трепета и восторга. А Жанет вновь вынудила меня чувствовать. В тугую плоть замешался солнечный свет. Я жив, я есть, я дышу. Я помню, что такое страсть, томление и надежда. Сердце разгоняет по жилам этот нектар, я чувствую боль и одновременно желание. Готов метаться от стены к стене, слагать оды, проклинать судьбу и петь ей хвалебные гимны. Именно так, как готов был делать это в те далекие жаркие ночи влюбленности. Я помню и чувствую вновь. Но зачем? Зачем? Что делать с этим воспоминанием?
Гости остаются в замке еще неделю. Я не покидаю своих комнат и не пытаюсь даже подняться по узкой лестнице в башню, чтобы вдохнуть свежий утренний воздух. Не подхожу к окнам и не касаюсь тяжелых гардин. Они опущены, будто приступ у меня все еще продолжается. Я прячусь от света. Любен беспрекословно повинуется, исполняя самые бессмысленные мои приказы. Все еще отводит глаза. Я не обвиняю его и не задаю вопросов. Но он чувствует мое скрытое беспокойство, сознает, что стал невольной тому причиной, и не скрывает своих попыток заслужить мое прощение. Я его не виню и не требую раскаяния, но сам его вид, унылый нос, насупленные брови напоминают мне об утрате. Если бы не его маленькое предательство, я бы не терзался сейчас этой болью, пребывал бы, скованный, в пещере и безмятежно любовался тенями. Не видел бы солнца, не опалил бы сердца и глаз. А теперь мне предстоит вновь ослепнуть. Скорей бы…
Я знаю, что она где-то там, среди гостей, блистает, улыбается. Она даже спускается в парк. И гуляет там по утрам. Я могу увидеть ее. Это нетрудно. Если подняться на галерею или одолеть петли винтовой лестницы. Я даже воображаю, как делаю это. Выбираюсь на рассвете с той же неуклюжей предосторожностью, с какой уже совершил роковую ошибку, иду по лестнице вверх, а затем через узкую декоративную бойницу смотрю на нее, неясную, далекую во влажном утреннем тумане, вижу, как ее тонкий силуэт скользит между деревьев. Шагов я не слышу, но мне так легко и так соблазнительно представить ее узкий башмачок, приминающий жухлую траву. Ночью шел дождь, листья вымокли и отяжелели. Холодные капли срываются, будто слезы с ресниц, скатываются по ее бархатному плащу. Остаются влажные, чуть заметные бороздки. Если она откинула капюшон, то капли скатываются по волосам, распадаются на тонкие золотистые ручейки. Под самые крупные капли она подставляет ладонь. Мягкая душистая лайка отвергает влагу, и крошечный обрывок ночного ливня будет блуждать меж ее пальцев. Она придет туда же, где застала меня, к обломку на цоколе, и будет бродить вокруг. Оглядываться, трогать мраморную щербатую поверхность. Дикий виноград будет цепляться за стену, подобно паутине, с запутавшимися багровыми крыльями. Она сорвет твердую синеватую ягоду и с усилием раздавит. А колонна будет возвышаться над ней, как безмолвный, обезглавленный великан. Потом она уйдет. Или не придет вовсе. Я все придумал. Ее там нет и не было никогда. После моего позорного бегства вряд ли она обо мне вспомнит. Забава кончилась. Чтобы убедиться, мне следует подняться на угловую башню. Ее там нет. Нет! Но я не хочу и противоположных доказательств. Знать, что она там и ждет, будет еще хуже. Лучше так. Оставаться в неведении и тешить себя мечтами. Скоро это кончится, она уедет и никогда не вернется.
День отъезда приближается. Вестником вновь становится Жюльмет. Любен тоже все знает, но я с ним не говорю. Как всегда ловко переставляя вещи, Жюльмет повествует об окончании загородных каникул. Погреб опустошен, окорока съедены. Пришлые лакеи и горничные укладывают вещи. Я изнываю от желания задать ей свой заветный вопрос, но, к счастью, сдерживаюсь. В мое emploi58 мрачного отшельника любопытство не входит. Я должен скорее выразить холодное отвращение к происходящему и заткнуть уши.
Все эти дни я усиленно вытачиваю для Марии рождественские фигурки, младенца Христа в колыбели, склонившуюся над ним Богоматерь, бородатого Иосифа, спящего ягненка; намереваюсь поселить их в Вифлеемском ящике. За прошедшие два года в тюрьме я научился довольно сносно управляться со стамеской. Мои деревянные зверушки стали копиями своих живых собратьев, а давняя затея – маленький театрик с танцующим Полишенелем и разноцветным Арлекином – давно украшал комнату моей дочери на улице Сен-Дени. Я достиг той степени мастерства, когда одухотворенный ремесленник познает радость творчества. И все же я почти принуждаю себя сидеть за верстаком. Ибо занятые руки вовсе не умеряют сердечной боли, я думаю о другом и смотрю в другую сторону. Там, задвинутый в угол, стоит громоздкий продолговатый футляр, обитый бархатом, с серебряными застежками. Жюльмет каждый раз прилежно смахивает с него пыль, но я только настороженно поглядываю и не открываю его.
Герцогине не нравилась моя возня с деревом, которую она именовала простонародной, и за прошедшие годы она не раз пыталась лишить меня этого недостойного занятия, но я не сдавался, напоминая об осколке зеркала. И она, так же памятуя о нем, уступала. Как своеобразный противовес неблагородной забаве она подарила мне скрипку…
Глава 13
Он стоял у окна и держал на руках… ребенка. Новорожденного. Такого крошечного, что влажный детский затылок терялся в его ладони. Она моргнула. Затянула спасительную паузу. А едва меж ресниц вновь потек свет, выдохнула. Она и дыханием своим выпала из текущего бытия, будто лишилась чувств. Не ребенок. Это скрипка. Он держал в руках скрипку. Стоял к окну вполоборота, свет падал косо, побитой тенями разнородной полосой, откуда-то из верхнего угла оконной ниши, будто небеса косили единственным желто-пыльным глазом. В полосе света – его профиль. Безупречный, тонкий. Он чуть склонил голову и разглядывал давно забытый инструмент. Скрипка, внезапно извлеченная, как младенец из темной, безопасной утробы, все в красноватых пятнах, тоже в первый миг слепая, оглушенная.

