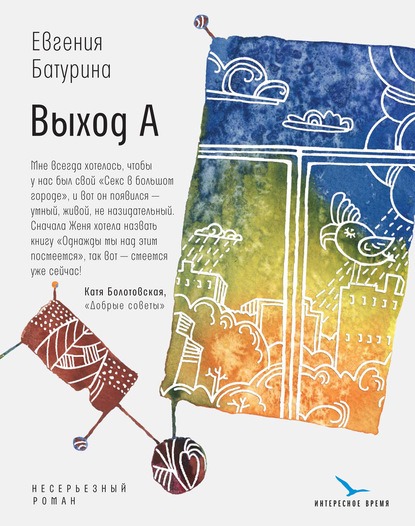Полная версия
Тупо в синем и в кедах

Марианна Гончарова
Тупо в синем и в кедах
© Гончарова М. Б., 2019
© Дмитриев А. В., 2019
© «Время», 2019
* * *Андрей Дмитриев
Ковчег Гончаровой
1Литература не любит счастливых семей. И уж если берется за семейную историю – то чаще всего для того, чтобы явить миру универсальную модель его катастрофы.
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» – с первой же строки «Анны Карениной» Лев Толстой дает понять, почему он взялся за роман о семейном несчастье двух семей: Облонских и Карениных. Категорическое похожи подразумевает скучны – это, если говорить о живой жизни, пожалуй, и неправда. Другое дело – литература, у которой свои законы, и ничего скучнее благополучного однообразия сюжетов, благостной бесконфликтности, радостной жизни как таковой придумать нельзя. Попытка Толстого, убежденного поборника семейных ценностей, сочинить историю о семейном счастье была провалена. Его роман, так и названный «Семейное счастье», удачей точно не назовешь – мало кто вспомнит о нем сейчас, кроме специалистов по истории литературы, да и те вспоминают нечасто. Может показаться удивительным, но в финале «Анны Карениной» Левин, alter ego автора и единственный счастливый семьянин в романе, осознав свое счастье, с огромным трудом обретенное, – до того напуган и растерян, до такой степени не верит в совместимость семейного счастья с жизнью, что всерьез подумывает о самоубийстве.
История гибели одного семейства – подзаголовком «Будденброков» предупреждает читателя Томас Манн…
«Сага о Форсайтах» Голсуорси – могучая метафора вселенской катастрофы, художественный приговор Викторианской эпохе, которую и по сей день многими принято считать золотым веком Британской империи…
Если же в семье все по видимости благостно и гладко – литература непременно поселит скелет в семейном шкафу или нашлет на семейный очаг разрушительную бурю извне…
Все же нет-нет, но и заявит о себе литература, для которой в истории счастливой семьи нет ничего однообразно-скучного и где семейное счастье – универсальная модель спасения мира. Прежде всего, это в немалой своей части литература о детях, где жизнь семьи показана их глазами. Потому что глазами детей весь мир вокруг, со всеми его страхами, опасностями и даже горестями, – это, как правило, счастье. И в этом смысле я готов поставить рядом «Детство» Толстого, мучительные, но удивительно жизнелюбивые истории Диккенса, в которых дети, пусть и не все, обретают счастье прежде всего в семье, «Чук и Гек» Гайдара и, скажем, «Денискины рассказы» Драгунского. (Конечно, есть и страшные, безнадежные истории о детях, которым нет места и спасения в этом мире, а значит, и миру нет спасения, но они – предмет иного разговора. Скажем, о том, как гуманнейший Чехов сочинил адовы «Устрицы», а Достоевский – «Мальчика у Христа на елке».) «Взрослой» прозы, во взрослом ракурсе которой была бы явлена заведомо счастливая семья, в литературе немного. Один из редких примеров этой прозы – рассказы и повести Марианны Гончаровой. И они – точно не скучны.
2Увлекательность и, соответственно, популярность прозы Гончаровой принято объяснять тем, что ее проза насыщена юмором. И это справедливо: юмора у Гончаровой не отнять…. И все же… Вымышленные смешные миры несравненных мастеров юмора художественно восхитительны и убедительны… Но в этих смешных мирах тебе вряд ли захочется жить доподлинно. То есть невозможно мечтательно вообразить себя доподлинно живущим среди персонажей Гоголя, Чехова, Достоевского и Зощенко, Бабеля и авторов «Двенадцати стульев». Одно дело смеяться над героями «Мертвых душ», совсем другое – вообразить себя играющим с ними изо дня в день в вист. Одно дело нравоучительно хохотать над унтером Пришибеевым или Человеком в футляре, совсем другое – представить себе воочию, что тебе приходится с ними здороваться каждый день при встрече и каждый день выслушивать их нравоучения. Одно дело смеяться над манерами трамвайных хамов из рассказов Зощенко, совсем другое – хотя бы мысленно оказаться в тех трамваях. Читать «Одесские рассказы» Бабеля очень весело, но не хотел бы я жить на одной улице с Беней Криком и его очаровательной сестрой. Одно дело – вышучивать Безенчука с его выставочными гробами, отца Федора с его дохлыми кроликами и Кису Воробьянинова в нарукавниках сотрудника загса – совсем другое дело хотя бы во сне навеки поселиться в уездном городе Н. и натянуть на себя по локоть эти сатиновые нарукавники…
Ты читаешь и перечитываешь лучшие из смешных страниц, созданных человечеством, для того чтобы разделить с авторами художественное удовольствие, чтобы, конечно же, посмеяться, – но и для того, чтобы определиться со своим собственным миром, принять себя таким, каков ты есть. Даже если твой мир полон горести, глупости, страхов и неудач, даже если ты, по чувству своему, состоишь из многих несовершенств – это все же твой мир, а не подсудный твоему смеху, страшноватый мир героев «Ревизора». Автор «Ревизора» приглашает тебя вместе с ним посмеяться над повседневной жизнью его героев – и ты принимаешь приглашение.
Нет, ты не равен Гоголю, когда смеешься, перечитывая «Ревизора». Но ты и не его герой. Ты смеешься над его героями вместе с Гоголем, по его, повторяю, приглашению. И благодаря Гоголю – его юмору! – хотя б на миг становишься бесстрашнее перед лицом своего подлинного мира. Думаю, ни один из читателей или зрителей «Ревизора» не принял, не принимает и никогда не примет на свой счет финальную реплику Городничего: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь». Не примет и будет прав: не над собой.
Никому из читателей, как я догадываюсь, и в голову бы не пришло вживую постучаться в дверь кого-нибудь из самых смешных героев Гоголя, Чехова или Зощенко, чтобы разделить с ними их повседневную жизнь.
…В дом, который с юмором, но накрепко и надежно построила Гончарова в своей прозе, читатель захочет постучаться.
3Смешная, счастливая семья в этом доме, во всех подробностях своей жизни – притягательна, к ней влечет, к ее кругу тянешься, как к спасательному кругу… Я здесь не вхожу в подлинные обстоятельства жизни Гончаровой. Я отдаю себе отчет, что за каждым ее персонажем стоит реальный человек, но степень вымысла высока, ситуации и повороты сюжетов фантастичны, едва ли не сказочны, и мы уверенно можем говорить о мире прозы Гончаровой как о сугубо художественном мире… И в этом мире, в этом вымышленном, хотя и узнаваемом городе, который сам – семья, все тянутся друг к другу: русские и цыгане, украинцы и евреи, румыны и австрийцы, кошки и попугаи, взрослые и дети, звери и птицы, вещи и книги, воспоминания и надежды на будущее. В этом обширном семейном мире никто не смотрит друг на друга снизу вверх или, наоборот, свысока; всеобщее тяготение в нем – это тяготение равных, тяготение живых к живому, а не слабых к сильному. Возможно, напряжение этого семейного тяготения всех ко всем и ко всему – и есть главный мотив прозы Гончаровой. Он завораживает, наряду с ее юмором и сюжетами… Вот попугай Терентий: он тянется к колокольчику, потому что влюблен в него буквально, тянется к теплому картофельному пюре, в котором любит купаться, тянется к гостю семьи и будущему члену семьи по имени Дзундза, с которым ест наперегонки это самое пюре, в котором уже искупался, из одной тарелки – и Дзундза тянется к попугаю, не брезгуя пюре… («Не покидай меня, Дзундза!») Это взаимное тяготение нельзя разрушить, людей нельзя разделить, даже разъединив их жестокой политической границей по Пруту: люди найдут способ услышать друг друга и через реку («Янкель, инклоц ин барабан»).
Юмор, с которым рассказана жизнь этой разнообразной, многосемейной, но очень сплоченной семьи, понуждает не к смеху, но к удивлению и доброй зависти.
4Из вышесказанного может показаться, что речь идет о прозе умилительно-сентиментальной, но это не так. То приглушенный, то отчетливо слышный мотив опасности звучит в ней непрерывно. Потому что никуда не делось все зло окружающего мира. Никуда не делись и не денутся силы, способные на годы разделить людей по Пруту и по иным, бесчисленным, не только лишь географическим границам. И никто не отменил смерть.
То, что в прозе Гончаровой делает человека сильным, веселым и бесстрашным, а именно доверчивое тяготение к другим – обрекает его и на крайнюю уязвимость. Подросток Лиза Бернадская борется с опаснейшей угрозой, перемогая ее благодаря всем, к кому тянется – а тянется она ко всему живому: к взрослым и детям, к зверям и книгам, и все живое тянется к ней, даря ей силы и надежду. Но стоит Лизе со своей открытой, а значит, беззащитной душой потянуться к иному миру, устроенному совсем иначе, чем привычный, счастливый, семейственный мир – ее настигает самое тяжелое испытание… («Тупо в синем и в кедах. Дневник Лизы Бернадской».)
5Мир Гончаровой – это ковчег, вход на борт которого никому не заказан; ковчег, способный с весельем и отвагой преодолеть любые темные воды, лишь бы обитатели ковчега не уронили за борт свою спасительную веру в закон всеобщего тяготения.
Ноябрь 2018 г.
Тупо в синем и в кедах
Дневник Лизы Бернадской
Повесть
В этом году ко мне не пришел Дед Мороз.
И не потому, что я не верю в чудеса. Как раз наоборот – чудеса я встречаю с восторгом и благодарностью. Потому что без присутствия чуда в этой человеческой каше-малаше, в этих странных отношениях друг к другу, к детям, к природе, к планете, к жизни никак не складывается ничего. Непременно должно быть что-то, когда вдруг глупость и безалаберщина уступают место пониманию и быстрой человеческой реакции… Ну то есть по-настоящему человеческое – это когда включается не обычная обезьяна, а божественное. То самое, для чего мы, человеки, были придуманы… Ой, что-то я устала и запуталась сама. Ну вот, например, кто-то по внутреннему зову вдруг просыпается, вскакивает ночью, бежит куда-то, чтобы нажать на кнопку возврата и спасти планету от гибели, я знаю, я читала про дяденьку, который вернул на место уже запущенную боевую ракету. Или даже ракеты. А вот еще. Одна девушка в городе Каменец-Подольском стояла на перилах моста, уже собиралась сигануть вниз, чтобы покончить с этим всем обрыдлым, ужасным, отвратительным и постылым. А тут вдруг старенькая машинка: трюх-трюх-трюх – и заглохла. Оттуда дедушка вываливается. Говорит, девушка, а девушка, а ну слезайте! Вы же упасть можете, прямо в реку! Девушка, а девушка! (Вчера только смотрели с братом: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная? – Тепло, батюшка, тепло!» – Фильм «Морозко».) Я когда еще в клинике лежала, читала что-то по литературоведению, там это называется «медитативные повторы». Они, мол, как-то действуют на подсознание. Вроде как заговоры колдовские, вот это вот «девушка, а девушка…»
Кароч, спрашивает он эту девушку, которая уже крылышки сложила и хочет кинуться в речку Смотрич от несчастной любви, дура такая:
– Девушка, а девушка…
А девушка ему раздраженно:
– Ну чо, дед, ну чо те надо?! – Она ведь уже все, решение приняла, вот-вот…
– Иди, – говорит дедушка, – сюда, помоги старику.
Девушка добрая, почему не помочь, хоть и раздражает дед скрипучим своим «девушка, а девушка». И она слезает с перил. Осторожненько так. Чтобы не упасть.
А дедушка ей – оп! – конфетку на палочке цветную, круглую, огромную, как блин, – и говорит:
– На! С наступающим Новым годом, детка!
Ну, потом уже настроения у нее лезть на перила, конечно, нет. Дедушка еще этот какой-то подозрительный. Подтолкнула с ним его «копейку», села к нему, на заднее сиденье, а сама боится. И думает, бли-и-ин, я ж только что хотела с моста кинуться, чего это я сейчас боюсь, какая разница, как сдохнуть от несчастной любви. А дедушка на своей трюхалке подвез ее в центр города по дороге. Она попрощалась нормально, спасибо сказала, с наступающим Новым годом тоже сказала, пересела в такси, а у таксиста оказались синие глаза и он тоже ее – с наступающим, и веселые истории рассказывает… Пригласил в кофейню поболтать, выпить кофе-чаю или чего… Домой отвез, телефон попросил. Ну не чудо?! Да, простенькое. Даже банальное. Но ведь чудо!..
Ну и потом – главное чудо произошло со мной, с нами, с нашей семьей. Поэтому в чудеса я верю, а в Деда Мороза уже нет. Ну какой Дед Мороз придет ко взрослым, повидавшим всякое в своей жизни людям семнадцати лет?!
(Оп! Три часа дня. Сейчас-сейчас, мне надо срочно принять таблетку и витамин, я вернусь.)
Ну вот. В этом году ко мне не пришел Дед Мороз. Зато к Мистеру Гослину, моему брату, пришли и Дед Мороз, и Санта, и всякие Снегурочки в коронах, шапочках, с косичками и в белых валеночках. Прилетели тихие эльфы с прозрачными крылышками, в розовых штанишках и крохотных сверкающих туфельках. Пришли вздорные, но добрые в душе гномы, нанесли грязи в прихожую, натоптали. Прискакали из страны оленьей легконогие олени, веселые, трусливые, глупенькие, с барабанами зайцы и другие сказочные лица и морды. Надарили всего разного, о-го-го! Мистер Гослин же у нас парень не промах. И хотя он только-только выучил буквы, но уже сумел сложить из них вежливые и скромные пожелания и просьбы, через слово вставляя «пажайлыйсто». Санте он отправил письмо через морозильную камеру старого холодильника. Ночью мы послание выкрали и прочли, давясь от смеха и умиляясь деликатности нашего мальчика. Пажайлыйсто. Он писал это письмо целый вечер, высунув язык, весь извозюкался фломастерами, пыхтел, замучился рисовать буквы и слово «пажайлыйсто», потеть от усердия, шевелить губами, словом, подустал с этим всем. Ну и письмо Деду Морозу уже потом не написал, а нарисовал, наслюнявил уголки и наивно приклеил на окно, типа, Дедушка будет мимо проезжать, увидит, заинтересуется, а ну-ка, что это тут? А там были просто нарисованы герои сказки «Волшебник страны Оз», все абсолютно похожие на черепах-ниндзя.
Ну мы уж постарались. Во всех мыслимых и немыслимых местах дома таились коробки с подарками для Мистера Гослина. И мы только переглядывались и сияли, когда он вдруг находил их, радостно взвизгивал на весь дом, разворачивал пакеты, удивлялся и хохотал своим многоцветным неподражаемым смехом. Прокололись мы только с черепахами. Абсолютно случайно мы узнали, что хотел-то он лего с персонажами страны Оз. Но ничего, армия скупленных в магазине воинственных суперчерепах тоже прокатила.
* * *Полина Игоревна, подруга моей бабки Агнии (все зовут ее Агнешка), проводит со мной пси-хо-те-ра-пев-ти-чес-ки-е-е-е… е-е-е! Бесит! Меня сейчас очень многое бесит. Такая я есть сегодня. Такой период в жизни. Бесит. И ненавижу. Много лишнего обнаруживается в этой жизни. Много лишней суеты, лишней еды, лишней одежды, лишних усилий, лишних событий. В том числе – лишние ненужные слова. Длинные такие, что, пока выслушаешь до конца, взмокнешь.
Ненавижу длинные слова, ненавижу! И еще. Вот тут лучше сразу сказать, почему я в этом те-ра-пев-ти-чес-ком дневнике не выставляю даты. Потому что я ненавижу точное время. Точное время и длинные слова. Но особенно длинные слова. И многословных речистых взрослых людей. Со значительными тяжелыми лицами. Зачем, господа присяжные… завсегдатаи… завсегдатели… заставлятели… Зачем?! Чтобы потянуть время, которое на самом деле совсем не тянется, а без-воз-врат-но уходит навсегда? Чтобы отбирать у меня минуты, часы, дни, долго ворочая языком, демонстрируя, какой ты взрослый, умный и крутой, а на самом деле успеть что-то задумать, наврать, обхитрить? Чтобы все стояли и ждали, когда ты такой весь из себя надутый как голубь, это слово выдавишь, выговоришь, молвишь, изречешь? Это я в ворде синонимы подсмотрела. Нефиг Нечего мне делать, придумывать слова про отморозков всяких велеречивых. (Это из Агнешкиной книги слово – «велеречивый», про чувака, который трепался почем зря.) Ну скажешь ты, такой весь из себя, длинное, непонятное обычному человеку слово. И чо? Произведешь впечатление, няшный такой перец? И убьешь, сволочь такая, мое личное время, умник!
Или вот еще про время. На пакете с тем, ну с таким, черт, не помню, а – пудинг! На пакете с вязким серым содержимым написано: варить двадцать минут. По-ме-ши-ва-я. Бли-и-ин! Двадцать минут на офигительный обалденный изумительный диетический пудинг! Который никто жрать не захочет, и он зацветет буйным зеленым цветом в холодильнике и развоняется вовсю. Тогда лучше напишите – отдай мне, девочка, двадцать минут твоей жизни на эту хрень, и обратно я тебе их, эти двадцать минут, не верну. Вари давай серый пудинг, иди верной дорогой к финалу. По-ме-ши-ва-я.
Времени у человека вообще мало. Вот, например, жизнь – это песочные часы. У меня есть такие, в пластиковой фиолетовой рамке. Доктор Натан подарил. Принес однажды. Так странно было. Ну, потом напишу. Он сказал, вот тебе, Бернадская Лизочка, часы. Я спросила, а зачем? Натан ответил, чтобы я смотрела, как бежит песок, и так легче ждать, когда закончится капельница или процедура. Песок в этих часах темный, густой, мерцающий. Просачивается, как черная кошка в темную комнату, кошка с атласной спиной – сквозь стеклянное тонкое горлышко. А сat on a hot tin roof… А black cat in a sandglass. (На полях: Кошка на раскаленной крыше… Кошка в песочных часах…) Стекает горкой вниз. Лапы, голова, живот, задние лапы, хвост. Переворачивать часы во время процедуры надо четыре раза. Я очень полюбила доктора Натана, я его заобожала даже. Он очень прикольный. Но. Я совсем не полюбила его подарок. Гонять эту кошку туда-сюда, туда-сюда. И когда переворачиваешь четвертый раз, кошка замирает внизу, сворачивается клубком, и сначала еще видно уши, круглый затылок, гладкую спину, а потом вся кошка рассыпается в горстку песка. Блин, ну зачем тогда жить, если заканчивается все кучкой пепла, верней, песка?! Рано или поздно эти часы остановятся: их однажды просто никто не перевернет и не разбудит кошку. Песок окаменеет, кристаллы слипнутся, как песчаная роза из пустыни Сахара. Агния хранит такую на белой пуховке в старинной фарфоровой пудренице. Такая красота. А всего-то – песок, ветер, верблюжья моча и время. Так и будут стоять они, песочные часы, нарядно-фиолетовые, и песчаная роза, на которую пописал неизвестный верблюд из восемнадцатого века. Кстати… Моя miss Pauline, Полина Игоревна, – ханжа, она не разрешает говорить: «А можно выйти в туалет?» Она учит спрашивать в при-лич-ном тоне: «А можно помыть руки?» И если в при-лич-ном тоне рассказывать про песчаную розу, то необходимо сказать так, что сотни лет в пустыне Сахара дул ветер, складывал песчинку за песчинкой в причудливый узор, потом откуда-то издалека притащился неизвестный истории верблюд и несколько раз «помыл руки». И получилось искусство природы. Вот такие они, песочные часы и песчаная роза – памятники прошедшему времени.
Полина Игоревна смешная. Слышала бы она, что у нас в больнице одна санитарка в таких случаях говорила про «помыть руки». Какой она словарь адский выдавала. Мы ее звали Дарт Вейдер. Она с шести утра громыхала ведрами, орала на родителей больных детей и называла нас «задохлики». Это было ласковое слово. Врачи ничего не могли поделать, в санитарки добрые люди редко идут, они где-то в других местах тусуются. Я раньше значение таких слов, какие Дарт Вейдер говорила, не знала. А уж Полина, я думала… Хотя Агния возражает. Агния говорила, что Полина и не такое слышала. У Полины была очень трудная жизнь, но ее правильная речь – это личный протест. Это протест против ее прошлого времени (опять время!). Это было время, когда вокруг нее, такой тонкой и аристократичной, все матерились и орали, как санитарка Дарт Вейдер, и не стеснялись этого, а даже гордились. И Полина тоже научилась так говорить. Агния рассказывала, что в том мире, где Полина существовала почти пять лет, без общего языка было не выжить. Вообще, Агния говорит, что везде и всегда надо искать общий язык. И это не значит английский, украинский, испанский. Это значит совсем другое. Я понимаю, но не могу объяснить. Там, в том странном месте, у Полины Игоревны был такой общий язык с другими людьми, и она должна была на нем говорить. А у нас в семье должен быть другой общий язык, потому что у нас растет Мистер Гослин. Он должен слышать лучшие примеры языка. Вот именно поэтому – настаивают Полина Игоревна и Агния – я должна убрать из своей речи ругательские слова и учиться разговаривать, как Полина Игоревна. И это тоже будет протест – против вселенской грубости и обсценной лексики. Не знаю, правильно ли я написала. Новое выражение выучила – обсценная лексика. Это значит грязная, оскорбительная, корявая речь. (Даже с матами!)
Надо бы мне об этом подумать, об общем языке. Подумать, сформулировать и написать. Самой себе.
* * *Почему я это все пишу. Не только потому, что это терапия. Во-первых, я живу сейчас в ограниченном пространстве. Мне еще нельзя выходить из дому, разве только на прогулку с кем-то из родителей два раза в день по полчаса. Поэтому у меня дефицит общения. И я общаюсь сама с собой и как будто со всем миром. Завести свой блог, конечно, можно. Но какое-то время мне вообще нельзя находиться слишком долго рядом с компьютером. И потом, если завести свой блог, то у тебя для этого должны быть реальные друзья. Чтобы они читали, чтобы они отвечали тебе, лойсили, то есть ставили лайки. То есть вот люди, которые говорят с тобой на одном языке. Для которых ты пишешь. Полина Игоревна, да?
Если же у тебя нет друзей, в твой блог придут чужие, которые ни тебя не знают, ни ты их. Начнут писать ерунду, троллить, слать дебильные картинки, хуже того – оскорблять. То есть говорить с тобой на разных языках. Вроде как на одном, русском или украинском, но абсолютно на разных. Как если бы говорила наша Полина с санитаркой Дартом Вейдером. Там-та-та! Та-а-а… Да-дам! Та-а-а… Да-дам! Эх, жаль, музыку из «Звездных войн» нельзя передать словами. Когда они, такие бесчувственные убийцы, идут строем. Жесткач вообще! Как мы тащились от этого, обалдеть!
Ну дальше. Во-вторых.
А во-вторых, Полина подарила мне этот крутой блокнот и сказала, что мне обязательно нужно вести дневник. И не так важно, на каком языке, а важно быть честной с самой собой. Нет, нормально! Я буду честной с самой собой, буду секретничать, делиться мечтами и планами, а Полина будет мне тут чиркать карандашиком и подчеркивать слова «лойсить», «лайкать» и «тащиться». Окей (на полях: ОК), буду писать, потому что я очень хочу пойти в школу и социализироваться. Блин, опять! Какое слово холодное, как стол в рентгенкабинете. На самом деле дневник надо вести, чтобы наладить отношения с самой собой (get on with), научиться жить среди людей, разобраться в окружающих и наладить (get on with) отношения с ними. Потому что, как выяснилось, после моего долгого отсутствия в обычном мире я – moody. (Какое толстое слово! Прикольно, да? Му-у-уди, жаль, Полина Игоревна запретила рисовать в дневнике смайлы.) Moody – это значит, что у меня резкие перепады настроения. (Но на самом деле я сейчас всегда в хорошем настроении, только этого не видно.)
А, да, Полина Игоревна посоветовала написать здесь, что она подтягивает меня по инглишу и я довольно успешно do my best. Усердно – это ее, Полинино слово – усердно занимаюсь. Смешное слово, но немного странное, «усердно». Какое-то оно… moody. Полинин инглиш очень беглый, утонченный, она говорит красиво и правильно, как Ее Величество Елизавета Вторая в оранжевом костюме, с сумочкой на локте и в эдакой элегантной невесомой шляпке на серебристой прическе. (На полях: Полина говорит, что так не пишут. А вот и пишут-пишут. Например, я так пишу.) А вот нормальные люди же так не разговаривают? «Не соблаговолите ли вы…» Не-а, не соблаговолю, Полина Игоревна! Нормальные люди спрашивают: Чай бушь? Или – хошь конфету? И пьют себе спокойно чай. И конфеты жрут едят. А мне нельзя. (Тут должен быть смайл с ручьями слез из обоих глаз: ы-ы-ы!)
Dear Полина Игоревна, язык меняется, упрощается. Это пишу я вам не от своего имени. Это говорил один классный пожилой хипстер в лекции TEDx. Он говорил, что язык есть часть культуры. Как музыка, например, кино или театр. Как мода на одежду и дизайн. Как отношения между людьми… И все это постоянно транс-фор-ми-ру-ет-ся. Ну, изменяется, в смысле, или что-то типа того. А вы, Полина Игоревна, не хотите меняться. Но Дима говорит, спасибо скажи. Полина – клад, сокровище. Спасибо, Полина Игоревна, наш клад и наше сокровище. Ну правда же, вы – сокровище. (На полях: Но раз я пишу себе, то почему я пишу вам, Полина Игоревна? А?)
Полина Игоревна сказала, что, если я не хочу писать даты, нужно ставить хештеги. Полина супер какая продвинутая. Теги – слово из социальных сетей. Окей, буду ставить теги.
#english_grammar_in_use