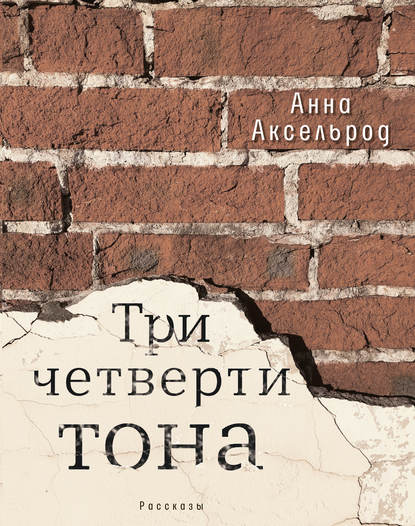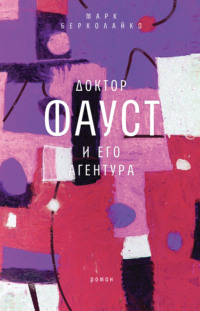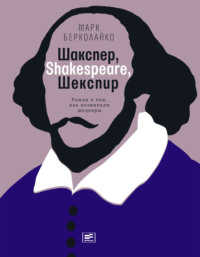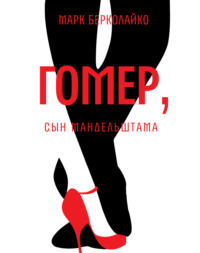Полная версия
Баку – Воронеж: не догонишь. Молчание Сэлинджера, или Роман о влюбленных рыбках-бананках
Чем-то из перечисленного увлекался, во что-то был и остаюсь влюблен, что-то делал ради денег.
Но «летал», – увы! – нечасто. В основном тогда, когда получал интересные и неожиданные результаты; о некоторых из них не могу сейчас рассказать даже самому себе, поскольку перестал их понимать – ведь математику пришлось оставить в 1996-м. Но вот об одном не забуду даже в последний час жизни, и только в окончательно отлетающем моем сознании исчезнет воспоминание о том, как полученные мною общие результаты позволяют увидеть новые и неожиданные свойства хорошо к тому времени изученных так называемых пространств Соболева.
Когда рассказал об этом Селиму Григорьевичу Крейну, он прокомментировал словом, любимым им со времен его одесского детства: «Шикарно!».
Когда рассказал на семинаре в Математическом институте Академии наук, «классики жанра» отозвались: «Сенсация!»
Однако самая высокая оценка, хотя и несколько косвенная, была получена в новосибирском Академгородке, на защите докторской диссертации. Дело в том, что двое из членов совета были чуть ли не со-основателями имевшего антисемитский душок общества «Память» и при малейшем подозрении о наличии у соискателей хоть капли еврейской крови голосовали против. В моем же случае даже и подозревать не надо было – все значилось в анкете, которую в начале защиты зачитал ученый секретарь.
В Институте математики Сибирского отделения Академии наук, основанном в начале 60-х тем самым Сергеем Львовичем Соболевым, многие мне симпатизировали и о двух неизбежных при голосовании черных шарах предупредили. Ревнители чистоты рядов советских математиков среди членов совета обнаружились легко: в начале моего доклада они смотрели не на исписанную формулами доску, а в окно, однако когда я заговорил о новом явлении в «изъезженной», казалось бы, вдоль и поперек теории пространств Соболева, то не выдержали, головы повернули…
При объявлении результатов тайного голосования по залу прошел гул: двенадцать «за», два бюллетеня оказались недействительными, – то есть одобрить присуждение мне, еврею, степени доктора физико-математических наук «памятникам» не позволили убеждения, однако проголосовать против не позволила научная совесть!
Спасибо Воронежу: во всем, что затевал здесь на протяжении пятидесяти лет, был успех более или менее явный.
Но трижды спасибо Баку: не подари он мне такое детство, такую юность и таких друзей, не отмой он меня от пятен мелочного тщеславия, не приучи бить, но не добивать, выигрывать, но не возноситься, проигрывать, но не сдаваться, не научи работать – не было бы в моей жизни никаких успехов.
Ни в Воронеже, ни в любом другом городе мира!
Баку
«Ты кто по национальности?» – типично бакинский вопрос, который задавался в расчете на развернутый ответ. И даже если можно было пояснить одним словом, например, «азербайджанец», то непременно прибавлялось, что мать из Баку, а отец из Шамхора или из Гянджи; если «русский» или «еврей», то как и когда в Баку оказались родители. Дети смешанных браков называли национальность по отцу – и не потому даже, что именно так себя осознавали, а постольку поскольку фамилия-то отцовская! Это при том, что мать почиталась, и в смеси самых разноязычных ругательств обычное для России «…твою мать!» считалось смертельным оскорблением, после которого завязывалась драка или даже поножовщина.
А уж если поклялся матерью и хлебом, то это священнее, чем Аллахом, или Христом Богом, или Всевышним.
Но вопрос этот задавался не для различения по признаку «свой – чужой», а скорее во избежание ненужных осложнений: разговаривает, скажем, еврей с азербайджанцем и неодобрительно отзывается, например, об украинцах – и вдруг слышит: «Ты мою родню зачем обижаешь?» Выясняется, что у собеседника, чья принадлежность к народу азери сомнения не вызывает, мать или даже бабушка откуда-то «с Винницы», и нужно долго и искренне извиняться, чтобы уйти от ненужного конфликта.
Я как-то раз так вляпался: перейдя из своей 6-й, лучшей в мире школы, ставшей, во имя очередного заскока Хрущева, одиннадцатилеткой, в другую, оставшуюся десятилеткой, и плохо еще зная одноклассников, заявил с пубертатным идиотизмом, что никогда не прощу украинцам их зверств во время погромов, чинимых когда-то запорожцами, а позже – соратниками Богдана Хмельницкого, Петлюры и Бандеры. Маленький, на голову ниже меня, мальчуган, азербайджанец Адиль, отреагировал: «Моя мать – украинка!» …Что ж, извинялся и убеждал, что имел в виду не тех, которые… а других, которые… Потом, кстати, мы с Адилем подружились. После этого случая я опасался резко отзываться или уничижительно говорить о любом народе, тем паче в Баку, где парень, разрез глаз которого наводил на мысль о близости к степнякам Средней Азии, мог вполне иметь совсем другие, чукотские, скажем, корни, – и анекдоты из ходившей тогда серии «про чукчей» лучше было при нем не вспоминать. Поначалу просто опасался, потом привык опасаться, а потом опасения улетучились и взамен осталась привычка к тому, что резкость или уничижительность в отношении любого народа или этноса безнравственны.
Так на собственной шкуре получил подтверждение хорошей усвояемости уроков, преподносимых ударами грома, – и неважно, крестишься ли ты до того, как он грянет, или после; говоришь ли «Иншалла!»[7] в преддверии грозы или «Машалла!»[8] во время оной.
Но заговорил я об ответах на «бакинский» вопрос еще и потому, что когда количество смешанных браков в Советском Союзе пошло на убыль, в Баку ничего подобного не случилось. Сам я и мой кузен, тоже Марк, женились на русских, да и многие мои друзья не принимали во внимание «чистоту крови» – поэтому теперь, когда в России все чаще слышится, как важно во имя нации, скреп, традиций и черт его знает чего еще сохранять в семьях моноэтничность (а теперь еще и единоверие), хочется ответить: «А вы посмотрите на детей, рожденных и воспитанных нами, “не сохранявшими”. Они что, хуже, глупее или ленивее ваших?»
У меня дочь и два сына, все от русских матерей. Старший сын считает себя евреем, а женат на женщине из народа телугу (Индостан); младший – русским и женат на русской, но когда мои парни сидят рядом, никто не верит, что у них – разные матери, настолько оба похожи на меня. А вот во внешности их детей не усматривается ничего еврейского, и никто из них ни на кого другого ничуть не похож. Во всяком случае пока.
Но я знаю, что все они, каждый по-своему, замечательно хороши, и благодарю судьбу за то, что истоки этого знания – из Баку.
Об одной чудесной, смешанно-перемешанной семье расскажу особо. Я знаю ее благодаря моему однокласснику Эльдарчику, – не буду называть его фамилию, как и фамилии всех моих ближайших друзей, поныне, к счастью, пребывающих в этом мире… Такое вот странное, внезапно возникшее у меня суеверие: тех, кто жив, – только по имени; уже, к несчастью, ушедших: Эмина Алиева, Рауфа Сафарова, Шурика Тверецкого, Леню Прилипко – буду вспоминать, будто бы произнося на перекличке в дорогой сердцу 6-й школе; будто бы надеясь, что откуда-то оттуда услышу их ответное, разноголосое «Я!».
Эльдар всегда был для нас Эльдарчиком, может быть, потому, что рос не очень стремительно, хотя вымахал в конце концов изрядно – наверное, благодаря баскетболу, в который играл хорошо и страстно. Вернее, настолько страстно, что не успевал вполне продемонстрировать, насколько хорошо: пять фолов он зарабатывал на первых пяти минутах игры, после чего сидел на скамье и давал квалифицированные советы своим осиротевшим партнерам.
А может, потому же не Эльдар, а Эльдарчик, почему Эмин был Эминчиком, почему и Шурик, Сашок, Ленчик, Марик, а поскольку от «Ниязи» уменьшительное образуется с трудом, то всегда: «Ниязи, дорогой!» И потому, что – часто насмешничая друг над другом, иногда ссорясь и даже иногда дерясь, – мы называли друг друга так, как называли нас наши мамы.
Это – Баку! Это бакинская расположенность, бакинская нежность… Но даже с ними и при них не было и нет у нас более неравнодушного друга, чем Эльдарчик, до сей поры он говорит о способностях и успехах друзей так упоенно и страстно, как вел когда-то мяч на баскетбольной площадке, – но упорно молчит о своих способностях и успехах, очень и очень немалых.
Но и никогда в жизни не встречал я другого такого же взрывного человека, который, правда, умел успокаиваться так же мгновенно, как минуту назад завелся.
И никогда не видел я другой семьи, в которой дивные черты разных народов, сплавленные воедино Баку и сумасшедшей температурой двадцатого века, образовали бы личность, достойную вечности.
Об этой семье прекрасно написал наш общий с Эльдарчиком школьный друг Саша в своей повести «Скачут по аулу три всадника», из которой я приведу несколько небольших отрывков.
Любимый тост Эльдара (произносимый очень редко и в очень узком кругу):
Ночь. Скачет по аулу всадник. Стучит в окно. «Выходи!» – «Сейчас».
Скачут по аулу два всадника. Стучат в дом. «Кто там?» – «Выходи». – «Иду!»
Скачут по аулу три всадника. Стук в окно: «Выходи!» – «Зачем?» – «Не нужно, оставайся!»
Скачут по аулу три всадника…
‹…›
– Встретим в аэропорту гостя из Москвы?
– Поехали!
Разговор привычный для нас в те годы. Но эта встреча запомнилась.
Сидели на пляже в Нардаране, бросив подстилку прямо на песок, и ели арбуз. Каспийские волны набегали уютно, норд дул несильный, и день получился замечательный.
Приезжий был заметно старше нас, и я из-за этой разницы в возрасте поначалу чувствовал себя скованно. Но собеседник был так деликатен и внимателен – без всякой фамильярности и похлопываний по плечу, что уже через полчаса мы общались на равных, и перипетии недавнего футбольного матча «Нефтчи» обсуждали, и анекдоты рассказывали.
А еще я, раскрыв рот, слушал о разного рода космических делах, которые в СССР тогда были тайной за семью печатями. И еще чем покорил меня сразу этот человек – предложил называть его просто по имени – Довлет.
На Востоке отчества вообще не приняты, но существует изощренная система вежливых слов – приставок к имени, которые помогают прояснить взаимоотношения беседующих и их места в «табели о рангах». В Азербайджане самое распространенное уважительное слово в те годы было «муаллим» – «учитель». Однако мои попытки употребить это слово Довлет отвел вежливо, но твердо. «Саша, я вам не учитель. Хотите, называйте меня Довлет Ислам-Гиреевич, а я тогда буду вас тоже по имени-отчеству величать – пожалуйста, если вам так проще…» Конечно, я с радостью согласился обходиться именами.
День получился чудесный, а после я узнал от Эльдара, что мы беседовали с руководителем одного из московских НИИ, имеющих отношение к оборонному комплексу, профессором Довлетом Юдицким… И тут я узнал одну из тех историй, про которые сказано кем-то: «К чему писать романы, если сама жизнь – роман?»
‹…›
Приехал служить на Кавказ молодой офицер царской армии поляк Леон Юдицкий. В дагестанском ауле полюбил он красавицу Мариам. Посватался – и получил категорический отказ. Родители не желали, чтобы девушка выходила замуж за иноверца. А дальше – нет, никто никого не крал темной ночью, и не бросалась красавица со скалы на острые камни… Жизнь – она суровее и проще. Леон Юдицкий понял, что не может и не хочет жить без Мариам. Он поставил крест на своей карьере, простился с предыдущей жизнью и принял ислам. И был наречен Ислам-Гиреем. Жили они с Мариам долго и счастливо, и были у них дочь и сын.
С сыном его, Довлетом, мне и выпала удача познакомиться…
А чтобы круг повествования замкнулся полностью, скажу, что Мариам была младшей сестрой бабушки Эльдара – Сакинат-ханум, которую все звали только мама Сакинат, и не иначе.
‹…›
Остается в бутылке два-три глотка водки, я тянусь разлить и допить, но Эльдар меня останавливает: «На компрессы!» – и смотрит со значением. Я этот взгляд понимаю – это слова мамы Сакинат.
Мама Сакинат… Бабушка Эльдара. Мама Эльмиры Алиаббасовны.
Долгими часами она просиживала в своей комнате за столиком, раскладывая пасьянсы. Вокруг нее и ее имени в доме существовал ореол уважения, почтения, даже – некоторой робости. Ее роль в семье – я бы сказал, королевская. В самом деле, какую повседневную работу делает королева для Англии? Никакой. Но что Англия без королевы?..
Не стало мамы Сакинат много позже, уже когда мы закончили институт. В день, когда ее хоронили, было солнечное затмение. Я до сих пор помню этот свет полузакрытого солнца – он стал каким-то призрачным, бутафорским… Народу собралось много, и я ушел на веранду, чтобы не быть в толпе, и там дожидался выноса покойной. И чем ближе к этой минуте, тем трепетнее и нереальнее становился солнечный свет… Так ушла мама Сакинат.
Спасибо, Сашок, теперь продолжу я: Сакинат, девушка из почтеннейшего кумыцкого рода, суннитка, вышла замуж за азербайджанца, капитана дальнего плавания Алиаббаса, шиита разумеется. Не знаю, по каким религиозным канонам жила семья, но жила хорошо. А Эльмира Алиаббасовна, мать Эльдарчика, – для нас «тетя Эльмира», – глядя на которую так легко было себе представить красавиц-горянок из чудесных стихов аварца Расула Гамзатова и романов даргинца Ахмедхана Абу-Бакара, – вышла замуж за еврея, талантливого инженера. До конца дней своих мама Сакинат, когда (крайне редко) сердилась на обожаемую свою и ответно ее обожавшую Эльмиру, кричала ей: «У, персючка!», что и было в их семье единственным проявлением многовековой розни суннитов и шиитов; той самой розни, которая ныне определяет столько скрытых и явных конфликтов не только в обширном исламском мире[9], но и на всей планете.
У Эльмиры Алиаббасовны и Израиля Давидовича родились два сына: Рауф и Эльдар.
Эльдарчик, Эльдар Израилевич, стал прекрасным специалистом в области микроэлетроники и приборостроения, работал главным технологом НПО космических исследований. Защитил в Зеленограде диссертацию; Солмаз, первая его жена, родила ему троих детей: дочь Нигяр, сыновей Руфата и Салима. Видел в 1981-м всю эту шумную и веселую семью, радовался за нее. А всего через десять лет, когда власть в Азербайджане перешла от бездарных бывших комсомольцев к еще более бездарным радикальным националистам (интересно, а хотя бы в одной стране мира даровитые среди таковых попадались?), оголтелые деятели Народного фронта назвали Эльдарчика «типичным ставленником советского ВПК». Не в характере моего друга стерпеть такое – но он, вопреки этому самому характеру, не взорвался, чтобы вскоре остыть; он понял, что прежняя жизнь ушла следом за прежней страной – и уехал из Баку.
Жил в Москве, с ужасом видел, как разрушаются приборостроительная и электронная индустрии СССР, как хиреют комплексы в Зеленограде, Воронеже… везде; комплексы, которые при толковом руководстве долго бы еще конкурировали с «буржуинской» радиофизикой и микроэлектроникой – ведь мы создали интегральную микросхему вторыми в мире, с отставанием всего на полгода; ведь, к примеру, портативные системы пеленга, разработанные еще в 1943 (!) году в легендарном Горьковском институте радиофизики, долго-долго оставались недосягаемой мечтой для всех научно-технических центров мира, а теперь принципы, по которым действовали те системы, лежат в основе кажущейся нам столь привычной моментальной геолокации!
Но, впрочем, я об Эльдарчике… так вот, привыкший к каждодневной о себе заботе, он жил в Москве одиноко и временами, чтобы просто прокормиться, вынужден был хвататься за любую работу…
Однако все выдержал, нашел себя во второй раз. Во второй раз родился – встреченная им Юля, замечательная той особой русской милотой, которая охраняет и хранит, и старший сын, Руфат, буквально оттащили его от края пропасти, разверстой тяжелой болезнью. Во второй раз состоялся в профессии: его приборы и методики, позволяющие оценивать перспективы длительно эксплуатируемых скважин, были отмечены премией Правительства РФ в области науки и техники.
Рассказ мой о семье Эльдарчика начался с имени поляка-мусульманина Ислам-Гирея (Леона) Юдицкого, а закончится замечательной чередой азербайджанских, еврейских и русских имен: Марьям, Зулейха, Алиаббас, Натан, Этель, Марфа, Лиза.
Это – внучки и внуки Эльдарчика. Видел их на семидесятилетнем юбилее деда; видел, как он купается в их любви, – воистину, это не маркесовская, а золотая осень патриарха.
«Дети разных народов», – скажете вы. «Нет, – возражу я, – дети одного народа, бакинского, вне зависимости от того, кто в каком городе родился!»
Да, с Баку, как фальшивая позолота, слетало то идеологически выдержанное, трибунно-газетно-тивишное, что именовалось «дружбой народов», а взамен оставалось подлинное дружелюбие этих самых народов по отношению друг к другу. Это не было единством обездоленных и угнетенных, это не было спаянностью в настойчиво пропагандируемой борьбе за что-то привлекательное или против чего-то враждебного. Вряд ли бакинский народ остро ощущал свою всечеловечность, так что глобалистами нас не назовешь; вряд ли бакинский народ остро ощущал свою «советскость», так что и в первых рядах строителей коммунизма мы тоже не шли. Однако всегда следует помнить, что в годы войны воевали свыше шестисот тысяч жителей Азербайджана[10], а не вернулись назад более двухсот, и очень-очень значительную часть этих сотен тысяч составляли бакинцы, – это ли не причастность общей судьбе?
Я намеренно не подсчитываю, какую долю среди воевавших составляли азербайджанцы, какую русские и так далее – это соответствовало этнической структуре населения и никаких выяснений, какой народ сколько крови пролил, в Баку не случалось; лживое, с ехидством обращенное к евреям: «Ташкент защищали!», я услышал очень далеко от дома.
Дал в морду, а в Баку избил бы.
Здесь же скажу, что даже в подлые времена «дела врачей», когда быть антисемитом значило проявлять личную преданность товарищу Сталину, никаких признаков враждебного к евреям отношения в Азербайджане не было. Да и не могло быть там, где во время сбора денег на строительство ашкеназской синагоги, большую сумму внесли миллионеры-нефтепромышленники Гаджи Тагиев и Муса Нагиев. Казалось бы, какое им, азербайджанцам, дело до евреев, да еще и не «местных», горских евреев, живущих бок о бок с ними издавна, а пришлых, «понаехавших», «перекати-поле», тщетно ищущих на территории огромной империи место, где не унижают?
Да вот ведь, было, оказывается, им дело – и потому, думаю, было, что разбогатели они, Гаджи-ага и Муса-ага, на нефти, – дивной, сложносоставной, ароматной бакинской нефти, которую оскорбляют, называя «черным золотом», то есть сравнивая с блестящим металлом, функциональным разве что в микросхемах.
И которую воистину возносят до небес, именуя Черной кровью Земли – да, именно с заглавной буквы! как Бога! Бога, которого, – считали правоверные мусульмане Нагиев и Тагиев, – все равно как называть, которому все равно как молиться – лишь бы молились чему-то неизмеримо высокому, даже если оно, это высокое, проявляется небольшим, всего лишь метровым, вечным пламенем на гребне горы Янардаг[11], у которой издревле падали ниц паломники-огнепоклонники.
Воевали призванные в Азербайджане мужественно – и вечная слава им за это!
Однако будем честны и максимально тактичны, они внесли весомый, но не решающий вклад в Победу, а вот добытая и переработанная в Баку нефть – решающий!
Это признавали и советские военачальники, начиная с Г. К. Жукова; об этом писал выдающийся министр нефтяной промышленности СССР, председатель Госплана СССР Н. К. Байбаков. С дотошностью экономиста и инженера Николай Константинович указывал, что советская боевая машина на 75–80 процентов приводилась в движение благодаря труду бакинцев, а я, – с дотошностью математика, – попытался выяснить: «А на остальные 20–25 процентов благодаря чьему труду?»
Кроме Баку нефть в годы войны добывалась еще на промыслах Моздока и Грозного, созданных усилиями бакинских инженеров и буровых мастеров; еще в так называемом Втором Баку – нефтеносных районах Поволжья, – а туда в 1941 году был переброшен многотысячный трудовой десант из Азербайджана, например, в полном составе трест «Азнефтеразведка», переименованный в «Башнефтеразведка». Совсем немного нефти и нефтепродуктов давали республики Средней Азии, но и там трудилось немало бакинцев, так что, глубокочтимый Николай Константинович, царствие вам небесное, не на 75–80, а на все 90 процентов!
Как это было? Двенадцатичасовой рабочий день без выходных и отпусков, а ночью, выполняя требования светомаскировки, трудились почти вслепую, пользуясь маломощными карманными фонариками, – и ни одной крупной аварии!
Как это было? Когда немцы, захватив Северный Кавказ, перерезали все железнодорожные пути на север, а под Сталинградом заблокировали движение по Волге, от Баку до Красноводска, по бурному осенне-зимнему Каспию, пошли буксиры, таща за собою длинные караваны снятых с вагонных тележек и прикованных одна к другой цистерн, заполненных бензином, керосином, мазутом и сырой нефтью лишь наполовину, а потому плавучих.
Как это было? Когда на бакинском рейде потерпел крушение доставивший арахис пароход из Ирана, Мир Джафар Багиров, талантливый и грозный руководитель Азербайджана, велел поднимать со дна мешки, вылавливать зерна – и бесплатно раздавать бакинцам. Отмывали как могли, отжимали масло, мололи, жарили лепешки – многих это спасло тогда от дистрофии и голодной смерти.
Приведу слова Ф. И. Толбухина, маршала Советского Союза: «Красная Армия в долгу перед азербайджанским народом и отважными бакинскими нефтяниками за многие победы…»
Да, в долгу, и не только Красная Армия, а все мы. А еще и вся Европа! В долгу, который не надо возвращать, но о котором следует помнить.
Академик Иван Губкин, исходив весь Апшерон и изучив его недра, по каким-то своим, ведомым только гениям, ассоциациям и аналогиям «разглядел» нефтеносные пласты «Второго Баку», а еще предположил, что Западная Сибирь покоится на невиданных по размерам «подушках» из нефти и газа. Предвидение о татарских, башкирских, куйбышевских (самарских), пермских залежах подтвердилось блистательно и сразу, а с Западной Сибирью было много сложнее – все развивалось по пословице «Близок локоть, да не укусишь»: неоднократно проводимое разведочное бурение то выявляло признаки нефти, то не выявляло, а самой нефти не было.
Однако всевидящая судьба, о которой писал Евгений Баратынский, действительно все видела и не спеша, без ненужной суеты, готовилась преподнести стране неслыханной щедрости дар. Такой щедрости, что Советский Союз, словно бы оглушенный и ослепленный свалившейся на него милостью, через тридцать лет после марта 1961 года скончался от болезни, которая называется «кому много дано, с того много и спросится – и не приведи Господь спросу этому не соответствовать»; такой щедрости, которой до сих пор живет Россия, но – слава богу! – суть диагноза мы вроде бы усвоили и, по крайней мере, говорим, – много и красноречиво, – о том, что данному нам за не наши заслуги надо бы соответствовать, ой надо бы!
Однако все по порядку: 28 июля 1931 года в одном из сел Шамхорского района Азербайджана родился мальчик, нареченный Фарманом – первый из четырех детей семьи Салмановых. В 37-м его отца арестовали, мать и дети выжили благодаря односельчанам, деду Сулейману и бабушке Фирузе. А фундамент будущего нефтегазового могущества страны волею судеб был заложен задолго до того: еще в 1888 году юного бунтаря Сулеймана приговорили к 20-летней ссылке в Сибирь за конфликт с имамом гянджинской мечети и старшим муллой губернии. Отправившись добровольцем на Русско-японскую войну, он воевал так храбро, что был награжден и досрочно освобожден; женился на русской сибирячке Ольге Иосифовне, принявшей ислам и получившей новое имя Фируза, – и вернулся в родное село.
Внук Фарман впитывал рассказы деда о Сибири и Дальнем Востоке и учился русскому языку у бабушки, а судьба тем временем не дремала: министр нефтяной промышленности СССР, уроженец Баку Николай Байбаков, выпускник Азербайджанского нефтяного института, по своим депутатским делам приехал в Шамхор.
Во второй уже раз я вспоминаю эту легендарную, – без каких-либо преувеличений, – личность и хочу рассказать историю, наверняка не всем читателям известную.
Когда в августе 1942 года немцы вплотную подступили к нефтепромыслам Северного Кавказа, Гитлер на одном из совещаний сказал, что с кавказской нефтью войну он выиграет за две-три недели. Сталин, узнав об этом, приказал Байбакову срочно вылететь на Кавказ и сформулировал задание в любимой своей манере: «Если вы оставите противнику хоть тонну нефти, мы вас расстреляем, но если вы уничтожите промыслы, а немец не придет, мы вас тоже расстреляем». Байбаков, которого вождь еще в конце тридцатых учил, что главное для молодого наркома – это «бичьи» нервы плюс оптимизм, решился возразить: «Вы не оставляете мне выбора, товарищ Сталин». – «Выбор здесь», – ответил Верховный главнокомандующий и постучал пальцем у виска. Этот ответ Сталина трактуют как призыв напрячь ум, но рискну предположить, что был в нем еще один смысл: пуля в висок из собственного пистолета, – до того как в затылок выстрелят из энкавэдэшного.