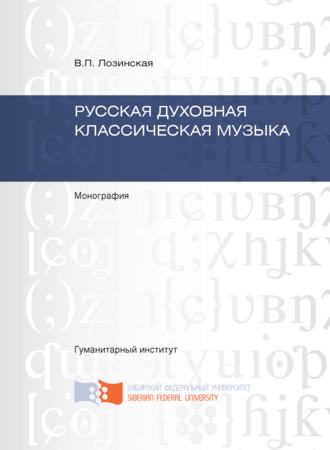
Полная версия
Русская духовная классическая музыка
Одним из таких признаков выступает слабо выраженное личностное начало. Большинство созданных произведений искусства оставалось анонимным, так как не принято было ставить подписи авторов под этими произведениями или же авторство зашифровывалось. При переписке готовый текст изменяли, сокращали, а если и расширяли путем вставок, то их заимствовали из других источников. Переписчик был своего рода соавтором, придавал тексту свое толкование, вносил комментарии, соединял разные части произведения. Поэтому оно являлось продуктом коллективного творчества, а обнаружение первоисточника требовало немало усилий.
В певческом искусстве Древней Руси соединялись традиционность и неустойчивость, множество вариантов при неизменности основной структуры. Большинство авторов песнопений неизвестны. Имена некоторых выдающихся мастеров церковного пения стали привлекать внимание лишь со второй половины XVI века. Но количество рукописей с указаниями подлинного авторства ничтожно мало.
Средневековый художник мыслил общими представлениями, руководствуясь готовыми формулами и стереотипами, которые использовали не только в одном произведении. На протяжении многих веков средства художественной выразительности оставались стабильными, а если изменялись, то очень медленно. Для искусства Средних веков была характерна строгая каноничность; как вечны и постоянны истины христианского вероучения, так и их воплощение в искусстве должно быть неизменным. Личностный фактор не играл важной роли.
Наличием устойчивой системы готовых формул, которые изменялись, варьировали, сочетались между собой, оставаясь в основе теми же самыми, определялось своеобразие творческого метода средневекового искусства.
Средневековый писатель, живописец, композитор создавал то, что уже было знакомо и раньше встречалось. Он сознательно применял готовые формулы для того, чтобы вызвать определенные ассоциации и облегчить восприятие того или иного произведения читателю, слушателю или зрителю.
Средневековый композитор пользовался готовыми мелодическими формулами, которые комбинировал, следуя определенным композиционным правилам. Мелодическая формула как структурная единица знаменного распева называлась попевкой. В древнерусском церковном пении и в народной песне такой же метод композиции некоторые исследователи склонны были считать специфической чертой национального музыкального мышления. Он не являлся достоянием только одной национальной культуры или группы родственных культур, так как по аналогичному принципу сочинялись византийские мелодии и средневековая западно-европейская монодия (григорианский хорал). Истоки такой композиции восходят к древним азиатским культурам. Искусство средневекового музыканта, вынужденного приспособить готовые мелодические формулы к содержанию и поэтической структуре текста, сопоставимо с трудом ремесленника, который работает, опираясь на имеющийся эталон (Веллес, 1961).
Установленные жёсткие правила, следование канонизированным образцам не исключали возможности проявления творческого начала средневекового художника. Но выражалось оно не в отрицании уже существующего (традиций), а в мастерстве детальной, тонкой нюансировки, в свободе применения типичных схем.
Подобное переосмысление существовало и в музыке. При наличии постоянных мелодических формул авторы порой заменяли одни интервалы на другие, саму мелодическую линию, ритмические акценты, выразительный склад напева, при этом основная структура сохранялась. Такие преобразования получили закрепление в практике и стали традицией. Эти новшества накапливались, способствовали образованию местных вариантов, школ, индивидуальных манер, имеющих свои отличительные особенности.
Изучая художественную культуру Средневековья, нельзя обойти вопрос об отношении народного и профессионального искусства. В Средние века письменное профессиональное искусство было связано с устной народной традицией намного сильнее, чем в новое время. Тем не менее существовало немало противоречий, вплоть до открытого антагонизма. Христианская церковь на Западе и на Востоке использовала все возможности, чтобы приблизить человека в Богу, а к народным песням, играм и пляскам относилась отрицательно, считая их греховными и мешающими человеку стать верующим и благочестивым.
Одной из причин такого отношения к народному искусству была его связь с язычеством, которое существовало среди населения в течение продолжительного времени (после принятия христианства). Песни, пляски, игра на музыкальных инструментах сравнивались тогда с «идолослужением». В одном из поучений Иоанна Златоуста пляшущая женщина сравнивалась с Иродиадой и наделялась прозвищем «супруги бесовой»; утверждалось, что не только она сама, но и те, кто смотрят на неё, неминуемо попадут в ад. В Средневековье бесов видели в облике скоморохов, «игрецов», которые искушали человека. В проповедях священники Средних веков отмечали стремление прихожан к развлечениям и прочили им страшные муки на том свете. Церковью не дозволялись любые развлечения, даже если они не были связаны с языческими обрядами, так как всё это отвлекало от молитвы и посещения храма.
Тем не менее народное искусство продолжало жить, развивалось, проникало в различные слои общества. Фольклор в его самых разнообразных проявлениях охватывал обширную сферу жизни людей, восполнял тот вакуум, который создавался отсутствием письменных форм светского музыкального творчества. Народная песня, искусство исполнителей на музыкальных инструментах обрели популярность не только в среде трудящихся низов, но и в высших слоях общества.
Церковная музыка защищала от искушений, а светская служила ареной для демонов. Монахам Киево-Печерского монастыря настоятельно рекомендовалось петь псалмы про себя не только во время молитвы, но и тогда, когда они были заняты каким-нибудь трудом.
Несмотря на антагонизм между письменным церковным искусством и устным народным творчеством, у них имелись общие черты, которые позволяли влиять одной культуре на другую; это влияние было взаимным. Обличая светские песни и пляски, церковь всё же многое заимствовала из народного творчества, которое служило источником средневековой культовой музыки (например, происхождения многоголосия). Роль народной музыки очень заметна в выработке основ мажоро-минорной системы, в характерном интонационном строе русского церковного пения, которое со временем отмежевалось от византийских образцов и приобрело свои национально-своеобразные мелодические формы. Но и на русскую народную песню оказали влияние религиозные христианские воззрения и стилистика церковного искусства.
Эти взаимовлияния тогда всё же не привели к стиранию границ между церковным и народным искусством и к ликвидации различий в их направленности. Фольклор и письменное искусство, хотя и сближались частично между собой, были разными системами художественного мышления, каждая из которых сохраняла свойственные ей признаки.
Черты устного творчества были характерны для церковного пения Древней Руси. Применявшаяся знаковая система являлась необходимой для фиксации его напевов (церковного пения), которые ранее были выучены на слух. Устная традиция преобладала и в византийской церковной практике на ранних её стадиях. Непоследовательность простановки певческих знаков в рукописях IХ-ХII веков свидетельствует о существовании ранней знаковой фазы, которая вводилась как напоминание для руководителя хора или для солиста (он пел по певческой книге). И хотя певцы знали весь репертуар наизусть, они всё же нуждались в руководстве при исполнении музыки. Это важно ещё в том случае, если новый текст был положен на мелодию старого гимна (Веллес, 1961).
Ранняя христианская Церковь для своего Богослужебного пения не использовала сначала особых знаков, но довольствовалась пением на память и слух, а впоследствии – по воздушным знакам, изображаемым в воздушном пространстве движениями руки и пальцев управляющего хором (доместика). Со времени Иоанна Дамаскина эти движения руки и пальцев сложились в особую систему, получившую название хейрономии. Тогда же было положено начало певческого нотописания, возникшего частью из графических элементов хейрономии, частью из псалмодических знаков распевного чтения Священного Писания. Так возникло в Церкви крюковое певческое письмо, и около IХ века впервые появились певческие крюковые книги. В Русской Православной Церкви крюковое нотописание первоначально заимствовано с Востока, а в ХV веке было значительно переработано русскими певцами.
Письменное профессиональное искусство в Средние века было в какой-то степени и коллективным. Композитор иногда изменял ритм и протяжённость напева в зависимости от различного количества слогов в тексте или разной расстановки акцентов; он не сочинял заново произведение, а комбинировал и варьировал уже готовые элементы, заимствуя из накопленного запаса постоянных устоявшихся формул. Подобный метод творчества указывал на преобладание всеобщего и типического над частным и индивидуальным, вплоть до растворения личного в коллективном.
Связь поэтического слова и напева в народной песне и в профессиональном церковно-певческом искусстве имела общие закономерности. Но она была не постоянной. Так, один и тот же напев могли соединять с разным текстом и наоборот. Определенные мелодические формулы (попевки) или типы мелодических оборотов закреплялись за жанрами, а не за конкретными произведениями. В пределах данного жанра они (попевки) переносились из одного сочинения в другое. Один и тот же напев соединяли с текстами, совершенно различными по сюжету и образному строю. Обобщенный характер образов допускал применение одних и тех же типовых оборотов для группы поэтических текстов. Одни и те же традиционные формулы использовались не буквально, а варьировались, что придавало произведению различную окраску, гибкость, разнообразие нюансов.
Традиции и импровизации очень зависели от жанра. Обрядовая песня консервативна по форме, и в ней меньше возможности для проявления импровизационного начала, чем в лирической песне. Очень близко к обрядовому фольклору было церковно-певческое искусство. Распевание текста «на подобен» позволяло создавать новый вариант мелодии. Распевщик следовал определенному принципу: напев мог изменяться в зависимости от количества слогов в тексте или от разной расстановки акцентов.
Для средневекового искусства очень характерна традиционность, коллективность, что его отличает от современного художественного творчества.
Мастера русского Средневековья, соблюдая установленные нормы и ограничения, смогли в своем творчестве достичь богатейшей красочности и глубины, а многие образцы того времени являются достижением национального и художественного гения.
1.2. Ранние формы русского церковного пения
Важным этапом в развитии всей русской национальной культуры стало проникновение на Русь христианства, принятие которого в конце Х века в Киевской Руси повлекло за собой развитие церковного пения, ставшего неотъемлемой частью Богослужения. В период объявления христианства государственной религией возникла единая церковная организация, началось строительство храмов, создавался клир, в общем и целом оформлялся культ.
Трудно понять русскую национальную культуру без хорового певческого искусства, возникновение которого связано с историей народа и государства. Пение – существенная составляющая часть христианского Богослужения, оно постоянно чередуется с чтением и молитвами. И чем торжественнее сама служба в церкви, тем заметнее преобладает в ней пение над чтением. Церковные песнопения вносят оживление и разнообразие, помогают сильнее действовать на души человека.
Святой апостол Павел приписывал храмовому пению силу и способность в духовном воспитании верующих. И верно, такое пение благотворно действует на все силы человеческого духа, помогает каждой из этих сил в лучшем, полнейшем усвоении даров Духа Святого.
Пение – сильнейший возбудитель воли к деятельности. В житиях святых есть примеры, когда святые мученики с пением святых песен шли на страдания свои. Эти подвижники совершали изумительные подвиги поста, молитвенного бдения.
В первых летописях, дошедших до нашего времени, где сообщалось о принятии Русью христианства, упоминались церковные певцы. После крещения Владимира Святославовича император Византии отправил ему «многи иереи, диаконы и демественники от славян» (Металлов, 1912). В Лаврентьевской летописи упоминается, что святой князь Владимир в Киеве построил церковь Святой Богородицы, в ней был и руководитель хора, который тогда назывался демественником. Князь Владимир привёз в столицу Киев первого митрополита Михаила, епископов, иереев и певцов. С царицей Анной (супругой князя) прибыл в Киев целый клир греческих певцов, называвшийся царицыным. Определённо что-то сказать о характере первого церковного пения невозможно.
В конце Х века стали создавать школы, где готовили грамотное духовенство. При монастырях существовала «низшая» школа, значительная часть её учащихся становилась служителями церкви. В таких учебных заведениях обязательными дисциплинами были чтение, письмо и пение, а «в школах, где обучались дети «нарочитой чади», кроме названных наук преподавались «философия, ритория и вся грамматикия» (История культуры Древней Руси, 1951).
В Киеве, Новгороде и других городах возводили монументальные и роскошные храмы, в которых обязательно должны были быть хоры с певцами, знающими свое дело, что соответствовало пышному интерьеру и торжественности проводимого в нем Богослужения. Во второй половине XI века в развитии церковного пения стала важна роль монастырей. Монастыри строили около больших городов, крупнейшим центром культуры и просвещения в Древней Руси был Киево-Печерский монастырь.
Сведения о раннем периоде русского церковно-певческого искусства очень скудны, а певческие книги XI века имеют лишь указания на глас и точки в тексте, которые отмечают границы строк и на которые подразделяется напев. Таких данных недостаточно для того, чтобы восстановить мелодический строй песнопений того времени, так как нотированные певческие рукописи возникли не ранее начала или даже середины XII века.
Греческая церковная музыка, появившаяся на Руси, не вытеснила самобытную русскую музыкальную культуру с давними и богатыми традициями. Взаимовлияние этих двух начал повлекло за собой зарождение и развитие на Руси своеобразной хоровой культуры. В ней соединились основы греческих церковных напевов и ритм религиозного текста, украшенный мелодиями национальной народной песни.
В Богослужебных певческих книгах над текстом проставлялись безлинейные знаки, получившие названия «знамёна», «столпы», «крюки» или «крюковые знамёна». Своё название знаменный распев получил от способа нотописания знамёнами, крюками или столпами. В середине ХVII века стало распространяться партесное (многоголосное) пение, пришедшее к нам с Запада. Унисонное пение отошло на второй план и сохранилось лишь в среде старообрядцев. Древние певческие традиции нашли место в современной церковной жизни, особый интерес представляет валаамское пение. Святитель Игнатий (Брянчанинов) отмечал его особую выразительность, сказав, что это «глубокое набожное чувство и необыкновенная энергия, которая потрясает душу». Этот напев он называл знаменным.
До середины ХVI века знаменный распев был одноголосным. С появлением во второй половине ХVII – начале ХVШ века новых видов церковного пения – строчного, партесного и новых жанров церковной музыки, таких как псалом, кант, одноголосие сменилось многоголосием и крюковое письмо заменилось нотной записью. Знаменное пение – главный вид церковного пения, основанного на одноголосном хоровом исполнении.
Из всех распевов Русской Церкви знаменный первоначальный и древнейший. Этот распев образовался из древнегреческого пения, появился на Руси в начальный период христианства. Он получил в славянских землях особенную систему записи и найден в нотных книгах XII века.
1.3. Истоки знаменного распева
Поскольку отсутствуют письменные источники, исследователи строят разного рода предположения о зарождении церковного пения в России, о его формах и мелодическом складе в начальный период после принятия Русью христианства. Д.В. Разумовский, первый исследователь памятников древнерусского певческого искусства, писал: «Относительно самого пения первенствующей Русской Церкви нельзя сделать никакого определённого заключения. Ни Константинополь, откуда присланы первые певцы Русской Церкви, ни личность самих певцов, славян по происхождению, не могут сообщить ничего о свойствах и характере первого церковно-русского пения. Несомненно только то, что Православная Русская Церковь не изобрела сама Богослужебного пения, но получила его вполне готовым по своему техническому устройству» (Разумовский, 1867-1869).
Противоположного мнения придерживался С.В. Смоленский, который доказывал, что сама система крюкового музыкального письма и церковные напевы, записанные при его помощи, есть образец народного творчества. Они возникли на Руси независимо от какого-либо воздействия извне. «…К ХI веку, – писал Смоленский, – то есть сейчас при крещении Руси, мы уже имели отлично выработанное в знамёнах вполне систематизированное русское певческое искусство, располагавшее весьма внушительным объёмом своих книг и мелодиями, столь твёрдыми и народными, что они сохранились живыми до наших дней» (Смоленский, 1901).
Известно, что христианская вера медленно и с трудом проникала в сознание народа и оставалась долгое время преимущественно религией феодальной верхушки.
Несмотря на несостоятельность концепции Смоленского о «самозарождении» знаменного распева на Руси, она находила немало сторонников даже в недавнее время.
Вопрос об отношении древнейших форм знаменного распева к византийскому церковному пению получил научное обоснование после экспедиции на Афон, которую организовало в 1906 году Общество любителей древней письменности. Участникам экспедиции дали возможность ознакомиться с обширным рукописным материалом. В связи с этим учёные пришли к конкретным и имеющим доказательства суждениям. А.В. Преображенский изучил и сравнил по возрасту древнейшие русские и греческие рукописи, свои выводы он изложил на заседании Общества. Позднее они были опубликованы в «Русской музыкальной газете» и сформулированы им в трёх позициях:
«Необходимо признать, во 1-х, что знаменная нотация древних славянских певчих книг есть нотация греческая, с совершенно незначительными изменениями, приспособленная для распевания славянского текста.
Во 2-х, что греческая нотация заимствована славянами для записи греческих же церковных напевов, а не каких-либо самостоятельных или оригинальных мелодий.
В 3-х, что греческие напевы, рассчитанные на греческие же тексты, не могли быть применены к славянским текстам без нарушения некоторых мелодических и ритмических свойств напевов, равно и правильности самого текста, но при этом совершенно не потерпели в славянском изложении существенных изменений» (Преображенский, 1909).
Эти и дополненные в иных трудах мысли учёного послужили основой для дальнейшего исследования древних славянских рукописей в их отношении к греческим образцам.
В.М. Металлов, в основном, соглашался с мнением Преображенского, но его интересовало, чистые ли греческие напевы перенесены на Русь или славянизированные.
Влияние Византии на культуру Древней Руси и роль заимствований от неё же в формировании русской литературы и искусства исторической науке достаточно известно и исследовано.
Изучать древнерусское искусство в полном отрыве от искусства Византии было бы неправомерно. Главная задача исследователя состоит не в самом факте отрицания или подтверждения этого влияния, а в его конкретных формах, пути проникновения на Русь и дальнейшем преобразовании заимствованных элементов в новом окружении, в котором они оказались.
Д.С. Лихачёв предложил заменить термин «влияние» на «трансплантация» (пересадка), что очень важно. В новых условиях и на новой почве культура развивалась самостоятельно и творчески. Такой процесс усвоения перенесённых из другой сферы новых музыкальных форм происходил в области церковного пения. Христианское певческое искусство Русь получила из Византии в уже сформировавшемся виде. К ХI веку были полностью опробованы не только стилистика и новые жанры, но и основной подбор песнопений. Это столетие было последним, завершающим этапом византийского гимнотворчества. Деятельность композиторов в дальнейший период заключалась, в основном, в варьировании традиционных напевов, а также они создавали мелодии к установленным (узаконенным) текстам, опираясь на имеющийся запас певческих формул.
В теме «вживания» византийских форм в русскую художественную культуру не всё до конца выяснено. Известна роль Болгарии, являвшейся посредницей в передаче из Византии восточным славянам основного фонда христианской литературы.
Христианская религия в Болгарии появилась на сто лет раньше, чем в Киевской Руси. Самые важные Богослужебные книги переведены с греческого языка на славянский в IХ – Х веках. Когда Русь приняла христианство, то стали использоваться готовые болгарские переводы. Историки утверждают, что болгарские Богослужебные книги получили распространение ещё до принятия Русью христианства.
Каков был характер этих книг, до сих пор не известно. Металлов указывал на то, что сохранились книги с текстами песнопений, но музыкальных знаков в них не было. Были лишь указания на глас, к которому относилось то или другое песнопение, и регулярная простановка точек, обозначавших границы мелодических строк, что свидетельствует о предназначении этих книг для пения. Такой тип ненотированных певческих книг оставался распространённым и позднее, когда знаменное письмо уже освоили. Из этого следует вывод, что в период развития на Руси церковного пения преобладала устная традиция (заучивание мелодий на память, по слуху). Существует предположение, что своя музыкальная письменность и первые её образцы появились почти через сто лет после принятия Русью христианства (Металлов, 1912).
Возникает вопрос, была ли славянская «рецензия» греческого невменного (знакового) письма создана стараниями русских мастеров церковного пения или они получили её в уже готовом виде от южных славян. Ведь болгарские певческие книги ХII – ХIII веков, точнее их фрагменты, не отличаются в музыкальном отношении совершенством. Это были первые опыты и поиски средств музыкальной фиксации напева, что относится, в частности, и к хорошо известному науке такому памятнику, как Болонская Псалтирь ХIII века. Болгарский ученый писал об отсутствии последовательности простановки музыкальных знаков в названной рукописи и несовпадении их со словесным текстом. До конца ХII века существовала устная традиция в болгарском церковном пении, а музыкальная письменность получила широкое распространение только в период Второго Болгарского Царства, когда оно освободилось от власти Византии в 1187 году.
Известно, что в середине ХV века невмы использовались для записи песнопений в Сербии. В Хиландарском монастыре на Афоне сохранены фрагменты (нотный вариант) славянского Ирмология и Стихираря, которые опубликовал Р. Якобсон, но фрагмент Ирмология (установил югославский учёный Б. Радойчич) – часть рукописи русского происхождения, а её другая часть хранится в Москве в ГБЛ. Как эта рукопись попала в Хиландарский монастырь – не ясно. Возможно, ее завезли туда русские монахи. Русский Ирмологий, который находился в Хиландарском монастыре, вполне мог оказать влияние на содержание сербских певческих книг.
Э. Кошмидером была выдвинута гипотеза о том, что знаменное письмо сложилось в Киевской Руси в конце ХI века и не имело прототипа у южно-славянских народов. Поэтому «в целом создаётся впечатление, что на территории восточных славян нотация не была скопирована с полностью нотированных рукописей южно-славянского происхождения, но постепенно, ощупью отыскивалась в старейших рукописях и была впервые внесена в готовые письменные тексты» (Кошмидер, 1961).
Если учёный прав, это значит, что русские книжники и специалисты в области церковного пения, проставляя музыкальные знаки в певческих книгах, находили основной источник у византийцев.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.




