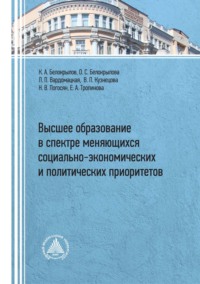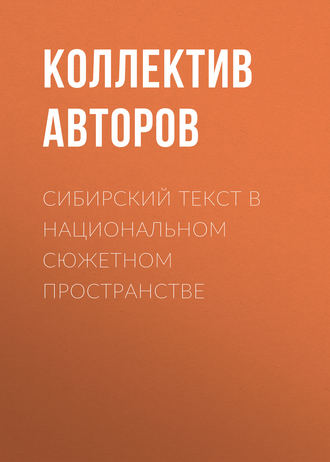
Полная версия
Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве

Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве Коллективная монография
От редактора
В современном русском литературоведении сложились два подхода к пониманию сибирского текста русской литературы. Первый – вслед за осуществленной В.Н. Топоровым и на сегодня уже классической реконструкцией Петербургского текста – продемонстрировал в 2002 г. В.И. Тюпа, охарактеризовавший комплекс сибирских мифологем в классических произведениях литературы XIX в. как трансформацию архетипов инициационной обрядности1. Другой ракурс проблемы – понимание сибирского текста как аутентичной локальной словесности, катализатором к формированию которой служит территориальная идентичность (в случае с Сибирью – областничество XIX – начала XX вв. и его рефлексы в советской словесности и культуре диаспоры)2. Обе точки зрения являются взаимодополняющими – в соответствии с логикой самого материала, который представляет собой, с одной стороны, огромный массив текстов «о Сибири» (начиная с пронизанных мифопоэтикой и восходящих еще к античным временам европейских известий о Северной Азии XV-XVI вв. и вплоть до многочисленных травелогов XIX-XX столетий, преимущественно посвященных проблемам каторги и широко понимаемой этнографии), а с другой – опыт становления сначала местной рукописной, а затем и литературной в собственном смысле традиций3. По мере того как Россия продвигалась за Урал, преображаясь из сравнительно небольшого восточно-европейского государства в громадную территориально интегрированную империю, обе эти установки встречались в пространстве литературного текста и начинали сложно взаимодействовать.
Увлеченное «локальными текстами» современное отечественное литературоведение редко прибегает к иерархизации образов тех территориальных миров, которые воссоздаются в культуре. Так, по умолчанию равнозначными признаются любые территориальные тексты, которые находятся за рамками московского и петербургского культурных локусов. Нередко родовым, объединяющим понятием для них служит понятие «провинциального текста». Однако когда тот или иной топографический ареал идентифицируется как провинциальный, тогда неизбежно активизируются два его альтернативных, но «неразрывно связанных друг с другом смысла – убогого никчемного захолустья и потерянного рая»4. В этой ситуации научное исследование (особенно проводимое местным специалистом) рискует выйти за рамки науки в эмоционально-политическую плоскость. Характерным примером болезненного переживания провинциальной «отдаленности» служит часто проникающий то в масс-медиа, то в публицистику и имеющий явную компенсаторную природу мотив «центральности» той или иной российской области и / или города. С этим мотивом нередко соседствуют разговоры не просто о местной самобытности, но самостоятельности и едва ли не исключительности5.
Сибирский текст, как показано в большинстве работ предлагаемого читателю издания, выходит за рамки провинциального мотивного субстрата русской культуры6, и если сразу вынести за скобки ненужные претензии на центральность (как ожидаемую альтернативу провинциальности), то уместнее всего будет проецировать сибирский текст на концепт периферии. Впрочем, захолустьем, по определению Л.О. Зайонц, считать Сибирь (как и любую местность), конечно, можно. Однако следует понимать, что особенностью эмоционально-оценочных высказываний является их сочетаемость принципиально с любым объектом и, как результат, выражение определенного отношения говорящего к объекту, но не характеристика его по существу. Будучи ключевым параметром семиосферы, периферийность естественным образом присуща Сибири7, которую Н.М. Карамзин, вполне безоценочно и точно фиксируя реалии, описывал как «неизмеримое пространство Северной Азии, огражденное Каменным Поясом, Ледовитым морем, Океаном Восточным, цепию гор Алтайских и Саянских…»8. Топографической изолированности соответствовала и историческая: пространство Северной Азии «укрывалось от любопытства древних Космографов», а когда давало о себе знать, то лишь как враждебная цивилизации земля. «…История не ведала Сибири до нашествия Гуннов, Турков, Моголов на Европу…»9. Если приводить примеры эмоционального отношения к этому положению вещей (будем реалистичны – как правило, негативного отношения), то оно будет представлять собой не столько тривиальные сетования на захолустность окраины, сколько едва ли не эсхатологическое переживание края света и конца времен (в персональном измерении – обрыва, перелома частной, моей жизни). «…Надобно помнить общую тему, что Сибирь несет печать отвержения», – подчеркнул в одном из своих писем первый сибирский историк П.А. Словцов10, а его высокопоставленный друг и единомышленник М.М. Сперанский воспринял свою губернаторскую миссию в Сибири 1819-1821 гг. не как продвижение на восток, а – в соответствии с воззрениями на преисподнюю – вниз. «Чем далее спускаюсь я на дно Сибири, тем более нахожу зла, и зла почти нетерпимого», – писал он своему товарищу А.А. Столыпину11. В этом смысле пушкинский образ «во глубине сибирских руд» имеет большую предысторию.
Помимо отмеченных, другими приметами периферийности сибирского ландшафта являются не знавшая крепостничества (в масштабах центральной России) экономика, иной климат, воспринимавшийся во всей гамме своих признаков – то как идеальный, то как невыносимый12, своеобразная этнография и религия местного населения, сразу поставившая русского колониста перед вопросом, как относиться к местным культовым практикам13. Отметим наконец хорошо известное переживание русским человеком, особенно в XVII-XVIII вв., своего сибирского опыта как опыта пребывания в чужой стране (классический пример здесь – Аввакум). Все это заставляло многих авторов подспудно, а подчас и открыто соотносить сибирскую окраину скорее с чужим, чем со своим, что, в свою очередь, едва ли свойственно оценкам провинции, рассматривавшейся все же как вариация своего, но с оттенком вторичности и подчиненности.
Литературное «изобретение»14, конструирование сибирского ландшафта в русской культуре представляло собой сложный процесс постоянного колебания базовой оценки наблюдателя, словно раздваивающегося между задачей дальнейшего отчуждения Сибири и противоположной установкой, которая заключалась в символическом освоении / присвоении, включении Сибири в контур национальной жизни. Так или иначе обе установки подразумевали наделение Зауралья определенными ролями в рамках функционального поля культуры, соединение Сибири с тем или иным заданием, которое она как социально-географическая и мифологическая реальность может выполнять по отношению к человеку. В настоящем издании предпринята попытка рассмотреть репертуар этих символических ролей самой отдаленной окраины Русского государства, ролей, формирующих сложную структуру сибирского текста в сюжетике русской литературы.
Стрела и шар: введение в метагеографию Зауралья
Есть горизонт у каждого предмета, и он не обязательно внутри него, а может быть снаружи. Не потому ли кажется луна намного ближе, скажем, чем Байкал, – ведь за Уралом все как будто рядом – поскольку он далек от нас, как миф?
Иван Жданов. Завоевание стихийМетагеография: предмет и методМетагеография – междисциплинарная область знания, находящаяся на стыке науки, философии и искусства (в широком смысле) и изучающая различные возможности, условия, способы и дискурсы географического мышления и воображения. Возможные синонимы понятия метагеографии – философия ландшафта (пейзажа), геофилософия, философия пространства (места), экзистенциальная география, геософия, в отдельных случаях – география воображения, имажинальная (образная) география, геопоэтика, поэтика пространства. Терминологический смысл метагеографии аналогичен аристотелевскому пониманию физики и метафизики.
Рационалистические и сциентистские подходы к этому понятию фиксируют предмет метагеографии на изучении общих (генерализированных) географических законов. Такие подходы первоначально развивались на базе общего землеведения и общей физической географии в первой половине XX в., хотя первоначальные фундаментальные положения, которые в современной интерпретации можно назвать метагеографическими, были высказаны уже в первой половине XIX в. немецким географом Карлом Риттером15. Существенная роль в становлении основ метагеографии принадлежит классической геополитике (конец XIX – начало XX вв.), в которой традиционная географическая карта стала осмысляться как предмет метафизических и геософских спекуляций16. Усиление интереса к метагеографии в рамках географической науки в 1950-1970-х гг. было вызвано внедрением математических методов, системного подхода и применением различных логико-математических моделей, призванных объяснять наиболее общие географические законы17. В дальнейшем, к концу XX – началу XXI вв., понятие метагеографии было подвергнуто критике с точки зрения традиционной сциентистской парадигмы, ориентированной на доминирование исследований в духе case-study, и практически вытеснено на дискурсивную периферию18. Вместе с тем неявные (латентные) метагеографические постановки проблем постоянно присутствуют в современных исследованиях ландшафтных образов, географического воображения, символических ландшафтов, соотношения ландшафтов и памяти19.
В рамках философии дискурсивные возможности развития понятия метагеографии были определены в первой половине XX века работами немецкого философа Мартина Хайдеггера – как в ранней феноменологической версии (книга «Бытие и время», 1927), так и в более поздних экзистенциалистских версиях (ряд эссе 1950-1960-х гг., в т.ч. «Строить обитать мыслить», «Поэтически обитает человек», «Искусство и пространство», «Вещь» и др.)20. Наряду с этим метагеография базируется и на различного рода феноменологических штудиях пространства и места – здесь к фундаментальным работам можно отнести труды Г. Башляра 1940-1950-х гг21. Развитие семиотики, постструктурализма и постмодернизма способствовало оживлению философского интереса к метагеографическим проблемам в конце 1960-х – 1980-х гг. (работы М. Фуко, Ж. Делеза и Ф. Гваттари, введение в философский дискурс понятий гетеротопии, геофилософии, детерриториализации и ретерриториализации)22. Наконец, интенсивные процессы глобализации вкупе с концептуальным «дрейфом» философии к изучению широких междисциплинарных областей знания в конце XX – начале XXI вв. обусловили толчок в развитии метафизических исследований земного пространства23.
В искусстве собственно метагеографические проблемы начали осмысляться в начале XX в. – в литературе (произведения Пруста, Джойса, Андрея Белого, Кафки, Хлебникова, живопись и теоретические манифесты футуристов, кубистов, супрематистов, архитектура Ф.Л. Райта). Это художественное осмысление земного пространства шло параллельно научному перевороту в физике (теория относительности, квантовая теория), развитию географии человека (антропогеографии). Искусство художественного и литературного авангарда (прежде всего, деятельность Кандинского, Малевича, Эль Лисицкого, Клее, Платонова, Леонидова, Введенского, Хармса, чуть позднее – Беккета) рассматривало и воображало пространство как, по сути, экзистенциальную онтологию человека. Вторая волна европейского художественного авангарда (1940-1960-е гг.) фактически воспроизводила те же художественные позиции, не внеся ничего радикально нового. В рамках этой традиции важно использование синтетических пространственных опытов китайского и японского искусства (живопись, графика, каллиграфия, поэзия – например, произведения А. Мишо).
К началу XXI в. метагеографические опыты и исследования развивались преимущественно в сфере литературы, философии, искусства; роль научных репрезентаций была незначительной. Для метагеографии в целом характерно смешение и сосуществование различных текстовых традиций: художественных, философских, научных; серьезное значение приобрел литературный жанр эссе, позволяющий наиболее свободно ставить и интерпретировать метагеографические проблемы24. Быстрое развитие технологий (компьютеры, видео, Интернет) способствует появлению новых метагеографических репрезентаций и интерпретаций (тематика виртуальных пространств, гипертекстов, лишь косвенно связанных с конкретными местами и территориями).
В содержательном плане метагеография занята проблематикой закономерностей и особенностей ментального дистанцирования по отношению к конкретным опытам восприятия и воображения земного пространства. Существенным элементом подобного дистанцирования является анализ экзистенциального опыта переживания различных ландшафтов и мест – как своего, так и чужого. С точки зрения аксиоматики метагеография предполагает существование ментальных схем, карт и образов «параллельных» пространств, сопутствующих социологически доминирующим в определенную эпоху образам реальности. Развитие и социологическое доминирование массовой культуры ведет также к появлению приземленных паранаучных версий метагеографии (близких подобным версиям сакральной географии), ориентированных на поиск и фиксацию различного рода «мест силы», «таинственных мест» и т.д.
В идеологическом контексте метагеография и конкретные метагеографические опыты могут оказывать влияние на развитие художественных течений, научных и философских направлений, социополитических и социокультурных представлений интеллектуальных сообществ. В концептуальном плане метагеография содержательно взаимодействует с гуманитарной и культурной географией, геопоэтикой, географией искусства, геофилософией, сакральной географией, архитектурой, мифогеографией, геокультурологией, различными художественными и литературными практиками.
Ключевой элемент метагеографии РоссииМетагеография Зауралья – ключевой элемент современной метагеографии России. Если понимать под метагеографией России систему идеологических образно-географических комплексов или ансамблей, ориентированных на закрепление центрального образа-контекста Северной Евразии25, то метагеография Зауралья представляет собой динамическую образно-географическую структуру, призванную совершить радикальное перемещение, «перетащить» и трансформировать старые образно-географические комплексы, направленные на воспроизведение идеологических образов Византии, Третьего Рима и «второй Европы». Становление метагеографии Зауралья в рамках метагеографии России начинается примерно с XI-XII вв. (походы новгородцев за Камень), однако решающими событиями – в то же время еще не определяющими геоидеологическую ситуацию до конца – оказываются присоединение Сибири к России (конец XVI-XVII вв.) и интенсивное хозяйственное и культурное освоение Урала в XVIII-XIX вв.
Основную метагеографическую проблему России можно сформулировать так: идеологическая инерция старых образно-географических комплексов «удерживает» страну к западу от Урала и тормозит процессы ментального дистанцирования по отношению к Европе. Соответственно, главную метагеографическую задачу России, которая решается уже приблизительно на протяжении 400 лет, можно обозначить как поиск привлекательных, эффективных идеологических образов Зауралья, способных ментально «развернуть» страну к востоку, в сторону Сибири, Дальнего Востока, Центральной Азии и Китая. Естественно, что накопленные Россией в результате цивилизационного общения с Европой страты никуда не исчезают и остаются фундаментом ее дальнейшего цивилизационного и метагеографического развития – речь в данном случае идет о смене геоидеологического вектора и переносе метагеографического «центра тяжести» за Урал.
Вместе с тем обозначенная выше метагеографическая задача может порождать немало вопросов; например, почему следует говорить о метагеографии Зауралья, а не о метагеографии Сибири; почему географические образы Зауралья, взятые в их идеологическом контексте, выглядят предпочтительнее, нежели соответствующие образы Сибири? Прежде чем приступать к изложению стратегических основ метагеографии Зауралья, нужно обосновать сам выбор образа, учитывая, что географические образы Сибири складывались в историческо-цивилизационном измерении достаточно долгое время и обладают хорошо развернутыми содержательными характеристиками.
Географические образы Сибири: специфика становления и развитияГеографические образы Сибири в их обобщенной целостности – результат длительной ретрансляции идеальных европейских ландшафтных образов на первичное эмоциональное восприятие зауральских пейзажей. Понятно, что подобные ментальные процессы происходили постоянно и очень интенсивно со времен Великих географических открытий, и в этом смысле Сибирь ничем принципиальным не отличается от Америки, Африки или же Южной и Юго-Восточной Азии, ставших объектами европейской колониальной экспансии26. Другое дело, что Россия, выйдя на уральские рубежи и перешагнув за Камень, воспроизводила такие образы с известной ментальной отсрочкой, с некоторым историо- и геософским «запозданием» – сначала ориентируясь на классические образы колонизации с сакрально-мифологическим библейско-христианским подтекстом, а затем уже на профанизированные «светские» образы сниженной европейской колонизации, обустраивавшей «островки уюта и комфорта» среди «моря» диких или слабо освоенных пространств. Так, первый пространный русский текст о Зауралье конца XV в. – «Сказание о человецех незнаемых» – является очевидным примером первого дискурса, далее хорошо развернутого в летописных и церковных образцах27; великолепным лапидарным образцом второго дискурса можно назвать «Из Сибири» Антона Чехова. Как бы то ни было, мощные природные образы холода, снега, однообразных равнин, тайги, степей и болот сочетались с образами безлюдья и языческой дикости, коим сопутствовали также образы мифологических и реальных богатств.
Ментально-идеологическая ретрансляция в процессах создания и воспроизводства географических образов Сибири, некая дополнительная пространственная трансакция, связанная с промежуточным цивилизационным положением самой России (и не забудем, что в XVI-XVII вв. это было еще Московское царство, которому довлели по преимуществу византийские ментальные и идеологические образцы сакрального порядка – причем южно-европейского и ближневосточного происхождения28), вела к значительной интровертации этих образов: образы Сибири могли восприниматься и воспринимались (а следовательно, и регулярно воспроизводились) как некие «внутренние» азиатские образы, необходимые европейской цивилизации для ее ментального равновесия в восточном направлении – Россия была здесь геоидеологическим «учеником» и одновременно «подрядчиком», взявшимся доставлять (хотя бы и частично, не полностью) подобную ментальную продукцию «ко двору». Было бы неверно расценивать такую цивилизационную и метагеографическую ситуацию как ущербную: огромные пространства Зауралья, почти внезапно попавшие в сферу политического влияния Московского царства, требовали соответствующих, достаточно фундированных географических образов, и они были довольно успешно «импортированы» и адаптированы русской культурой, «увидевшей» их для себя вполне органичными; «Сибирская Тартария» – это не только европейский, но и российский образ, хорошо «работавший» в течение XVI-XVIII вв.
Метагеография Сибири как «коллективное бессознательное»Посредник всегда рискует – рано или поздно – оказаться наедине с амбивалентным образом, лишенным внешней поддержки и подпитки и становящимся неуправляемым, непредсказуемым. Так и случилось с географическими образами Сибири, в известной мере бывшими глубоким «бессознательным» Европы, Запада вообще на его восточном евразийском фронтире, а заодно и автоматическим «бессознательным» России29. В XIX в. Сибирь, получив своего внешнего геоидеологического двойника – американский фронтир (что осознавалось к середине этого столетия)30, – оказалась нужной Европе уже в качестве ближней периферийно-ресурсной окраины – что стало ясно и российской политической и культурной элите. Между тем, подобный образ рассматривается в когнитивном отношении, как правило, в качестве экстравертного, открытого в сторону дальнейших возможных концептуальных расширений.
Возникновение и развитие сибирского областничества стало «лакмусовой бумажкой» для выявления становившихся очевидными содержательных противоречий в образно-географическом комплексе Сибири, складывавшемся в пределах российской цивилизационной целостности31. Дискурс «Сибирь как колония» и декларировавшаяся как его следствие культурная и, возможно, политическая и экономическая автономия Сибири были когнитивной реакцией на ментальное раздвоение ключевых элементов географического образа-прототипа Сибири, воспринимавшегося «здесь и сейчас»: интровертивные инерционные элементы «говорили» о некоторой закрытости, глубинности, отдаленности, существовании для себя и в то же время для каких-то «зеркальных» надобностей цивилизационных отображений;
экстравертивные ускоряющие элементы, по сути, вновь копировались с помощью лекал западного воображения32. Однако цивилизационная ситуация в рамках диалога Европа – Россия, Запад – Россия к середине XIX в. была иной, нежели ранее, в XVI-XVIII вв. С одной стороны, Запад не нуждался более в образно-географических «посредниках» – эпоха зрелого модерна диктовала стратегии прямой как военно-политической и экономической, так и цивилизационной экспансии. С другой стороны, именно к этой эпохе относится окончательное становление, оформление российской цивилизации, которая уже могла, хотя и с оглядкой на Европу, развивать основы своего собственного идеологического дискурса, в том числе и метагеографического.
Метагеографическая проблема, сформулированная по аналогии в терминах психологии, заключалась в следующем: экстравертивные образы колонизации и фронтира оказывались недостаточными для «раскачки», радикальной трансформации интровертивных образов Сибири, активно складывавшихся до того на протяжении, по крайней мере, трехсот-четырехсот лет. При этом Россия, осознав себя самостоятельной цивилизацией, была уже фактически лишена европейской идеологической поддержки – механическое копирование западного по происхождению образа фронтира не давало теперь столь же очевидных когнитивно-образных «дивидендов», как ретрансляция европейских образов Сибири в эпоху более раннего ментального осмысления этого региона. Московия исчезла, при этом «исчезла» и Сибирь как достаточно эффективный образно-географический комплекс в рамках российской цивилизации. Интеллектуальные усилия сибирских областников, а также и восприятие их усилий в России различными общественными слоями показали когнитивную недостаточность подобного дискурса; в то же время, благодаря трудам сибирских областников стали понятными сами масштаб и характер проблемы.
На наш взгляд, в течение XX в. серьезных изменений в оконтуренной метагеографической проблеме не произошло. Постоянные попытки воспроизводства ресурсно-периферийных фронтирных образов Сибири наряду с достаточно регулярными идеологическими призывами как политического, так и художественного и философского характера, призванными указать на стратегически важное значение Сибири в будущем российской цивилизации (включая и идеологические советские трактовки) оказывались противоречащими как друг другу, так и более глубоким интровертным слоям образа-архетипа33. Сибирь действительно стала по-настоящему «бессознательным» России, но подобная ментальная ситуация может быть сравнительно благоприятной лишь на небольших исторических отрезках – «купаться» в бессознательном слишком долго невозможно, это вредно для «здоровья» самой цивилизации34. По сути дела, до настоящего времени образ Сибири может вполне устойчиво воображаться в качестве коллективного глубинного района Евразии, символизирующего слабо тронутую человеком, пугающе суровую и в то же время поразительную своим размахом природу и таящего в себе неизведанные богатства, – как для Запада в широком смысле, так и для стран, модернизирующихся в условиях западного цивилизационного давления (Россия, Китай, Индия)35.
«Двойная Сибирь»Попытаемся описать сложившуюся ситуацию более подробно. По существу, можно говорить об образе-кентавре, двойном образе, «двойной Сибири» с точки зрения метагеографии. Налицо две очевидные ментальные дистанции, с помощью которых этот двойной образ существует и функционирует, однако подобная амбивалентность затрудняет развитие, переориентацию метагеографии России в целом, тормозит формирование новых, необходимых России как самостоятельной жизнеспособной цивилизации целенаправленных метагеографических структур. Для лучшего понимания такой когнитивной ситуации стоит обратиться, по аналогии, к теории шизофрении, разрабатывавшейся известным американским антропологом и психологом Грегори Бейтсоном36. Центральное понятие его теории – это «двойное послание» (double bind). Смысл введения и использования понятия «двойное послание» – в попытке фиксации и анализа мощной психологической «вилки», расхождения, ощущаемого шизофреником между собственными мыслями и желаниями, с одной стороны, и практическим отсутствием способов их адекватной репрезентации во внешнем мире, в контакте с окружающими людьми. Фактически шизофреник работает с двумя не сочетающимися ментальными дистанциями – огромной по отношению к собственным мыслям и образам и ничтожной, почти исчезающей по отношению к внешнему миру. Постоянное несоответствие, диссонанс двух ментальных дистанций ведут постепенно к распаду индивидуальной психической целостности. По аналогии можно представить образ-кентавр Сибири («Сибирь-Китоврас») как своего рода метагеографическое «двойное послание», которое со временем может привести к разложению, распаду России как метагеографического целого, метагеографической системы. Сибирь уже может восприниматься как в известном смысле «шизофренический образ» в рамках российской цивилизации. Использование подобной психологической аналогии позволяет более остро почувствовать и более четко осмыслить суть данной проблемы.