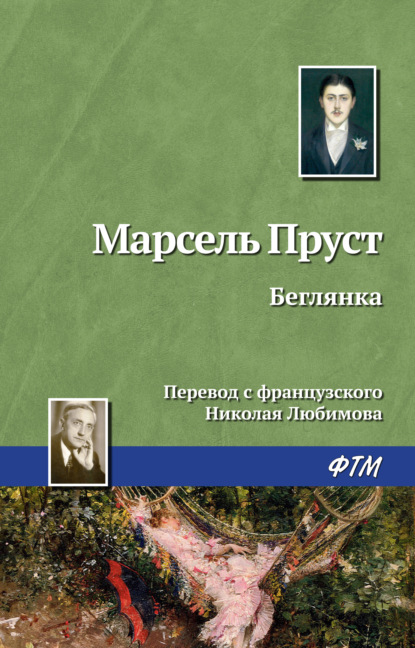Полная версия
Под сенью девушек в цвету
И все же эти комнаты именно потому, что прежде Сван напрягал всю силу своей воли, чтобы туда проникнуть, по всей вероятности, сохраняли для него что-то от былой своей прелести, о чем я мог судить по себе, так как для меня они не окончательно утратили своей таинственности. Войдя в дом Сванов, я не совсем изгнал из него то особое очарование, каким я так долго его окутывал; я лишь заставил его отступить, и оно покорилось чужому человеку, парии, каким я был теперь и которому мадемуазель Сван любезно пододвигала кресло, чудное, враждебное и возмущенное; но память моя все еще различает это очарование вокруг меня. Не потому ли, что в дни, когда г-н и г-жа Сван приглашали меня позавтракать, а потом погулять вместе с ними и с Жильбертой, я, поджидая их в одиночестве, оттискивал взглядом на ковре, на креслах, на консолях, на ширмах, на картинах запечатлевшуюся во мне мысль, что сейчас сюда придет г-жа Сван, или ее муж, или Жильберта? Не потому ли, что эти предметы жили с тех пор в моей памяти, рядом со Сванами, и в конце концов что-то взяли от них? Не потому ли, что, как это мне было известно, Сваны находились в непосредственном окружении всех этих предметов, я превратил их в нечто вроде эмблем частной жизни Сванов, в нечто вроде эмблем обычаев Сванов – обычаев, от которых я так долго был далек, что они все еще казались мне чужими, даже после того как мне разрешили к ним приобщиться? Всякий раз, когда я вспоминаю гостиную, в которой Свану (критиковавшему ее без намерения пойти наперекор вкусам жены) не нравилась ее пестрота, ибо она была задумана отчасти как оранжерея, отчасти как ателье, вроде той комнаты, где он прежде встречался с Одеттой, но потом Одетта начала заменять в этой мешанине китайские вещи, ибо ей стало казаться, что в них есть что-то «невсамделишное», что они «из другой оперы», множеством креслиц, обитых старинным шелком Людовика XVI (это помимо шедевров, перевезенных Сваном из особняка на Орлеанской набережной), – моя память, напротив, наделяет разностильную эту гостиную слитностью, единством, неповторимым очарованием, какого совершенно лишены даже ансамбли, которые передало нам в целости и сохранности прошлое, равно как и самоновейшие, с печатью личного вкуса, ибо это только мы, благодаря нашей вере, что вещи живут своей, независимой жизнью, способны то, что у нас перед глазами, наделить душой, которую они потом хранят и развивают внутри нас. Все мои представления о часах, непохожих на те, что существуют для других, о часах, проводившихся Сванами в их комнатах, которые для обычного их времяпрепровождения являлись тем же, чем тело является для души, и которые должны были отражать особый уклад их жизни, – все мои представления, всегда одинаково волнующие, непередаваемые в слове, проникли, вросли в расстановку мебели, в толщину ковра, в расположение окон, в обхождение прислуги. Когда, в солнечный день, мы переходили после завтрака пить кофе в широкий, залитый солнцем залив гостиной и г-жа Сван спрашивала, сколько мне положить кусков сахару, то не только шелковый пуф, который она мне пододвигала, вместе с горестным очарованием, какое я прежде ощущал под розовым боярышником, потом возле куп лавровых деревьев – ощущал в самом имени Жильберты, – не только шелковый пуф источал неприязнь, которую прежде питали ко мне ее родители и которую эта скамеечка, казалось, хорошо понимала и разделяла, так что я считал незаслуженной для себя честью и даже отчасти низостью положить ноги на беззащитную ее обивку; тайный духовный союз связывал пуф с дневным светом, в этом месте иным, чем во всем заливе, где играли его золотистые волны, из которых волшебными островами выплывали голубоватые диваны и мглистые ковры; даже в картине Рубенса, висевшей над камином, не было такого же рода и почти одинаковой силы очарования, что и в ботинках на шнурках, какие носил Сван, и в предмете моих мечтаний – в его пальто с пелериной, которое Одетта считала недостаточно элегантным, по каковой причине, – когда я оказывал Сванам честь, отправляясь с ними на прогулку, – она требовала от мужа купить себе новое. Одетта тоже уходила переодеваться, хотя для меня ни одно «выходное» ее платье не могло идти в сравнение с чудным крепдешиновым или шелковым капотом, то бледно-розовым, то вишневым, то розовым «Тьеполо», то белым, то сиреневым, то зеленым, то красным, то сплошь желтым или с разводами, в котором г-жа Сван завтракала и который она сейчас собиралась снять. Когда я говорил, что она и так могла бы выйти, она смеялась – то ли подшучивая над моим невежеством, то ли от удовольствия, какое ей доставил мой комплимент. В оправдание себе она говорила, что у нее потому так много пеньюаров, что только в них ей хорошо, и уходила от нас, чтобы надеть один из тех ослепительных туалетов, которые обращают на себя всеобщее внимание и среди которых мне, однако, иногда предлагалось выбрать, какой мне больше нравится.
У Зоологического сада мы выходили из экипажа, и до чего же я бывал горд, когда шагал рядом с г-жой Сван! Она шла небрежной походкой, манто у нее развевалось, я бросал на нее восхищенные взгляды, а она кокетливо отвечала на них долгой улыбкой. Когда мы встречали кого-нибудь из знакомых Жильберты, мальчика или девочку, они кланялись нам издали, и теперь уже они смотрели на меня с завистью, как на друга Жильберты, знакомого и с ее родными, причастного к той ее жизни, что протекала не на Елисейских Полях.
В аллеях Булонского леса или Зоологического сада с нами часто здоровались знатные дамы – приятельницы Свана, и когда Сван не замечал их, ему указывала на них жена: «Шарль! Вы что, не видите? Это госпожа Монморанси». И Сван с приветливой улыбкой, к которой его приучили долгие годы близкого с ними знакомства, снимал шляпу широким жестом, с присущей ему одному элегантностью. Иные останавливались, им было приятно сказать г-же Сван любезность, которая ни к чему их не обязывала и которой она наверняка не воспользовалась бы, ибо Сван приучил ее держаться в тени. Впрочем, это не помешало г-же Сван приобрести светский лоск, и, как бы дама ни была элегантна и величественна, она ей не уступала; остановившись на минутку, она знакомила нас, Жильберту и меня, с приятельницей мужа так просто, в ее приветливости было столько непринужденности и спокойствия, что трудно было сказать, кто из них знатная дама: жена Свана или прогуливавшаяся аристократка. В тот день, когда мы ходили смотреть сингалезцев, на возвратном пути нам встретилась пожилая, но все еще красивая дама в темном манто, в шляпке, подвязанной на шее ленточками, сопровождаемая двумя другими дамами, как бы составлявшими ее свиту. «Вот с кем вам будет интересно познакомиться!» – сказал мне Сван. Пожилая дама была уже в трех шагах от нас и обворожительно-ласково улыбнулась. Сван снял шляпу, г-жа Сван присела в реверансе и хотела было поцеловать руку даме, точно сошедшей с портрета Винтергальтера, но та подняла ее и поцеловала. «Да наденьте же шляпу!» – сказала она Свану грубым голосом и, на правах близкой знакомой, слегка ворчливо. «Позвольте вас представить ее высочеству», – обратилась ко мне г-жа Сван. Затем Сван отвел меня в сторону, а в это время г-жа Сван говорила с ее высочеством о погоде и о новых животных в Зоологическом саду. «Вы знаете, – сказал Сван, – принцесса Матильда – приятельница Флобера, Сент-Бёва, Дюма. Вы только подумайте: она – племянница Наполеона Первого! Ее руки просили Наполеон Третий и русский император. Разве это не интересно? Поговорите с ней. Одно плохо: простоишь тут из-за нее целый час. Я встретил Тэна, – обратился Сван к даме, – он мне сказал, что принцесса поссорилась с ним». – «Он форменная свинья, – резким тоном сказала дама, произнеся последнее слово так, как если бы это было имя какого-нибудь епископа времен Жанны д’Арк. – После его статьи про императора я отказала ему от дома». Я смотрел на нее с тем изумлением, какое вызывает переписка герцогини Орлеанской, урожденной принцессы Палатинской. В самом деле, принцесса Матильда выражала свой французский патриотизм с присущей старой Германии простосердечной грубостью, которую она, вне всякого сомнения, унаследовала от матери, уроженки Вюртемберга. Когда же она улыбалась, ее грубоватую, почти мужскую откровенность смягчала итальянская томность. И все это облегал туалет, до такой степени выдержанный во вкусе Второй империи, что, хотя принцесса, разумеется, носила его из любви к старинным модам, казалось, будто она старательно избегает исторических ошибок и стремится оправдать ожидания тех, что ждут от нее воскрешения старины. Я шепотом попросил Свана узнать у нее, была ли она знакома с Мюссе. «Очень мало, мсье, – ответила она с таким видом, будто вопрос Свана рассердил ее, и, уж конечно, она назвала его «мсье» в насмешку: ведь они же были близкие друзья. – Один раз он у меня обедал. Я позвала его к семи часам. В половине восьмого мы сели за стол без него. В восемь он явился, поздоровался со мной, уселся, не проронил ни единого звука, а после обеда ушел, так что я его голоса не слыхала. Он был мертвецки пьян. После этого у меня отпала охота продолжать знакомство». Мы со Сваном стояли в сторонке. «Надеюсь, наша беседа не затянется, – сказал он, – а то у меня пятки болят. Зачем моя жена поддерживает разговор? Не понимаю! Потом сама же будет жаловаться на усталость, а я просто не выношу этих стояний». Г-жа Сван как раз в это время пересказывала принцессе то, что сама узнала от г-жи Бонтан: правительство поняло наконец, что поступило по-хамски, и решило послать принцессе приглашение быть послезавтра на трибуне во время посещения царем Николаем Дома инвалидов. Но принцесса, несмотря на то, как она себя держала, несмотря на то, что окружала она себя главным образом художниками и литераторами, в сущности оставалась племянницей Наполеона, которая напоминала о себе всякий раз, когда принцессе нужно было действовать. «Да, как раз сегодня утром я получила приглашение и отослала его министру – наверно, он уже его получил. Я ответила, что не нуждаюсь в приглашении, чтобы ходить в Дом инвалидов. Если правительство желает, чтобы я присутствовала, то я буду, но не на трибуне, а в нашей усыпальнице, у гробницы императора. Для этого пригласительные билеты мне не нужны. У меня есть ключи. Я туда вхожу, когда хочу. Правительство должно только поставить меня в известность, угодно ему мое присутствие или нет. Но если я буду присутствовать, то только там, и больше нигде». В это время нам – г-же Сван и мне – поклонился, не останавливаясь, молодой человек: я не знал, что она знакома с Блоком. На мой вопрос г-жа Сван ответила, что его представила ей г-жа Бонтан, что служит он в министерстве, – для меня это было новостью. Впрочем, она, по-видимому, встречалась с ним не часто, а может быть, ей не хотелось называть не очень «шикарную», с ее точки зрения, фамилию Блок, – как бы то ни было, она переименовала его в Мореля. Я стал уверять ее, что она ошибается, что его фамилия – Блок. Принцесса поправила волочившийся за ней трен, которым любовалась г-жа Сван. «Русский император как раз и прислал мне эти меха, – сказала принцесса, – и я хочу ему показать, что они пошли мне на манто». – «Я слышала, что принц Людовик зачислен в русскую армию, – могу себе представить, ваше высочество, как вам тяжело, что он не с вами», – молвила г-жа Сван, не замечавшая знаков нетерпения, какие ей делал муж. «Он сам этого хотел! Я же ему говорила: «Это не нужно: в твоей семье уже был один военный», – сказала принцесса, с грубым простодушием намекая на Наполеона I. Свану не стоялось на месте: «Ваше высочество! Я позволю себе воспользоваться вашей привилегией и попрошу вас разрешения откланяться: дело в том, что моя жена очень плохо себя чувствует, и ей вредно так долго стоять». Г-жа Сван опять сделала реверанс, а принцесса одарила нас божественной улыбкой, словно извлеченной ею из прошлого, из очарования своей молодости, из компьенских вечеров, и после того, как эта улыбка, ласковая, непритворная, пробежала по ее лицу, только что выражавшему неудовольствие, она удалилась вместе с двумя фрейлинами, которые, подобно переводчицам, боннам или сиделкам, в виде знаков препинания расставляли в нашем разговоре незначащие фразы и ненужные объяснения. «Вам не мешало бы расписаться у нее на этой неделе, – сказала мне г-жа Сван. – У всех этих royalties, как их называют англичане, углы визитных карточек не загибают, но если вы распишетесь, она вас к себе пригласит».
Кое-когда в эти последние зимние дни мы заходили перед прогулкой на какую-нибудь из небольших выставок, которые тогда открывались и где Свану, известному коллекционеру, с особой почтительностью кланялись продавцы картин, устраивавшие эти выставки у себя. И в это еще холодное время года прежние мои мечты о поездке на юг и в Венецию оживали при виде зал, где уже наступившая весна и жаркое солнце бросали лиловатые отблески на розовые отроги Альп и придавали Canale grande темную прозрачность изумруда. В плохую погоду мы шли в концерт или в театр, а потом заходили куда-нибудь выпить чаю. Когда г-же Сван нужно было что-то сказать мне так, чтобы не было слышно за соседними столиками и чтобы не слыхали официанты, она говорила со мной по-английски, как будто только мы двое и знали этот язык. Между тем на нем умели изъясняться все, кроме меня, и я вынужден был признаваться в этом г-же Сван для того, чтобы она перестала делать насчет тех, кто пил чай, или тех, кто его разносил, не слишком лестные, насколько я мог догадаться, замечания, которые оставались непонятными мне, но из которых ни единого слова не пропадало для тех, в кого она метила.
Однажды в связи с утренним спектаклем Жильберта привела меня в крайнее изумление. Это было как раз в тот день, о котором она мне говорила еще раньше и на который приходилась годовщина смерти ее дедушки. Мы – она, ее гувернантка и я – собирались послушать сцены из оперы, и Жильберта ради этого принарядилась, сохраняя, однако, равнодушный вид, какой у нее обычно появлялся, когда мы предпринимали что-нибудь такое, что, по ее словам, было совершенно безразлично ей, но могло доставить удовольствие мне и заслужить одобрение родителей. Перед завтраком г-жа Сван отвела нас с ней в сторону и сказала, что отцу будет неприятно, если в такой день мы пойдем в концерт. Мне это было вполне понятно. У Жильберты был все тот же безучастный вид, она только побледнела от злости и не сказала ни слова. Когда вышел Сван, Одетта отошла с ним в дальний угол гостиной и что-то прошептала ему на ухо. Он позвал Жильберту и увел в соседнюю комнату. Оттуда послышались громкие голоса. Я не мог допустить, чтобы Жильберта, послушная, ласковая, благоразумная, не исполнила просьбу отца в такой день и из-за таких пустяков. Наконец Сван, выходя из той комнаты, сказал ей:
– Ты знаешь мое мнение. Поступай как тебе угодно.
Весь завтрак Жильберта просидела с искаженным от злобы лицом, а затем мы ушли к ней в комнату. И вдруг, без малейших колебаний, как будто их у нее и не было, Жильберта воскликнула:
– Два часа! Вы же знаете, что начало концерта в половине третьего.
И стала торопить гувернантку.
– Но ведь ваш отец будет недоволен? – спросил я.
– Нисколько.
– Он боялся, как бы это не показалось неприличным в связи с годовщиной.
– Какое мне дело до того, что подумают другие? По-моему, это смешно – считаться с другими, когда речь идет о чувствах. Чувствуют для себя, а не для общества. Если барышня в кои-то веки идет в концерт и для нее это праздник, я бы не стала лишать ее развлечения ради того, чтобы угодить обществу.
Она хотела надеть шляпку.
– Нет, Жильберта, – сказал я и взял ее за руку, – не ради того, чтобы угодить обществу, а чтобы сделать приятное вашему отцу.
– Пожалуйста, без нравоучений! – грубым тоном сказала она и вырвала у меня руку.
Мало того что Сваны брали меня в Зоологический сад и в концерт, – они оказали еще более ценную для меня милость: они не выключили меня из своей дружбы с Берготом, а ведь эта дружба и придавала им в моих глазах очарование еще в ту пору, когда я, не будучи знаком с Жильбертой, полагал, что благодаря ее близости с божественным старцем она могла бы сделаться самым желанным моим другом, если бы презрение, какое я, видимо, ей внушаю, не отняло у меня надежды, что когда-нибудь она предложит мне побывать вместе с ним в любимых его городах. И вот как-то раз г-жа Сван пригласила меня на званый обед. Я не знал, кто еще будет у них в гостях. В передней я был сразу озадачен одним обстоятельством и оробел. Г-жа Сван по возможности старалась угнаться за всеми модами, которые в течение одного сезона казались красивыми, но не прививались и проходили (так, много лет назад у нее был свой hansome cab[9], потом на приглашениях к обеду у нее бывало напечатано: to meet[10] с каким-нибудь более или менее важным лицом). По большей части эти люди не содержали в себе ничего таинственного и посвящения в тайну не требовали. Так, например (ничтожное новшество тех лет, вывезенное из Англии!), Одетта заказала для мужа визитные карточки, на которых перед «Шарль Сван» стояло Мr[11]. После первого моего визита к ней г-жа Сван загнула у меня угол одной из таких «картонок», как она их называла. У меня никто еще не оставлял визитных карточек; я был горд, взволнован и в знак благодарности купил на все свои деньги великолепную корзину камелий и послал г-же Сван. Я умолял отца занести ей карточку, но предварительно как можно скорее заказать новые, с Мr перед именем. Отец не исполнил ни одной из этих просьб; несколько дней я был в полном отчаянии, а потом подумал, что, пожалуй, он прав. Мода на Мr хотя и глупая, но, по крайней мере, понятная. Этого нельзя сказать о другой, с которой я столкнулся в день званого обеда, так и не уразумев ее смысла. Когда я проходил из передней в гостиную, метрдотель подал мне тонкий длинный конверт, на котором была написана моя фамилия. Я изумленно поблагодарил и посмотрел на конверт. Я не знал, что с ним делать, подобно иностранцу, который, попав на обед к китайцам, не знает, что делать с маленькими предметами, какие у них раздают гостям. Я убедился, что конверт запечатан, побоялся показаться нескромным, если распечатаю тут же, и, понимающе взглянув на метрдотеля, положил конверт в карман. За несколько дней перед этим я получил от г-жи Сван письменное приглашение пообедать у них «в тесном кругу». Оказалось, что она позвала шестнадцать гостей, в частности – чего уж я никак не мог подозревать – Бергота. «Назвав» меня гостям, г-жа Сван вслед за моим именем и таким же тоном (словно только нас двоих и пригласили на обед и как будто мы оба были одинаково рады познакомиться) произнесла имя седого сладкогласного Певца. При имени Бергот я хотя и вздрогнул, как будто в меня выстрелили из револьвера, но инстинктивно, чтобы не выдавать своего волнения, поклонился; мне ответил поклоном на поклон – так сквозь пороховой дым, из которого вылетает голубь, виден оставшийся невредимым фокусник в сюртуке – молодой человек, мешковатый, низенький, плотный, близорукий, с красным носом, похожим на раковину улитки, и с черной бородкой. Мне стало смертельно грустно, ибо разлетелся прахом не только образ старца, который исполнен томления, но и красота могучего творчества: я мог вместить эту красоту как в некий храм, воздвигнутый мной для нее, в слабый священный организм, но ей не было места в очутившемся передо мной, сплошь состоявшем из кровеносных сосудов, костей и нервных узлов приземистом человечке с курносым носом и черной бородкой. Весь Бергот, которого я творил медленно, осторожно, по капле, как создаются сталактиты, из прозрачной красоты его книг, – этот Бергот мгновенно утратил всякое значение, поскольку надо было ему оставить раковиноподобный нос и надо было что-то делать с черной бородкой; так перечеркивается решение задачи, если мы не вчитались в условия и не заглянули в ответ, какая сумма должна у нас получиться в итоге. Нос и бородка представляли собой неустранимые слагаемые, тем более тягостные, что, заставляя меня наново создать личность Бергота, они словно содержали в себе, производили, беспрестанно выделяли особый вид ума, деятельного и самодовольного, но от этого ума лучше было держаться подальше, ибо он ничего общего не имел с мудростью, разлитой в книгах Бергота, которые я так хорошо знал и в которых жил миротворный, божественный разум. Отправляясь от книг, я так бы и не дошел до раковинообразного носа; но, отправляясь от носа, которому, казалось, все нипочем: он сам себе господин и знать ничего не желает, я двигался в направлении, противоположном творчеству Бергота, и натыкался на склад ума какого-нибудь вечно спешащего инженера, который считает нужным, когда с ним здороваются, сказать: «Спасибо, а вы как?» – не дожидаясь вопроса, как поживает он, и отвечает на заявление о том, что с ним рады познакомиться, с отрывистостью, кажущейся ему самому учтивой, остроумной и вместе с тем современной, потому что она дает возможность не тратить драгоценного времени на пустословие: «Взаимно». Конечно, имена – рисовальщики-фантазеры: они делают столь мало похожие наброски людей и стран, что на нас часто находит нечто вроде столбняка, когда вместо мира воображаемого нам предстает мир видимый. (А впрочем, и этот мир тоже не настоящий: ведь по части уловления сходства наши чувства ненамного сильнее нашего воображения, – вот почему рисунки с действительности, в общем приблизительные, во всяком случае, так же далеки от мира видимого, как далек он сам от мира воображаемого.) Что же касается Бергота, то его имя, этот предварительный набросок, связывало меня гораздо меньше, чем его творчество, которое я знал, и вот теперь я должен был прикрепить к нему, точно к воздушному шару, господина с бородкой, не зная, хватит ли сил у шара поднять его. И все же это, наверное, он написал мои любимые книги, потому что, когда г-жа Сван сочла своим долгом сказать ему о моем увлечении одной из них, он нисколько не был удивлен тем, что она говорит об этом именно ему, а не кому-нибудь еще из гостей, и не усмотрел в этом недоразумения; но, распялив сюртук, который он надел в честь гостей, своим телом, предвкушавшим обед, сосредоточив внимание на других важных вещах, он, словно при напоминании о давнем эпизоде из его далекого прошлого, как будто речь шла о костюме, в котором герцог де Гиз появился в таком-то году на костюмированном балу, улыбнулся при мысли о своих книгах, и они мгновенно пали в моих глазах (увлекая за собой в своем крушении всю ценность Прекрасного, ценность вселенной, ценность жизни), – пали так низко, что уже казались мне всего лишь дешевой забавой господина с бородкой. Я говорил себе, что, наверное, он имеет к ним отношение, но что если б он жил на острове, вокруг которого водятся жемчужницы, он с успехом занимался бы торговлей жемчугом. Творчество уже не казалось мне неотъемлемым его свойством. И я спросил себя: в самом ли деле оригинальность служит доказательством того, что великие писатели – боги, правящие каждый одному ему подвластным миром, нет ли тут доли обмана, не являются ли черты, отличающие одно произведение от другого, скорее результатом усилий, чем выражением существенного, коренного различия между людьми?
Наконец все пошли к столу. Подле моей тарелки я обнаружил гвоздику, стебель которой был обернут в серебряную бумагу. Гвоздика смутила меня не меньше, чем в передней – конверт, о котором я совершенно забыл. Эта мода, хотя тоже для меня новая, оказалась более понятной, как только я увидел, что все мужчины взяли по гвоздике, лежавшей около их приборов, и засунули ее себе в петлицу. Я последовал их примеру с непринужденностью вольнодумца, который, находясь в церкви и не зная литургии, встает, когда встают все, а на колени опускается чуть-чуть позже. Еще одна мода, тоже мне неизвестная, но более земная, еще меньше пришлась мне по нраву. Около моей тарелки стояла другая, маленькая, с каким-то черным веществом, всего-навсего – с икрой, о которой я тогда еще не имел понятия. Я не знал, как с ней обращаться, и потому решил не есть ее.
Бергот сидел недалеко от меня, мне было слышно каждое его слово. И тут я понял маркиза де Норпуа. В самом деле, голос у Бергота был странный; ничто так не влияет на голосовые данные, как направление мыслей: звучность дифтонгов, сила губных зависят от него. И дикция тоже. Дикция Бергота показалась мне совершенно непохожей на его слог, и даже то, о чем он говорил, было непохоже на то, что составляло содержание его книг. Но голос исходит из уст маски, его одного недостаточно, чтобы под маской мы сразу разглядели лицо, которое открылось нам в стиле. И лишь временами в Берготовой манере выражаться, которая могла показаться неестественной и неприятной не только маркизу де Норпуа, я с трудом обнаруживал точное соответствие тем местам в его книгах, где язык становился таким поэтичным и музыкальным. Тогда в том, что он говорил, ему виделась пластическая красота, не зависящая от смысла фраз, но ведь человеческое слово соотносится с душой, а не выражает ее, как выражает стиль, – вот почему казалось, что то, о чем говорит Бергот, иные слова проборматывая, иные, если он стремился к тому, чтобы под их оболочкой означился некий единый образ, растягивая без интервалов, произнося как один звук, с утомительной монотонностью, почти не имеет смысла. Таким образом, вычурность, высокопарность и монотонность являлись особыми художественными приемами его устной речи, являлись, когда он разговаривал, следствием той же самой способности, благодаря которой он создавал в своих книгах вереницу музыкальных образов. Я сразу заметил – и это мне было особенно больно, – что то, о чем он в такие минуты говорил, именно потому, что это исходило непосредственно от Бергота, не производило впечатления, что это Бергот. Это был наплыв точных мыслей не в «стиле Бергота», а в стиле, усвоенном многими газетчиками; и это несоответствие, – в разговоре проступавшее смутно, как проступает изображение сквозь закопченное стекло, – вероятно, было другой стороной явления, заключавшегося в том, что любая страница Бергота не имела ничего общего с тем, что мог бы написать кто угодно из пошлых его подражателей, хотя и в газетах и в книгах они, не скупясь, украшали свою прозу образами и мыслями «под Бергота». Различие в стиле объяснялось тем, что «берготовское» – это прежде всего нечто драгоценное и подлинное, таящееся внутри чего-либо и добытое оттуда гением великого писателя, и вот это добывание и составляло цель сладкогласного Певца, а вовсе не желание писать как Бергот. Откровенно говоря, воля его тут не участвовала, – он действовал так, а не иначе, потому что он был Берготом, и с этой точки зрения каждая из красот его творения представляла собой частицу самого Бергота, которая скрывалась в чем-либо и которую он извлек. Но хотя в силу этого каждая красота напоминала другие красоты и легко узнавалась, все же она была единственной, как и открытие, благодаря которому она появилась на свет; она была новой, следовательно, не похожей на то, что именовалось «стилем Бергота», представлявшим собой неопределенный синтез всех Берготов, которых он уже нашел и выразил и которые не давали бездарностям ни малейшей возможности предугадать, что же еще он откроет. Это свойство всех великих писателей: красота их фраз нечаянна, как красота женщины, которую ты еще не знаешь; красота есть творчество, ибо они наделяют ею предмет внешнего мира – предмет, о котором – а вовсе не о себе – они думают и который они еще не изобразили. Современный мемуарист, умеренно подражающий Сен-Симону, в лучшем случае может написать начало портрета Вилара: «Это был смуглый мужчина довольно высокого роста… с лицом живым, открытым, особенным…» – но никакой детерминизм не поможет ему найти конец: «…и, по правде сказать, глуповатым». Истинное разнообразие – это вот такое изобилие правдивых и неожиданных подробностей, это осыпанная голубым цветом ветка, вопреки ожиданиям вырывающаяся из ряда по-весеннему разубранных деревьев, которыми, казалось, уже насытился взгляд, тогда как чисто внешнее подражание разнообразию (это относится ко всем особенностям стиля) есть лишь пустота и однообразие, иначе говоря – полная противоположность разнообразию, и только тех, кто не понял, что же такое разнообразие настоящего мастера, может ввести в заблуждение мнимое разнообразие подражателей, только им оно может напомнить мастера.