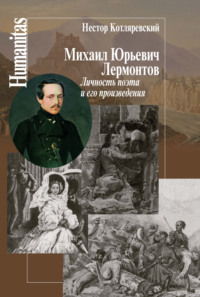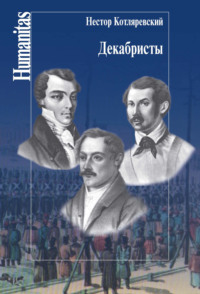Полная версия
Николай Васильевич Гоголь. 1829–1842. Очерк из истории русской повести и драмы
Наш автор едва ли мог ожидать материальных выгод от продажи этой идиллии, но, может быть, он думал, что ее успех облегчит ему вообще дальнейшую его литературную работу. Он выпустил идиллию в свет, однако анонимно. На обложке значилось, что она сочинена В. Аловым, а в предисловии говорилось от лица каких-то мнимых издателей, что автор ее – восемнадцатилетний юноша, что сама идиллия представляет из себя лишь разрозненные отрывки, что главный характер главного героя не дорисован, но что все-таки издатели гордятся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта. Как видим, это не совсем скромное предисловие отзывалось несколько рекламой. Но она не спасла идиллии.
«Ганц» был принят критикой враждебно. Сначала «Московский телеграф», а затем «Северная пчела» расправились с ним жестоко – так, по крайней мере, казалось автору, который впал в отчаяние и сам предал казни своего первенца: он отобрал из книжных лавок и сжег почти все экземпляры. Суд был несколько поспешный, тем более что критика, осудив этот юношеский опыт, все-таки признала, что в авторе заметно воображение и способность писать хорошие стихи. Но самолюбие Гоголя границ и тогда уже не имело, и этой суровой расправой со своей книгой он спасал себя от неприятных намеков и напоминаний в будущем. Действительно, так как идиллия была написана и напечатана в большом секрете от всех, даже близких друзей, и так как с книжного рынка она исчезла, то уязвленный автор мог без опасений забыть о ней – что он и сделал.
Но эта неудача, довольно обычная в жизни начинающих писателей, произвела в первую минуту на Гоголя самое тягостное впечатление и очень своеобразно отразилась на его жизни.
Наш писатель вдруг, совсем неожиданно, решился покинуть Россию. Это было одно из тех мгновенных решений, одна из тех выходок, на какие часто бывают способны нервные натуры. Смятение духа в Гоголе было сильное, и оно ясно выразилось в любопытном письме, которое он написал матери, извещая ее о своем внезапном отъезде за границу. В письме рядом с явной ложью были и искренние строки, очень ценные.
«Я чувствую налегшую на меня справедливым наказанием тяжкую десницу Всемогущего! – писал Гоголь. – Безумный! Я хотел было противиться этим вечно неумолкаемым желаниям души, которые один Бог вдвинул в меня, претворив меня в жажду, ненасытимую бездейственной рассеянностью света. Он указал мне путь в землю чуждую, чтобы я там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я сам по нескольким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассевать благо и работать на пользу мира. И я осмелился откинуть эти Божественные помыслы и пресмыкаться в столице здешней между сими служащими, издерживающими жизнь так бесплодно. Пресмыкаться другое дело там, где каждая минута жизни не утрачивается даром, где каждая минута – богатый запас опытов и знаний; но изжить там век, где не представляется совершенно впереди ничего, где все лета, проводимые в ничтожных занятиях, будут тяжким упреком звучать душе, – это убийственно!»
«Я решился служить здесь во что бы ни стало; но Богу не было угодно. Везде совершенно я встречал одни неудачи и, что всего страннее, там, где их вовсе нельзя было ожидать».
Гоголь рассказывал в этом письме дальше, что с ним случилось великое несчастье: он влюбился до безумия; все в мире стало для него чуждо, адская тоска со всевозможными муками закипала в его душе; он в порыве бешенства кипел упиться одним только взглядом и потому сознал необходимость бежать от самого себя.
Вся эта пламенная исповедь была, однако, чистой выдумкой; после тщательной проверки всего биографического материала оказывается, что никакой такой дамы не было, которая так неожиданно погнала бы Гоголя из Петербурга. Он просто подыскивал правдоподобный мотив, который мог бы в глазах матери объяснить его странное поспешное бегство из России.
«Не огорчайтесь, добрая, несравненная маменька! – продолжал он в том же письме. – Этот перелом для меня необходим. Это училище непременно образует меня: я имею дурной характер, испорченный и избалованный нрав (в этом признаюсь я от чистого сердца); лень и безжизненное для меня здесь пребывание непременно упрочили бы мне их навек. Нет, мне нужно переделать себя, переродиться, оживиться новой жизнью, расцвесть силою души в вечном труде и деятельности, и если я не могу быть счастлив (нет, я никогда не буду счастлив для себя: это божественное существо вырвало покой из груди моей и удалилось от меня) – по крайней мере, всю жизнь посвящу для счастия и блага себе подобных»[14].
Все эти восторженные обещания для нас не новость, мы встречали их еще в письмах лицеиста и должны признать их и в данном случае не за рисовку, а лишь за неумелое выражение искреннего порыва восторженной души, все еще не утратившей веры в возможность работать на «благо» и «счастие» ближнего.
Врожденная сентиментальность и восторженность, не убитая петербургской прозой, а лишь обманутая и раздразненная, она-то и заставила нашего мечтателя бежать в чужие края, искать за границей России желанного совпадения мечты и действительности; бежать без оглядки на последние деньги, унося с собой все-таки надежду совершить нечто «полезное». Это неудержимое влечение вдаль, которое Гоголь подметил в себе самом еще тогда, когда вручил своему Ганцу Кюхельгартену страннический посох, эта надежда найти за пределами России разгадку тех вопросов, на которые его наводила жизнь, остались навсегда характерными чертами его психической организации. Он в трудные минуты всегда будет помышлять о бегстве.
Такой попыткой бежать от призраков, обступивших его душу, и была его первая поездка за границу. Приблизительно в этом же смысле истолковывал эту поездку и сам автор, когда много лет спустя писал в своей «Авторской исповеди»: «Я никогда не имел влечения или страсти к чужим краям, я не имел также того безотчетного любопытства, которым бывает снедаем юноша, жадный впечатлений. Но, странное дело, даже в детстве, даже во время школьного ученья, даже в то время, когда я помышлял только об одной службе, а не о писательстве, мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование и что именно для службы моей отчизне я должен буду воспитаться где-то вдали от нее. Я не знал, ни как это будет, ни почему это нужно; я даже не задумывался об этом, но видел самого себя так живо в какой-то чужой земле тоскующим по своей отчизне; картина эта так часто меня преследовала, что я чувствовал от нее грусть. Как бы то ни было, но это противувольное мне самому влечение было так сильно, что не прошло пяти месяцев по прибытии моем в Петербург, как я сел уже на корабль, не будучи в силах противиться чувству, мне самому непонятному. Проект и цель моего путешествия были очень неясны. Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорее, чтобы натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее»[15].
Всех этих мыслей о России у Гоголя в 1829 году, конечно, не было; они сложились и приняли такой настойчивый характер позднее, но надежда на то, что вдали ждет что-то, что обещает и прояснение мысли, и успокоение взволнованного чувства, эта надежда могла в душе Гоголя зародиться и в очень ранние годы.
Гоголь пробыл за границей всего лишь три месяца и поспешно вернулся обратно. Как можно судить по некоторым весьма немногочисленным письмам, состояние его духа за этот срок времени было очень смутное. Его охватило знакомое нам непонятное волнение, которое выражалось теперь в сетованиях на Бога, зачем Он, создав такое единственное или, по крайней мере, редкое в мире сердце, как его, создав такую душу, пламенеющую жаркой любовью ко всему высокому и прекрасному, облек ее в такую грубую оболочку? Гоголь, как будто угадывая, что о нем будет говорить потомство, спрашивал Бога, зачем он допустил в его душе такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения?
Но смена впечатлений все-таки свое дело сделала. Новая обстановка и новые люди заинтересовали Гоголя, и он в письмах своих к матери очень подробно и спокойно рассказывал о том, что ему пришлось видеть нового в Любеке и Гамбурге, двух городах, дальше которых он и не поехал. Впрочем, мечта и в данном случае значительно опередила действительность. Он ожидал от чужих стран большего. Он думал, что любопытство его будет разгораться постепенно. «Ничего не бывало. Я въехал (в Любек) так, как бы в давно знакомую деревню, которую привык видеть часто. Никакого особенного волнения не испытал я». Но в этом отсутствии волнения, быть может, и заключался самый осязательный и благотворный результат путешествия. Гоголь сам это чувствовал, когда писал матери, что теперь он в силах занять в Петербурге предлагаемую должность, что новые занятия дадут силу его душе быть равнодушнее и невнимательнее к мирским горечам. Наш странник, по-видимому, настолько успокоился, что был даже в состоянии довольно трезво обсудить свой собственный поступок. «Вот вам мое признание, – писал он матери по поводу своей первой поездки, – одни только гордые помыслы юности, проистекавшие, однако ж, из чистого источника, из одного только пламенного желания быть полезным, не будучи умеряемы благоразумием, завлекли меня слишком далеко»[16]. Тот же трезвый тон слышится и через месяц, когда Гоголь уже решил поскорей вернуться восвояси. «В скором времени я надеюсь определиться на службу, – писал он матери. – Тогда с обновленными силами примусь за труд и посвящу ему всю жизнь свою. Может быть, Богу будет угодно даровать мне возможность загладить со временем мой безрассудный поступок»[17].
Он и загладил его очень скоро, возвратясь в Петербург и поступив в первых месяцах 1830 года на службу в департамент уделов.
Этот год и два за нем следующих – эпоха знаменательная в жизни Гоголя: это годы создания его «Вечеров на хуторе», с которых началась его литературная слава, и вместе с тем первые годы сознательной выработки в себе художника под непосредственным влиянием Жуковского и Пушкина, с которыми Гоголь в это время познакомился и очень быстро сошелся.
За исключением этих знакомств, круг которых постепенно расширялся, во внешней жизни Гоголя никаких особых перемен не произошло. Он служил на маленьком месте, жалованье получал весьма скромное, порой нуждался и на эту нужду жаловался. Свои финансовые недочеты пополнял частью заказной литературной работой, отчасти уроками и гувернерством. Во всяком случае, серая и прозаическая сторона жизни была для него ощутима не меньше, чем прежде, и, быть может, она давала себя чувствовать еще сильнее теперь, когда в обществе Жуковского и Пушкина разгорался в Гоголе энтузиазм художника и мир художественной мечты приобретал для него особую прелесть.
Одним из способов смягчить тяготу прозаической жизни была и работа над малороссийскими повестями и сказками, из которых потом составились «Вечера на хуторе». Эти повести, с одной стороны, должны были принести материальную пользу, с другой – дать писателю возможность позабыться в мечтах.
Писались эти рассказы довольно долго – целых три года, с 1829 по 1831 год – и автор, созидая их, на первых порах менее всего думал об их литературной ценности: он не угадывал их силы и значения и говорил о них совсем не так, как художник говорит о своем любимом творении.
«Теперь, почтеннейшая маменька, теперь вас прошу сделать для меня величайшее из одолжений, – пишет он матери в 1829 году, – Вы много знаете обычаи и нравы малороссиян наших и потому вы не откажетесь сообщать мне их в нашей переписке. Это мне очень, очень нужно… Я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапог, с поименованием, как это все называлось у самых закоренелых, самых древних, самых наименее переменившихся малороссиян… Еще обстоятельное описание свадьбы, не упуская ни малейших подробностей… Еще несколько слов о колядках, об Иване Купале, о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее, с их названиями и делами. Множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов и проч. Все это будет для меня чрезвычайно занимательно… Еще прошу вас выслать мне две папенькины малороссийские комедии: „Овца-собака“ и „Романа с Пароскою“. Здесь так занимает всех все малороссийское, что я постараюсь попробовать, нельзя ли одну из них поставить на здешний театр. За это, по крайней мере, достался бы мне хотя небольшой сбор; а по моему мнению, ничего не должно пренебрегать, на все нужно обращать внимание. Если в одном неудача, можно прибегнуть к другому, в другом – к третьему и так далее»[18].
И Гоголь неоднократно повторяет такие просьбы в своих письмах. Его «отдохновение», под которым он подразумевал свою писательскую работу, должно ему вскорости принести существенную пользу[19]. Он просит мать собирать ему сведения об играх (карточных), о хороводных песнях, а главное, рассказываемые простолюдинами поверья, в которых участвуют духи и нечистые. Гоголь так занят этим собиранием материала, что он не забывает о нем даже во время пребывания своего за границей; накануне отъезда за границу он извещает мать, что в тиши уединения он «готовит запас», который не хочет выпустить в свет, пока порядочно не обработает. У него мелькает даже мысль издать весь этот «запас» на иностранном языке. Не успел он вернуться из-за границы, как опять просит собирать для него всякие древние монеты и редкости, старопечатные книги, другие «антики»; он хочет прислужиться этим одному вельможе, от которого зависит улучшение его участи. Ему очень хотелось бы иметь старые записки, веденные предками какой-нибудь фамилии, стародавние рукописи про времена гетманщины… «Это составляет мой хлеб», – пишет он матери.
Размер и содержание труда или «запаса», над которым Гоголь работал, недостаточно ясно определяются всеми этими указаниями. Легко может быть, что он имел в виду написать обширное этнографическое и историческое исследование о Малороссии: на это указывает, например, его желание издать свой труд на иностранном языке, который едва ли был пригоден для того, чтобы на нем писать повести. Мы знаем также, что мысль о широком плане исторического труда и позднее очень долго занимала Гоголя. Во всяком случае, можно предположить, что чисто художественная обработка собранного им материала была не единственная, которую он имел в виду, когда говорил о своих литературных планах.
Первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки» вышла в свет в середине 1831 года, а через год была издана вторая. Литературная репутация Гоголя была сразу твердо установлена; его талант был признан и оценен по достоинству и самым авторитетным литературным трибуналом, и кругом самой простой читающей публики.
Ученические годы Гоголя окончились.
* * *В психической жизни художника за эти годы, как мы видели, много туманного и труднообъяснимого. Удивительное чередование веселости и глубокой меланхолии с перевесом последней; необычайно живо работающая фантазия и рядом с ней ум очень зоркий; романтическое тяготение к неизведанному и неиспытанному, большая склонность к размышлению и к анализу своих собственных ощущений и мыслей, самолюбие, сильно развитое и очень близко подходящее к самомнению; уверенность в своих силах, пока еще не испробованных; смутное представление о призвании к чему-то великому, но пока неизвестному; взгляд на этот грядущий подвиг, как на нечто весьма для людей полезное и спасительное, а потому и сознание своего права строго судить людей; наконец, великий дар художественного творчества – вот те мысли, ощущения, настроения и силы, которые владеют Гоголем одновременно.
Со всеми этими психическими факторами его жизни мы будем встречаться и позже, и они будут проявляться в своеобразном, иногда весьма странном виде. Но теперь, когда Гоголь стал автором «Вечеров на хуторе», мы должны на время оборвать рассказ о его жизни, чтобы перейти к историко-литературной оценке его первого художественного произведения. Обзор главнейших литературных явлений конца 20-х и начала 30-х годов облегчит нам эту оценку.
III
Критическая мысль 20-х и 30-х годов, недовольная старыми литературными традициями. – Требование народного и самобытного творчества. – Мнения, высказанные по этому вопросу Кюхельбекером, Бестужевым, Сомовым, князем Вяземским, Веневитиновым, Киреевским, Полевым и Надеждиным.Годы, когда «Вечера на хуторе» создались и увидели свет, были в истории нашего словесного творчества годами переходными: старые литературные традиции падали, подорванные и обесцененные, а «новое», которое должно было заступить их место, еще недостаточно окрепло и утвердилось. В критике шел нескончаемый и придирчивый спор об этом «новом и старом», о заимствованном и народном, спор о стариках, которым пора перестать поклоняться, и о современниках, которые обещают много, но пока еще так мало сделали.
В истории литературы, как и в иных областях жизни, существуют, действительно, свои переходные критические эпохи. Долго царствовавшая традиция – традиция и содержания, и формы – начинает уступать под напором новизны, и эта новизна, еще не систематизированная, не объясненная критически, но сильная сознанием своей житейской правды, начинает требовать для себя признания и почета, который, конечно, ей приходится брать с боя. Проводники этого «нового», в чем бы оно ни сказывалось, в идеях ли, в чувствах, в их ли художественном выражении, или в ином каком-либо способе их проведения в жизнь, – бывают всегда слишком прямолинейны и увлечены, чтобы быть справедливыми; им всегда кажется, что новое должно начинать собой новую эру, тогда как на самом деле оно только видоизменяет старую, им кажется, что оно есть нечто само по себе существующее, а вовсе не обусловленное тем, с чем оно так задорно воюет. Смерть традиций – таков общий смысл всех революционных переходных эпох, и забвение, что покойник был некогда живым человеком и в жизни свое дело сделал, – одна из характерных черт в психологии всех, кто торжествующему новому пролагает дорогу. Жаль только, что смерть старого не сразу обозначает торжество нового, а всего чаще разрешается в состояние двойственное, неопределенное, обильное всякого рода несправедливостями. Такой период неопределенности и неустойчивости во вкусах, настроениях и суждениях, такой период не всегда справедливых нападок на старое переживала наша словесность в конце 20-х и в начале 30-х годов, когда к старому в искусстве читатели стали охладевать, новое предчувствовали, но никак еще не могли договориться и условиться, в чем именно должны заключаться его характерные признаки.
Что, однако, должны мы понимать под этим словом «старое», когда говорим о литературных течениях того времени?
Обыкновенно под этим словом разумеют традицию старого классицизма, некогда столь могущественную у нас и, бесспорно, отражавшую недавнюю правду своего времени – времени внешнего лоска, эксплуатации чужих мыслей, насильно привитых чувств и готовых, напрокат взятых, форм и оборотов речи. Но что осталось от этих классических традиций к 30-м годам? Мы этого покойника давно снесли в могилу и даже забыли дорогу к ней. Достаточно перелистать журналы того времени, чтобы увидать, как редко мы тревожили тогда прах старых писателей XVIII века. Если кого из них мы тогда вспоминали, то разве тех, которые – как, например, Фонвизин или Державин – сумели отстоять свою самостоятельность вопреки господствующему литературному шаблону.
К писателям современным, придерживавшимся старых литературных форм и не переступившим за черту этого, совсем истрепанного, мнимоклассического миросозерцания, относились мы тогда также очень равнодушно. Кто, в самом деле, принимал тогда близко к сердцу писания и творения Василия Пушкина, Владимира Панаева, Михаила Дмитриева и других? Для более рьяных критиков эти писатели служили удобной мишенью, стреляя в которую трудно было промахнуться, для менее задорных они просто не существовали. Во всяком случае, старый классицизм как литературная традиция и форма был в 30-х годах стариной совсем отпетой. Он никого не стеснял своим присутствием, и не с ним должна была сводить счеты та новизна, которая уже давала себя чувствовать.
Начинал умирать и другой классицизм, более молодой годами и более живой по темпераменту – классицизм, который в начале 20-х годов пользовался большим почетом у молодого поколения. Это был классицизм не чистой пробы, так как в нем была большая примесь совсем модного сентиментализма, а иногда и либерализма; но он все-таки сохранял классическую внешность и старался подделаться под тон Анакреонта, Тибулла, Горация и Овидия или – когда был более серьезен – под тон Тацита, Ювенала и других сатириков; некогда подогретый симпатиями всей пушкинской плеяды, он имел широкий круг поклонников; к 30-м годам он растерял их всех и влачил жалкое существование на страницах каких-нибудь второстепенных альманахов. Свое дело он сделал: не так давно дал ряд красивых образов и готовых мотивов для прославления кипучей молодости и связанного с ней свободомыслия, теперь и он вырождался в настоящий реестр шаблонных фраз и слов, которые пошли гулять по рукам разных бездарных переделывателей чужих песен.
Если, таким образом, подновленное античное в разных его видах совсем отходило в прошлое, то можно было думать, что те литературные направления, которые более всего способствовали гибели этого классицизма, а именно – сентиментализм и романтизм, – сохранят свою власть над нами. Действительно, эти западные направления, пущенные у нас в оборот Карамзиным, Жуковским и отчасти Пушкиным и его друзьями, имели в 20-х годах на своей стороне симпатии почти всей читающей публики. Не было писателя, который не заплатил бы своей дани Оссиану, Скотту, Муру, Байрону, Шиллеру, Гёте, Шатобриану – вообще всем западным авторитетам, который не пожелал бы так или иначе пересадить их красоты на русскую почву или на их лад переделать русские сюжеты.
Попытки такого пересаждения сентиментализма и романтизма оказали нашей литературе и обществу немалую услугу: они пустили в оборот много новых для нас чувств и настроений, не говоря уже о том, что они много способствовали утончению нашего эстетического вкуса. Они служили также лучшими проводниками западных идей и вообще ускорили наше духовное общение с культурным миром. Все говорило в пользу того, что влияние этих двух литературных направлений, и сентиментализма, и романтизма, будет весьма продолжительно, что мы нескоро исчерпаем их содержание и нескоро пресытимся ими, но, несмотря на то, что мы, действительно, не исчерпали их содержания, а лишь поверхностно усвоили их, наша критика тем не менее стала очень скоро этими настроениями тяготиться и готова была и их отчислить в разряд «старого», которое должно уступить место новому. В 30-х годах к сентиментализму критика совсем охладела, Карамзин с его школой отошли для нее в прошлое, Жуковского она не переставала уважать, но увлекалась им сдержанно (да и сам он стал писать мало), на немецкий бурный романтизм и на байронизм, недавно столь головокружительный, стала смотреть косо, и если что еще сохраняло тогда для нее свое обаяние, так это были общемировые памятники литературы, как, например, поэмы Гомера, драмы Шекспира, поэма Мильтона, романы Гёте и его «Фауст», наконец, исторические романы Вальтера Скотта, т. е. продолжало нравиться то, что стояло вне всяких литературных школ и тенденций…
Наша критическая мысль опередила, таким образом, в эти годы значительно нашу художественную словесность, которая, за весьма редкими исключениями, по-прежнему продолжала следовать традициям сентиментальным и романтическим. У критики была одна мысль, одно желание, которое она высказывала очень определенно и резко, – это было желание иметь национальную, самобытную литературу, черпающую свое содержание и свою форму из русской народной жизни. Желание было вполне законное, указывающее на сознательное отношение критической мысли к недочетам текущей словесности; но вместе с тем это было желание трудноисполнимое, так как национальное и самобытное в нашей литературе в те годы еще совсем не окрепло, и мы переживали тогда именно переходный период смешения иноземного с русским, период борьбы подражания с самобытным, период отрицания этого подражания без возможности заменить его сразу полетом вполне оригинальной фантазии. Как и следовало ожидать, критика была невоздержанна и несправедлива в своих нападках на недавних кумиров, была непоследовательна в их осуждении и, наконец, была не совсем ясна в своих требованиях «нового», которое она определяла одним словом – «народность», пытаясь, но почти всегда безуспешно, выяснить, в чем именно должен заключаться смысл этого таинственного слова.
Как бы то ни было, но в начале 30-х годов, когда Гоголь выступал со своими первыми произведениями, все прежние литературные традиции, и классические, и сентиментальные, и романтические, были уже значительно подорваны критикой, и для огромного большинства литературных судей была ясна необходимость иметь нечто свое, столь же совершенное и народное, как то, чему эти критики поклонялись на Западе. Что касается самой литературы, то, как мы сказали, она плохо отвечала на эти требования критики и никак не могла взять верного самобытного тона в разработке сюжетов. Попытки в этом направлении, конечно, делались иной раз – как увидим – даже успешные, но сколько было писателей, которые пребывали все еще в разных ученических классах, где писали не с натуры, а с образцов и моделей. Случалось иногда, что одно и то же лицо было и критиком, и художником, и тогда, как, например, у Полевого, Марлинского, Кюхельбекера – получалось странное противоречие между тем, что творил писатель, и тем, что он думал о творчестве. Как художник он оставался рабом традиции западной, как критик он продолжал распинаться за народность.