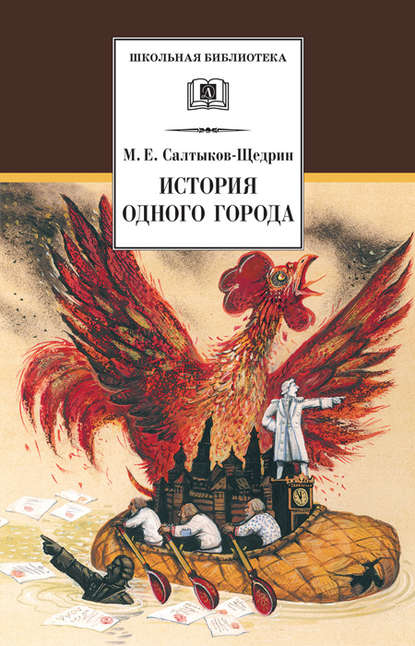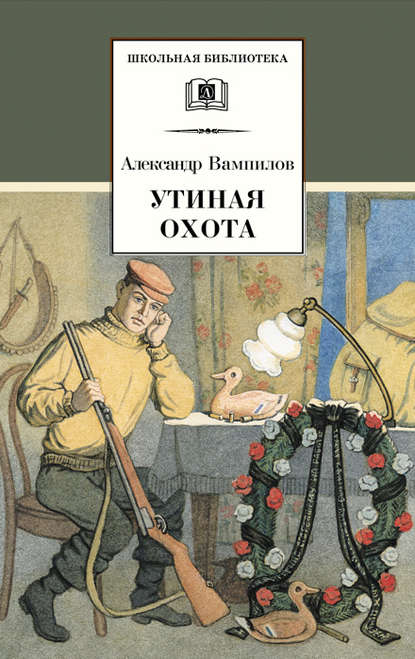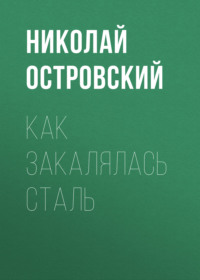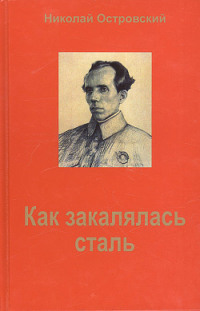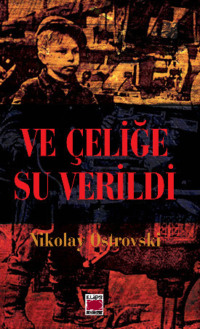Полная версия
Как закалялась сталь

Николай Алексеевич Островский
Как закалялась сталь
Роман

Обрученный с идеей
Шедевр ли эта книга?
Да.
Чем? Техникой?
Нет.
Мате ЗалкаСудьба книги Николая Островского не менее поразительна, чем его собственная судьба.
В 1930-е годы говорили: секрет – в биографии автора. В 1940-е и 1950-е: все дело в писательском мастерстве. В 1960-е: ни в одной другой книге не воплотился с такой яркостью романтический дух 1920-х.
На рубеже перестроечных 1990-х точка отсчета сменилась: теперь Островский был порождением сталинизма, моделью фанатической одержимости, «винтиком машины»… если не тем самым топором, от которого во время оно летели щепки.
Вот та же карусель в малом варианте. Моя работа об Островском в 1965 году была забракована как невозможная к печати и враждебная по идеям. В 1971 году выпущена в свет в изуродованном виде, но и в этом виде объявлена на комсомольских инструктажах того времени клеветнической, а в печати – путаной и субъективной. В 1981 году она же – премирована Грамотой ЦК комсомола. В 1988-м объявлена в «Комсомольской правде» лучшей работой об Островском за последние десятилетия. В начале 1990-х годов она казалась иным читателям недостаточно радикальной и недопустимо апологетичной по отношению к одному из основных «мифов» сталинской эпохи.
Даже и из одного упрямства я отказываюсь вертеться в этой флюгерной карусели. Хватит того, что в 1965 году я начинал писать об Островском, чувствуя, что у меня зажат рот; чуть не полвека понадобилось, чтобы мне дали договорить то, что я хочу; далее я не сойду с этой точки; я готов уточнить формулировки, додумать следствия и осознать дальнейшие перемены климата вокруг моего героя, но я не сдвинусь с той позиции, на которую встал сразу: «Как закалялась сталь» – ключевая книга советских лет нашей истории, в ней – разгадка того, что произошло с нами и Россией.
Дело, разумеется, не только в биографии (хотя и в ней), ибо жизнь Островского – это жизнь тысяч его современников и соратников, а исповедь, пронявшую миллионы, написал именно он.
Мастерство еще меньше прояснит тут дело (хотя Островский яростно учился «литтехнике» у «спецов»), ибо в ту же невеликую меру мастерства работали еще сотни его современников и коллег, литературных ремесленников, ударно призванных в литературу, но эмблемой эпохи стала именно его книга.
Славный романтический дух в ней, конечно, воплотился. Но вот теперь самый дух этот перевернут в нашей эмоциональной памяти, а истоки его по-прежнему не очень ясны историческому разуму. То есть масса факторов известна: нетерпимость, репрессии, гибель крестьянства, лагеря, иллюзии, ложь, но духовный поворот, сделавший все это возможным, все еще таится во тьме.
Островский интересен именно как человек, своею судьбой преподавший нам не столько эмпирический, сколько духовный урок. «Красное житие», – сказал бы я, если бы хотел объяснить его явление людям верующим. Есть вещи, равно значимые и для верующих, и для почитающих себя атеистами, то есть для перевернувших веру. Перед нами тот самый случай. Жизнь Островского – это демонстрация того, как выстраивается целый мир. Не миф, а мир!
Мир этот выстраивается на определенном духовном принципе (хотя и без Бога) и торжествует «на шестой части суши» достаточно долго в качестве почти осуществившегося царства справедливости и безусловно осуществившегося для его строителей счастья. Этого достаточно, чтобы, во всяком случае, не пренебречь «строительным материалом» («гвозди бы делать из этих людей»), благодаря которому все это строение стало реальностью.
Сегодня все это и впрямь может показаться мифом, мороком, обманом. Но это не так, вернее, не вполне так. Мифология «оформляется» сверху только тогда, когда она ожидается снизу. Морок поднимается – от почвы. «Обман» есть всегда и самообман: готовность поверить, желание поверить, жизненная необходимость верить. Островский – не миф, насажденный сверху (хотя и сверху насаждали). Островский – легенда, выношенная внизу.
УспехКритике никогда не приходилось продвигать к читателям роман «Как закалялась сталь». Критике всегда приходилось объяснять его успех. Невероятный, парадоксальный, загадочный, этот успех был в то же время настолько естествен, повсеместен и неудивителен, что, казалось, ему и не надо искать объяснений.
В прозаических фрагментах Пастернака есть запись 1943 года. Поездка на фронт, чтение стихов, разговоры с бойцами. «Когда после Мценска наши части освободили тургеневское имение Спас-Лутовиново, комсомольцы отличившихся частей устроили в разрушенном заповеднике торжественное собрание. Естественно, посвященное памяти Тургенева… оно каким-то образом (здесь и далее курсив мой. – Л. А.) связалось с именем Николая Островского». Самое удивительное в этой записи – отсутствие удивления. Это психологическая аксиома 1930-1940-х годов. Можно говорить о чем угодно: о тактической схеме боя и о мистических свойствах германского духа, о судьбе лейтенанта Шмидта и о смерти тургеневского Базарова. Потом «каким-то образом» начинают говорить о Корчагине. Без переходов и причин. Этому никто не удивляется: в герое Островского есть нарицательность, которая давно оставила позади всякие объяснения.
Когда десятки миллионов экземпляров его книги гуляют по всему миру, трудно представить себе что-либо другое. Трудно представить себе, какие были сметены этим потоком препятствия. А ведь поначалу не было и самих препятствий, а было одно гробовое молчание всей профессиональной критики: год, два года – и тоненькие книжки «Молодой гвардии» с романом Н. Островского неслышно затерялись в шумном литературном гомоне 1932 года.
И еще раньше, когда неслышный этот ручеек, которому со временем суждено было затопить сознание полумира, натянулся нитью, тонким волоском, каждое мгновенье грозившим оборваться… И он обрывался… и возникал снова с какою-то неотвратимостью.
Первый вариант романа Николая Островского не доходит до издателей: в начале 1928 года рукопись утеряна почтой.
Он пишет все заново.
Новая рукопись, посланная в Ленинград, безответно исчезает в недрах тамошнего издательства.
Он отдает один из последних экземпляров своему другу, И. Феденеву, и просит отнести в издательство «Молодая гвардия». Феденев относит и быстро получает ответ: рукопись забракована по причине «нереальности» выведенных в ней типов.
Островский лежит навзничь в Мертвом переулке, в переполненной жильцами комнатке, и лихорадочно ждет решения. Ему двадцать семь лет, остается жить – пять.
Потрясенный решением издательства, Феденев просит вторичного рецензирования.
Рукопись ложится на стол к новому рецензенту – Марку Колосову. Стол стоит в редакции журнала «Молодая гвардия», где Колосов работает заместителем редактора.
Впоследствии М. Колосов напишет воспоминания о том, как Феденев закоченевшими от холода старческими пальцами вынул из папки рукопись и как с первых строк Колосова покорила ее сила; как ждали молодогвардейцы именно эту вещь и как, не отрываясь, проглотил ее заместитель редактора. Эти воспоминания написаны много позднее, когда миллионные издания романа уже сделали имя Островского легендарным. В начале 1932 года все выглядит иначе. 21 февраля Феденев приводит Колосова к постели Островского. В этот момент решается его литературная судьба. В разговоре трех человек соединяется, как в фокусе, и грядущее возвышение Островского, и драматизм этого возвышения, и предопределившие его ход противоречивые силы.
Три участника этого разговора оставили о нем свидетельства.
Николай Островский записал назавтра слова М. Колосова: «У нас нет такого материала, книга написана хорошо, у тебя есть все данные для творчества. Меня лично книга взволновала, мы ее издадим».
Марк Колосов из все троих – единственный профессиональный литератор; журналу нужен «такой материал»; решившись одобрить рукопись, Колосов выбирает осторожные формулировки: «меня лично…», «есть данные…». Далее он (по его собственному тогдашнему свидетельству) начинает, запинаясь, «говорить о достоинствах и недостатках», а потом, осмелев, говорит о недостатках во весь голос.
Другой участник разговора – Иннокентий Феденев, старый сибиряк, подпольщик, член партии. И если самого Островского сковывает в разговоре болезненное авторское самолюбие, а Колосов с неизбежностью натыкается на каждом шагу на профессиональную несделанность текста, то Феденев свободен и от авторских чувств, и от профессиональных литературных предрассудков; и вот этот старик безошибочно чувствует: «несделанный» текст таит в себе силу, которая действует помимо и поверх всяких профессиональных «за» и «против». Свидетельство Феденева: «Я помню то совещание, которое было на квартире Николая Алексеевича… Тов. Колосов тогда сделал очень много замечаний, настолько много, что напрашивался вопрос о переделке книги, и Колосов предложил, чтобы Николай Алексеевич взял на себя переделку этой книги. Я же считал, что этого не нужно делать, и возражал против этого. Николай Алексеевич и Колосов со мной согласились, и это было правильно».
Разговор – в феврале.
В апреле журнал «Молодая гвардия» помещает начало романа. Он печатает его маленькими кусочками, растягивая публикацию. В сентябрьском номере «Как закалялась сталь» завершена. Остальному предстоит свершиться.
Идет 1932 год.
Это год шумной и повсеместной перестройки литературы, когда во всех ее прослойках и группах нервное возбуждение, продиктованное ожиданием перемен, доходит до последней степени и члены многочисленных писательских ассоциаций и групп, готовясь к этим надвигающимся переменам, критикуют себя и своих оппонентов, яростно размахивая кувалдами резолюций. Уходит в прошлое эпоха 1920-х годов с ее групповой чересполосицей, с ее бурной самодеятельностью маленьких, средних и больших ассоциаций, кружков и кружочков, с ее бесконечной нетерпимостью и мгновенными сенсациями, с ее классовыми ступенями, трещинами, пропастями, платформами и мостами, с ее многочисленными теориями. Воцаряется новая эпоха в литературе – эпоха всеобщей государственной консолидации. И вот уже знаменитое постановление ЦК партии от 23 апреля 1932 года разом пресекает деятельность всех групп и ассоциаций, начиная со свирепого, измучившего всех РАППа[1] и кончая последними попутническими пристройками, и в это новое, объединенное, освобожденное от старых колючек, перепаханное, ожидающее поле падают семена простых, общих для всех лозунгов: единый союз писателей, единый принцип – правда, единый метод – социалистический реализм. 1932-й – год великого перелома в литературе.
Журнал «Молодая гвардия» в этом процессе – наособицу. Здесь, в журнале комсомола, тоже свой мир, несколько отделенный от того котла, в котором варится профессиональная литература. Здесь обострено комсомольское начало. Достаточно представить себе атмосферу тех лет, чтобы ощутить, что это начало и совершенно независимо от «профессиональной» литературы, и очень активно. У всех в памяти 1931 год, когда комсомол, как писали тогда, вмешался в литературную полемику и вступил в спор с самим РАППом; авторитет Генерального секретаря ВЛКСМ А. В. Косарева позволяет тогдашнему комсомолу иметь в литературном мире влиятельную и совершенно независимую позицию. Журнал «Молодая гвардия» чувствует, что за его плечами гудит комсомольская масса, которая через пять-шесть лет будет определять характер исторических событий. Поэтому здесь свой стиль и свои планы. Здесь свои рубрики, свои дискуссии и свои законы. Здесь своя поэзия и своя проза, свой литературный мир.
Но, как во всей тогдашней литературе, здесь обожают факт. Тщательно лелеют очерки, записки и воспоминания бывалых людей. «Молодая гвардия» растит своих начинающих литераторов, тех, что пришли к письменному столу от станка, от плуга и от винтовки. Им посвящаются смотры, обсуждения, обзоры.
Тут, среди молодогвардейского молодняка, и получает первоначальную литературную прописку автор романа «Как закалялась сталь» Н. Островский.
За пределами журнала его роман не замечает никто.
Единственный орган печати, который среди молчания продолжает регулярно поддерживать Островского, – это сама напечатавшая его «Молодая гвардия». Здесь бережно рецензируют отдельное издание. Здесь помещают и первые отклики читателей, бурно приветствующих Корчагина, но никто еще не знает, что придет за этими первыми откликами. Здесь регулярно отмечают «молодого рабочего автора» в обзорах и перечнях и столь же регулярно выражают уверенность, что вторая часть произведения будет более умелой в литературном отношении.
Наконец, здесь, в «Молодой гвардии», в середине 1934 года публикуют только что дописанную Островским вторую половину романа «Как закалялась сталь».
И опять профессиональная критика не признает ее. Спорят о «Скутаревском» Л. Леонова и о «Поднятой целине» М. Шолохова, обсуждают «Последний из удэге» А. Фадеева и «Время, вперед!» В. Катаева, всматриваются в «День второй» И. Эренбурга и восторгаются фильмом «Чапаев». Но никто не замечает Островского, и единственный отклик на вторую часть появляется в справочном бюллетене Института библиографии. Отклик называется: «Эскизы к роману». И вновь журнал «Молодая гвардия» рецензирует отдельное издание и еще дважды публикует читательские отзывы, продолжая упрямо говорить о творческих возможностях молодого автора. И снова этот одинокий голос теряется в безбрежном океане шумно перестраивающейся литературы.
Не вписывается Островский в ее контуры. Здесь, в профессиональном мире, его не воспринимают.
В январе 1934 года журнал «Октябрь» рапортует XVII съезду партии об успехах советской литературы. Целую журнальную страницу занимает один только перечень произведений, созданных между съездами; легко представить себе, что тут собрано все, что можно… все, кроме автора Корчагина.
Островский, не влезающий в рамки художественной литературы, идет по другому ведомству.
В августе 1934 года секретарь создаваемого Союза советских писателей В. П. Ставский включает имя молодого пролетарского автора в свой съездовский доклад о литературной молодежи. Имя Островского впервые появляется в центральной печати. «Комсомольская правда» дает биографическую справку. О степени знакомства с Островским говорит тот факт, что он назван в этой справке Николаем Павловичем.
Островский в маленьком флигеле в Сочи, на Ореховой, 47, лихорадочно слушает в наушниках радиотрансляцию съезда писателей.
Здесь в конце 1934 года и находит его неутомимый Михаил Кольцов.
«Николай Островский лежит на спине, плашмя, абсолютно неподвижно. Одеяло обернуто кругом длинного, тонкого, прямого столба его тела как постоянный, неснимаемый футляр. Мумия.
Но в мумии что-то живет. Да. Тонкие кисти рук – только кисти – чуть-чуть шевелятся. Они влажны при пожатии…
Живет и лицо. Страдания подсушили его черты, стерли краски, заострили углы… Голос спокоен, хотя и тих, но только изредка дрожит от утомления…»
Очерк М. Кольцова в «Правде» читают миллионы людей. Уже одно это разом выводит имя автора Корчагина из неизвестности. И еще Кольцов роняет фразу, звучащую скрытой угрозой в адрес тех, кто не хочет признать Островского: «Не всех героев мы знаем. И не всех мы умеем замечать». Легко представить себе, как звучит такая фраза в газете «Правда» в 1935 году.
Это – перелом.
Мгновенно очерки и статьи об Островском появляются в центральных газетах. Толстые журналы открывают его для себя.
В короткий срок об Островском написана огромная литература. Все, что критика могла бы написать о нем в течение трех лет, она выдает на гора в течение трех месяцев. Холод непризнания разом сменяется огнем ревностной любви.
В течение полугода из безвестного начинающего литератора он превращается в живого классика. В октябре 1935 года становится орденоносцем. Ему строят виллу на Черноморском побережье. Последние четырнадцать месяцев, отмеренные ему болезнью, он живет, как живая легенда, на улице своего имени, и дом его делается местом паломничества бесконечных делегаций и предметом острейшего любопытства зарубежных журналистов.
Всесоюзные похороны его в декабре 1936 года еще увеличивают его славу. И складывается то почти нерасчленимое соединение популярности, идущей снизу, и культа, насаждаемого сверху, которое ставит впоследствии в тупик западных историков советской литературы, и они с тех пор решают (как сказано у Глеба Струве), «до какой степени широкая национальная популярность Островского была спонтанна, добровольна и стихийна и какую часть тут надо отнести на счет обдуманного мифотворчества».
Чтобы ответить на этот вопрос, я вернусь к тому времени, когда нет еще никакого официального признания, и Михаил Кольцов еще не открыл Островского своим очерком, и книга его распространялась в читательской массе не только без помощи пропагандистских мероприятий, но и без малейших подсказок критики. Отдадим себе отчет в том, что многие люди, которым суждено стать пламенными пропагандистами романа «Как закалялась сталь», в ту пору еще и не знают его. Марта Пуринь, активная латышская коммунистка и работник «Правды», не читала «Как закалялась сталь» до лета 1934 года, хотя она лично была знакома с Островским и сама оказалась выведена в книге. Семен Трегуб, завлит «Комсомольский правды» и в будущем один из авторитетнейших исследователей Островского, впервые читает его только в 1935 году. Тогда же, в 1935 году, луганский студент-филолог И. Марченко получает комсомольское поручение прочесть «Как закалялась сталь» и доложить о ней на читательской конференции. Марченко отправляется в библиотеку и записывается сто семьдесят седьмым; не имея терпения ждать, он выпрашивает книгу в местном райкоме партии и читает тут же, не унося… Впоследствии И. Марченко становится одним из первых на Украине собирателей материалов об Островском.
В этом эпизоде есть что-то символичное. Студент-филолог ничего не знает о книге. Местная ячейка дает ему комсомольское задание: прочесть. Он идет в библиотеку и застает там гигантскую очередь. Достает книгу… и становится ее пропагандистом на всю жизнь.
Помимо и до всяких указаний свыше, помимо и до всяких критических профессиональных советов, больше того – помимо и до самой публикации – свершается в толще комсомольских читательских масс полный читательский цикл усвоения этой книги. В ней нет того литературного фермента, который мог бы привлечь профессионалов. В ней есть какой-то сверхлитературный фермент, который привлекает миллионы душ помимо и через головы профессионалов. В конце 1931 года, когда роман еще и не добрался до издателей, а Феденев еще только начинает свои хождения в «Молодую гвардию», рукопись уже рвут из рук в комсомольских ячейках Шепетовки, и пять часов подряд читают вслух на активе, и обсуждают в местном педагогическом техникуме. В конце 1932 года, когда только что вышедшую книжку регистрируют в критике одни только библиографические справочники, политуправление армии скупает 80 процентов тиража, а потом до журналистов доходят подробности: какой-то боец, отстояв на посту, вместо сна читает «Как закалялась сталь».
К концу 1933 года, когда на всю прессу имеется о книге каких-нибудь пять откликов, Сочинский райком комсомола начинает массовую проработку романа ячейками, а также чтение его в студии местного радиоузла. Он вызывает по этой части на соцсоревнование Шепетовский райком и констатирует, что в сельской местности проработка отстает по причине нехватки экземпляров книги. Рано или поздно эта копящаяся лава должна выйти на поверхность литературы, и Михаилу Кольцову достаточно нанести один острый удар, чтобы сломать корку, – поток готов хлынуть.
Этот роман читают иначе, чем старую художественную продукцию, поглощаемую в тишине и одиночестве. Ее читают по другим законам. Ей ищут место на другой, новой шкале. На шкале, которую эта книга создает себе сама.
Как читают Островского?
Вот как: «В который раз перечитывала „Как закалялась сталь“. И вероятно, не раз еще буду перечитывать…»; «Два раза читал эту книжку…»; «Достав книгу… я организовал проработку ее у себя в комсомольском коллективе…»; «Как только перерыв между боями, уже слышишь – начали читку… Мне нет покоя от бойцов. Говорят: раз прочтем, второй читать будем и в третий раз перечитывать будем. Я таких чтецов в первый раз в жизни встречаю…»; «Николай, братишка! Пишет тебе незнакомый слесарь Краснодарского депо. Уже пять часов утра, а я всю ночь читал про твоего Павку. Я так его полюбил, что всех его врагов прокалывал пером. И до того проколол журнал, что теперь сижу и думаю, как его отнести в библиотеку!».
Нет, эту книжку читают не так, как обычную художественную литературу. Недаром и слово-то употребляют другое: не читают, а прорабатывают. Или, как во время войны рассказывал на одном из писательских пленумов Николай Тихонов, у бойцов книга «Как закалялась сталь» сделалась своего рода евангелием… «Ее читают и перечитывают во всех ротах и батальонах…» Перечитывают – не затем, конечно, чтобы узнать, «что произошло дальше». Что дальше – и так знают наизусть. Перечитывают – потому что заключено в тексте то знакомое напряжение, которого жаждут, к которому заново подключаются, которым заряжаются. Мать Олега Кошевого пишет, что книга Островского у ее сына всегда под рукой; она стоит так, чтобы ее в любой момент можно снять с полки… «если потребуется зарядка»… Нет! Художественную литературу так не читают. Это что-то другое.
Здесь, внизу, в читательской массе, и предопределяется с самого начала судьба книги. Профессиональное, официальное признание может прийти раньше или позже. Решается – тут.
Не потому читают книгу, что стоит она в обязательных списках. А потому она встает в списки, что ее читают. Можно велеть издать книгу сверхтиражом. Но нельзя велеть переписывать ее в Старозагорской тюрьме тайком от надзирателей, как это делали болгарские антифашисты. Нельзя велеть читать ее в окопах под Севастополем при свете карманных фонариков. Нельзя велеть крутить вручную печатные машины в блокадном Ленинграде. Это люди делают сами.
Значит, есть что-то такое в книге, что бьет безотказно и вопреки всем старым литературно-критическим представлениям о традиционном художественном тексте.
Значит, есть тут загадка, неподвластная старым профессиональным представлениям.
Волею судьбы автор их не знал.
Считал ли он себя профессиональным литератором? И да, и нет.
С одной стороны:
«Я никогда не думал быть писателем… Я совершенно сырой, я ничего не знаю… Моя профессия – топить печки…»
С другой стороны:
«Цель моей жизни – литература. Это роман, а не биография!»
С одной стороны:
«Я использовал право на вымысел…»
С другой:
«Я писал исключительно о фактах…»
Во внутреннем драматизме этих противоречивых самохарактеристик отражается драматизм и парадоксальность самого явления Островского в литературе. Больше – это драматизм самой эпохи, парадоксальность ее новых законов.
В 1929 году журнал «Октябрь» печатает в разделе «Пережитое» автобиографию молодого красного бойца; жанр так и определяют: «обыкновенная биография». Это – «Школа» А. Гайдара.
За несколько лет до этого в серии «Труды Истпарта» появляются воспоминания комиссара 25-й дивизии. Это – «Чапаев» Дм. Фурманова.
Николай Островский впервые берет перо по заданию Истмола Украины – записать материал для историков (Истмол – история молодежных организаций).
До 1932 года слово «писатель» не приходит ему в голову. Он садится за книгу, чтобы составить «воспоминания». Он делает «запись целого ряда фактов». Редактор «Комсомольской правды» и журнала «Молодая гвардия» Тарас Костров (очевидно, в 1927 году) советует ему облечь историю «в форму повести или романа». В этот период «форма» для Островского не более чем грамотный язык; главная его забота вовсе не жанр, а верность правде, простодушное желание обрисовать действительных (и живых еще) героев, «указав все их недостатки и положительные стороны». Этим живым свидетелям и участникам Островский и посылает на отзыв свою работу (он везде пишет «книга», «труд», «работа», и даже потом, когда в журнале произносят слово «роман», Островский настаивает на менее литературном – «повесть»). В первую очередь работу смотрят участники событий. И уж потом – спецы по литературным вопросам.
В январе 1932 года, посылая «Как закалялась сталь» в журнал, Островский прилагает к тексту письмо, не предназначенное для печати: «Я работал исключительно с желанием дать нашей молодежи воспоминания, написанные в форме книги, которую даже не называю ни повестью, ни романом, а просто „Как закалялась сталь“.
Потом ему объяснят, что он написал роман. И тогда с 1932 года презрительный термин „спецы“ в его письмах и высказываниях сменяется уважительным термином „мастера“. Начинается период профессионализма. Период бешеной учебы, лихорадочного чтения, яростного овладения „литтехникой“. Но даже и потом, когда страх „корзины редактора“ сменяется у молодого автора ощущением победы, в нем остается неистребимый суеверный пиетет перед мастерами и тайное опасение: „я – недоношенный писатель“, „я – штатный кочегар“, и изумление самому себе: „Петя, ты ожидал от меня такого виража?“ Писательская техника, профессиональная премудрость, так называемая форма-обработка, которой он старался овладеть, теперь делается предметом его главных упований. И когда кто-то из критиков в порыве организаторских чувств предлагает Всеволоду Иванову пройтись по жизнеописанию Корчагина рукой мастера, Островский приходит в такую ярость, что хочет ответить этому критику „ударом сабли“. Именно после этого случая он начинает упорно отрицать документальную ценность романа, резко отделяя себя от своего героя.