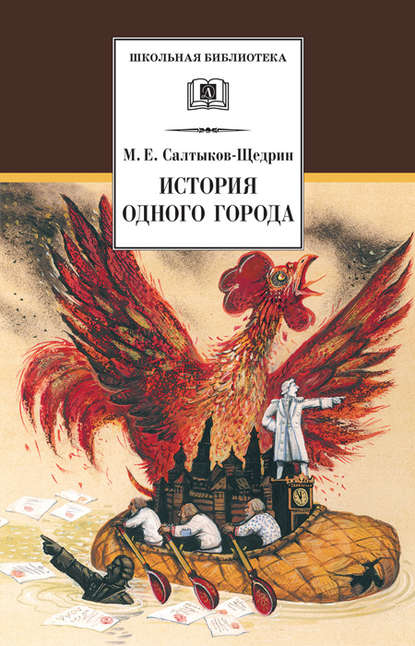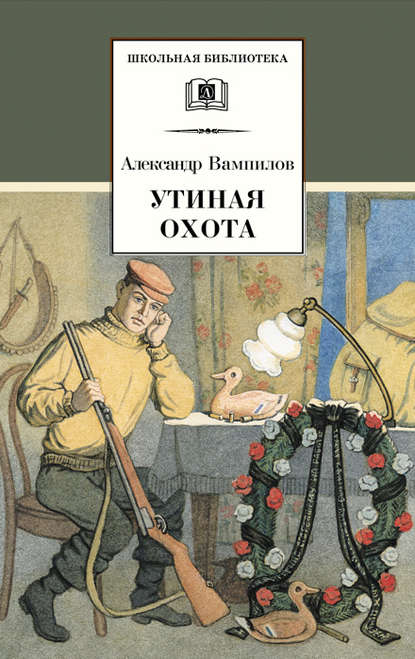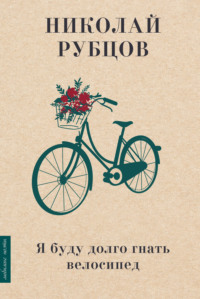Полная версия
Лирика

Рубцов Николай Михайлович
Лирика


О поэзии Николая Рубцова
Почти безумие – писать о поэзии во времена ее бедственного существования, если даже допустить, что еще какие-то источники ее питают. Речь не о стихах, – стихах всех мастей, – их, как всегда, больше чем надо. О том же в феврале 1921 года, незадолго до своей кончины, пророчески говорил Блок в своем знаменитом слове «О назначении поэта». Теперь-то мы знаем, что «назначение поэта» вбирает в себя назначение России, человека, истории и много чего еще. Вот лишь несколько строк об изыскании чернью средств «для замутнения самых источников гармонии; что их удерживает – недогадливость, робость или совесть, – неизвестно. А может быть, такие средства уже изыскиваются?» Это блоковское вопрошание, конечно, не связывает с понятием «черни» простых людей, простой народ. А уж в наши дни почти невыносимая правда этих слов тысячекратно, если не более, усилена. Нынешняя каждодневность не только не нуждается в поэзии – она боится ее, как всякий мошенник боится воздающей длани.
Впрочем, в разные времена и у разных людей было ощущение жизни, похожее на то, какое настигло Россию на рубеже ХХ-XXI столетий. Потому Блок в страшные годы Гражданской войны писал о «цивилизованном одичании». А до него Герцен – о «стоне современных человеческих трясин». А до них Баратынский в стихотворении 1835 года, так знаменательно названном «Последний поэт», – стихотворении провидца многого, если не всего того, что произойдет с поэзией и Россией. И почему почти каждый значительный русский поэт, даже если он любим и почитаем, предстоит перед самим собой и перед Божьим судом как последний?
Век шествует путем своим железным;В сердцах корысть, и общая мечтаЧас от часу насущным и полезнымОтчетливей, бесстыдней занята.Исчезнули при свете просвещеньяПоэзии ребяческие сны,И не о ней хлопочут поколенья,Промышленным заботам преданы.
Людям слишком часто кажется, что они от чего-то уходят, расстаются с ненужной поклажей. Но там, где речь идет о поэзии, отеческих преданиях, вере, все-таки надо смириться и понять, что в какие-то мгновения именно они, изумленные и отчаявшиеся, покидают человека.
В 1954 году судьба приводит Николая Михайловича Рубцова в поселок Приютино под Ленинградом, где жил его старший брат. Там поэт работал слесарем-сборщиком на военно-испытательном полигоне. Вот так и бывает, что один из самых бесприютных русских поэтов жил в Приютино. И там, уже позднее, когда он служил на Северном флоте и приехал туда в отпуск, у еще «допоэтического» Рубцова появилось стихотворение:
Я уплыву на пароходе,Потом поеду на подводе,Потом еще на чем-то вроде,Потом верхом, потом пешкомПройду по волоку с мешком —И буду жить в своем народе!
Можно с достаточной уверенностью сказать, что в ту пору, когда человеческий опыт и поэтические мировидения и мироотношения Рубцова не отличались отчетливо выраженными широтой и глубиной, чувством неотвратимости художнического удела, строки эти более чем поразительны. К тому же если Рубцов относительно себя уже довольно рано что-то предчувствовал, он все же до конца дней оставался человеком застенчивым и скромным, а уж в те годы особенно. И вдруг такое: «И буду жить в своем народе!» Так и случилось. Рубцова знают и любят, его поют. И не потому, что кто-то пишет к его стихам музыку, кто-то их исполняет, а потому что они просто поются. Явление для русской поэзии и музыки чрезвычайное.
В связи с этим вспомним одно давнее упование Георгия Иванова, имя и стихи которого многие годы были почти неизвестны в России, а ныне он законно почитается крупнейшим орфическим русским лириком ХХ столетия: «Чистый родник народного творчества всегда был лучшим достоянием русской поэзии. Кажется, это единственная область в истории литературы, стоящая выше пристрастных вкусов и не нуждающаяся в переоценках. Но черпать непосредственно из этого родника удавалось лишь немногим – или великим, или особенно близким к первоисточнику поэтам». И еще из Иванова: «…стихи, перестав быть песней по форме, сохраняют всю глубину и чистоту народной песни». Все это имеет прямое отношение к Рубцову. И не случайно он так любил под гитару или гармошку петь свои стихи. Память об этом сохранили и современники, и несовершенная записывающая аппаратура. А в сколько названий его сочинений входит слово «песня»: «Осенняя песня», «Прощальная песня», «Зимняя песня» и просто «Песня»!
Позволю себе целиком привести здесь стихотворение «Осенняя песня». Отмечают, что появилось оно как отклик на знаменитое стихотворение Поля Верлена. В этой веселой вещи, горькой и бражнической, столько пристальности и вместе с тем преодоления окаянных оков бытия.
Потонула во тьмеОтдаленная пристань.По канаве помчался —Эх! – осенний поток!По дороге неслисьСумасшедшие листья,И порой раздавалсяМилицейский свисток.Я в ту ночь позабылВсе хорошие вести,Все призывы и звоныИз Кремлевских ворот.Я в ту ночь полюбилВсе тюремные песни,Все запретные мысли,Весь гонимый народ.Ну так что же? ПускайРассыпаются листья!Пусть на город нагрянетЗатаившийся снег!На тревожной землеВ этом городе мглистомЯ по-прежнему добрый,Неплохой человек.А последние листьяВдоль по улице гулкойВсе неслись и неслись,Выбиваясь из сил.На меня надвигаласьТемнота закоулков,И архангельский дождикНа меня моросил…
Вот о таких отчаянно-спасительных стихах писал незадолго до смерти Осип Мандельштам: «Народу нужен стих таинственно-родной, Чтоб от него он вечно просыпался…»
Выдающийся мыслитель Вадим Кожинов писал: «…особенно удивителен даже не сам по себе стремительный рост славы поэта, а тот факт, что росла она как бы совершенно стихийно, по сути дела, без участия средств массовой информации, словно движимая не зависящей от людей природной силой». Очень верное и точное замечание. Ныне известность и слава Рубцова помимо невидимой власти над сердцами имеет, так сказать, материально-предметное воплощение. Именем Рубцова названа планета, улицы в Вологде и Санкт-Петербурге, открыты музеи в селе Никольском и Москве, памятники в городах Вологде, Тотьме, Череповце, Емецке. На домах, где жил поэт, установлены памятные доски. О количестве изданий его стихов говорить не приходится. Но следует сказать, что мемориальная эффектность и монументальность не могут скрыть некой улыбки, что-то от его поздней надежды:
Мое слово верное прозвенит!Буду я, наверное, знаменит!Мне поставят памятник на селе!Буду я и каменный навеселе!..
Если речь идет о поэте Божией милостью, – а Рубцов именно такой поэт, – то большинство определений, характеристик в общем-то не очень существенны. Ибо когда мы имеем дело с совершенством художественным, да и не только художественным, а с чем-то идеальным, то к нему нечего добавить, не о чем говорить: все получило волшебную завершенность. Кто умеет слышать, умеет видеть – все почувствует сам, если он соприкоснется с искусством совершенно исключительным, редкой силы, подлинности, чистоты. И при всей тонкости стихов, при всем музыкальном их изяществе всегда есть ощущение душевной и духовной мощи. Здесь заключено и особое видение мира, истории. И это не просто приношение на алтарь любви к Отечеству, не просто рифмованное и ритмическое объяснение в любви к родному пространству, вологодским далям, к холмам, рекам, полям, лесам, облакам, к удивительным лицам живущих здесь людей, и старых, и совсем-совсем юных. В высших созданиях Рубцова эти начала обретают огромность, причем тихую, чарующую огромность. За простотой, за чем-то пустяшным светится небывалость. Как в стихотворении «В горнице».
В горнице моей светло.Это от ночной звезды.Матушка возьмет ведро,Молча принесет воды…
Или в исключительной лирической вещи, посвященной другу поэта, недавно ушедшему гениальному художнику, вологжанину Василию Белову, – «Тихая моя родина…».
Тихая моя родина!Ивы, река, соловьи…Мать моя здесь похороненаВ детские годы мои.– Где же погост? Вы не видели?Сам я найти не могу. —Тихо ответили жители:– Это на том берегу.Тихо ответили жители,Тихо проехал обоз.Купол церковной обителиЯркой травою зарос.С каждой избою и тучею,С громом, готовым упасть,Чувствую самую жгучую,Самую смертную связь.
Это уже нечто молитвенное – «Свете тихий»… Можно, конечно, указать на чудную простоту и гармонию стихотворения, но суть в ином. Вот при такой тихости, таком спокойствии, при ритмических повторениях рождается чувство, что вот сейчас сюда ворвется нечто небывалое и огромное. То множество смыслов, которые в слове и за словом, как в колыбельном напеве. В стихах раскрывается то, что русский мыслитель назвал «внутренней формой слова», что несет слово сквозь века. Конечно и безусловно, при создании подобных вещей необходимы талант, мастерство, своя, по слову Есенина, «словесная походка». Но прежде всего нужно волшебное устроение души автора, которое преобразует и одухотворяет то, с чем она соприкоснулась в каждодневном жизненном и житейском опыте. А такое душевно-духовное устроение связано с тем, как складывалась жизнь и судьба поэта, с ранних лет и до зрелых, каким был мир, в котором он жил (страна, история, вера, нравы, взаимоотношения с другими людьми, природа, народное искусство). Здесь разгадка очень многого. И не только в судьбе художника, но и вообще в человеческой судьбе. Как гласит поговорка: «Каков в колыбельку, таков и в земельку».
Но порой красота мира и безмерность человека вступают в мучительные взаимоотношения. В гармонично совершенных вещах Рубцова всегда присутствует «трагический надрыв» (по Достоевскому), напряжение, с которым преодолевается «сиротство» – сиротство во всех смыслах, от материально-социального до глубинного. Загнанность человека и спасительность для мытарствующей души песни. Где-то здесь обретается и причина того, почему Рубцов среди стихов различного достоинства оставил в русской поэзии несколько ослепительных шедевров, которые мы вправе, даже внеэстетически, называть классическими – имея в виду все, с чем связано это определение в великой русской литературе. Это и приведенные здесь «В горнице» и «Тихая моя родина», «Русский огонек» и «Родная деревня», «Памяти матери» и «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «Звезда полей» и «Видение на холме», «Добрый Филя» и «Окошко. Стол. Половики…», и еще, и еще…
О трудах и днях Рубцова написано очень много. Здесь хочется привести поминальные слова о поэте хорошо его знавшего Виктора Астафьева, выдающегося писателя и мудрой личности: «Душа его жаждала просветления, жизнь – успокоения. Но она, жизнь… плохо доглядывает талантливых людей. И Господь, наградив человека дарованием, как бы мучает, испытует его им. И чем больше оно, дарование, тем больше муки и метания человека».
Так как же и во что сложились «муки и метания» Рубцова? Поэт родился 3 января 1936 года в поселке Емецк Архангельской области. Туда переехали из вологодских краев его родители – отец Михаил Андриянович и мать Александра Михайловна. То были, как принято ныне говорить, простые люди. Николай был четвертым ребенком в семье, после него родилось еще двое детей. В 1937 году семья обосновалась в Няндоме, где получил новую работу отец, который вскоре был арестован и почти год пробыл в заключении. В 1940-м семья вернулась в Вологду. С началом войны отец был призван в армию. Мама, на которую свалились непосильные заботы, умерла в июне 1942 года. Отсюда начинаются пути и перепутья, времена сиротства и мытарства, мучений и радостей. В поздние годы у Рубцова появится гениальная, среди прочих, строка, где время сжато до жуткой формулы: «Сиротский смысл семейных фотографий». Точнее и сильнее не скажешь.
Автор «Жизнеописания Николая Рубцова» – вологодский писатель и краевед Вячеслав Белков считал, и не без основания, что первое стихотворение поэта относится к лету 1942 года. Сам Рубцов в одной из своих автобиографий писал: «С пяти лет воспитывался в различных детдомах Вологодской области, в частности Никольском Тотемского района. Там закончил семь классов, и с тех пор мой, так сказать, дом всегда находился там, где я учился или работал. А учился в двух техникумах – в лесотехническом и горном, работал кочегаром тралового флота треста „Севрыба“, слесарем-сборщиком… в городе Ленинграде, шихтовщиком на Кировском (бывшем Путиловском) заводе, прошел четыре года военной службы на эскадренном миноносце Северного флота». Кстати, хотя Рубцов родился и жил среди северных лесов и деревень, его всегда тянуло море и все, что с морем романтически связано. Позднее он говорил близкому человеку: «В моих стихах две стихии. Стихия моря и стихия поля. О поле я много написал, а о море мало. К нему еще вернусь…» Не пришлось.
Следы его трудов и дней – это одновременно летопись бездомности и приобретений, тесноты общежитий, чужих углов и простора морей и больших городов. Все это ломало и ковало душу. Отсюда необыкновенная жизненность всего, что написал Рубцов, даже самого раннего или случайного. И вся огромность чувствований, переживаний, мыслей этих лет живет в его поэзии.
Когда Рубцов служил на флоте, то в Североморске («столице Северного флота») он посещал литературное объединение и начал довольно регулярно публиковаться во флотской печати. После демобилизации в 1959 году поэт жил и работал в Ленинграде. Там он также печатался, познакомился со многими молодыми ленинградскими поэтами. Среди них – Глеб Горбовский, Александр Кушнер, Виктор Кривулин. Там же он подготовил свою первую книжку стихотворений. Она называлась «Волны и скалы», в нее вошло тридцать восемь произведений. А главное, у нее был «грандиозный» тираж – 6 экземпляров. Но это тоже очень значительная веха.
В эту пору Рубцова-поэта начинают слышать и узнавать разные люди, в том числе литераторы. А это многое значит в становлении любого художника. На рубеже 1950-1960-х годов с редкой отчетливостью становится заметно, как вырос Рубцов, ведь именно в то время написаны такие отменные вещи: «Я весь в мазуте, весь в тавоте…», «Загородил мою дорогу…», «Утро утраты», изумительное стихотворение «Добрый Филя».
И вот зрелым человеком, с сильным и тревожным талантом, все так же не устроенный, Рубцов поступает в знаменитый Литературный институт им. Горького. То уже была Москва со всеми своими путями и беспутием. Рубцова заметили в институте, со вниманием и пониманием отнеслись к нему. И до наших дней в этом удивительном пространстве, почти на углу Тверского бульвара и Пушкинской площади, в знаменитом «Доме Герцена» и общежитии живут легенды о Рубцове той далекой поры.
Но не менее чем институт с его студенческой вольницей, с замечательными преподавателями, чрезвычайно много значило сближение Николая Рубцова с «кругом московских поэтов», по определению Вадима Кожинова. В этот круг входили – кто более, кто менее признанные – Владимир Соколов, Станислав Куняев, Анатолий Передреев, Борис Примеров,
Игорь Шкляревский. И здесь следует сказать о Вадиме Валерьяновиче Кожинове, объединяющем центре этого «круга», человеке выдающегося дара, обаяния, культуры.
Эта среда дала Рубцову, помимо ободряющего признания, очень-очень много. Но было бы ошибкой считать все эти связи и отношения идиллическими. Характер у поэта был непокладистый, страстный. По этой и другим причинам, а более всего за нарушение учебной дисциплины в 1964 году он был исключен из Литературного института и только после многих ходатайств был восстановлен на заочном отделении. Опять бездомность и безденежность. Институт он закончил в 1969 году уже известным поэтом. В институтские годы его стихи печатали журналы «Юность», «Молодая гвардия» и «Октябрь».
В 1963–1964 годах Рубцовым написаны такие классические вещи, как «Звезда полей», «Тихая моя родина…», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «Русский огонек» и другие. Московские друзья, как могли, помогали Рубцову. Они всячески способствовали росту его признания в тогдашней культурной среде, помогли издать в 1967 году книгу, ставшую и остающуюся событием, – «Звезда полей». Затем вышли сборники «Душа хранит» (Архангельск, 1969), «Сосен шум» (М., 1970), «Зеленые цветы» (М., 1975). Последняя книга была подготовлена к печати автором, но появилась уже после его смерти.
Только летом 1969 года он наконец получил квартиру в Вологде и прожил в ней последние полтора года жизни. Там же в ночь на 19 января 1971 года он погиб от руки женщины, с которой хотел связать свою судьбу. Как писал Кожинов, с 1964 года и до лета 1969-го «поэт, по существу, скитался между Никольским, Вологдой, Москвой и другими городами, не имея к тому же никакого надежного заработка».
Примерно за семь последних лет жизни Рубцов написал свои вершинные вещи.
Самым загадочным в искусстве Рубцова оказывается то, что среди стихотворений, которые пришлось ему написать, за редким исключением всегда отмеченных высоким талантом, вдруг появились вещи, которые, еще не остыв от рук мастера, стали классикой.
Русская поэзия, как и всякая поэзия, знает выдающихся мастеров, ценит их отдельные лирические пьесы, помнит строфы, строчки, образы. И совсем немного поэтов, сумевших создать лирическое сочинение редкого содержательного и формального единства, как говорится, без сучка без задоринки, где всё: тема, сюжет, строфика, ритм, интонация, стиль, колорит, образ, настроение – творят артистическое пространство, будто бы созданное из ничего. Говоря откровенно и не прибегая к выспренному тону, можно заметить, что сделанное из ничего, как правило, сделано из вечности. Потому невозможно для доказательства художественной оригинальности и силы из этого многосмыслия избрать нечто одно, даже то, что просится для избрания. Скажем, такие чудные строки: «сиротский смысл семейных фотографий», «стоит береза, старая, как Русь», «ветер всхлипывал, словно дитя» и др. Или в совсем короткой строчке вдруг обнаружится столько страдания, муки, скорбной правды – «мать придет и уснет без улыбки». И везде строка или строфа подобной красоты и силы исчерпывает себя полностью лишь как часть целого.
Почему-то оказались без должного внимания два мощных и одиноких стихотворения Рубцова. Они и до сих пор живут на окраине его поэзии. Это «Поезд» и «Неизвестный». Когда приходится читать или слышать, как кто-то читает «Поезд», я, например, всегда вспоминаю, как эту вещь читал Михаил Павлович Еремин, профессор-пушкинист, небывалая личность, властитель дум Литературного института в 1960–1980 годы. Рубцов внимательно слушал его лекции. В этом шедевре есть отзвук знаменитого стихотворения Александра Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне». Но у Рубцова власть случая над человеческой жизнью дана в иных, обыденных тонах. Вот этот постукивающий ритм, страшно и мрачно постукивающий, как проходящий мимо поезд, вселяет в сердце неотвратимый ужас случайного перехода в ничто бесценной человеческой жизни, который даже не снимается последними строками извинения и улыбки, – «И какое может быть крушенье, Если столько в поезде народу?». Вот начало стихотворения:
Поезд мчался с грохотом и воем,Поезд мчался с лязганьем и свистом,И ему навстречу желтым роемПонеслись огни в просторе мглистом.
И откуда такое прови́дение у еще молодого человека, полного сил, а следовательно, и надежд? Откуда такое прямое, без похоронно-катастрофического убранства, ощущение всей бездонности роковой загадки под названием жизнь? «Поезд» – космическая и глубоко философская вещь, страшная по-своему. Нерасторжимость света и тьмы – и все это не просто названо или описано, а раскрыто вот здесь, сейчас, перед нами. И заставляет нас пережить не это сочинение, а то, что его породило.
Стихотворение «Неизвестный» – редкое по мощи, хотя сюжет его в общем-то традиционный: о беглом человеке, бродяге («бежал бродяга с Сахалина»). Но какова сила и картинность в аскетическом изображении бесприютности, ледяного одиночества человека в мире! Рубцов будто идет по давно пробитым поэтическим следам. Энергия, ритм «последнего шага», нечто кинематографическое, мгновенный монтаж кадров, их столкновение – из всего этого встает настигающая нас судьба и определенного человека, и народа.
Он шел против снега во мраке,Бездомный, голодный, больной.Он после стучался в баракиВ какой-то деревне лесной.Его не пустили. ТупаяКакая-то бабка в упорСказала, к нему подступая:– Бродяга. Наверное, вор…Он шел. Но угрюмо и грозноБелели снега впереди!Он вышел на берег морозной,Безжизненной страшной реки.Он вздрогнул, очнулся и сноваЗабылся, качнулся вперед…Он умер без крика, без слова,Он знал, что в дороге умрет.Он умер, снегами отпетый…А люди вели разговорВсе тот же, узнавши об этом:«Бродяга. Наверное, вор».
Стихи Рубцова на редкость переполнены людьми, характерами, персонажами, лицами и ликами и в значительной своей части близки прозе Василия Шукшина, одна из книг которого так и называется – «Характеры». Природа соответствует у Рубцова состояниям и настроениям человека, являясь их таинственным эхом. И безусловно главенствующим, связующим образом шумного веселья и тихого, среди утрат и бед, людского мира, является образ матери, так рано ушедшей из жизни. К нему поэт в связи с различными обстоятельствами не раз возвращается.
Сижу среди своих стихов,Бумаг и хлама.А где-то есть во мгле снеговМогила мамы.
В 1960 году Рубцов написал стихотворение «Добрый Филя». Это лирический портрет личности особенной, на которой, как говорили в старину, держится Русь. Легкий волнообразный ритм, простые предметы-детали, отсутствие моралистических суждений позволили поэту создать пленительный и покоряющий образ. И до сих пор даже далекие от поэзии или интереса к ней люди при упоминании имени Рубцова спрашивают: «Это который написал о Филе?»
Я запомнил, как диво,Тот лесной хуторок,Задремавший счастливоМеж звериных дорог…Там в избе деревянной,Без претензий и льгот,Так, без газа, без ваннойДобрый Филя живет.Филя любит скотину,Ест любую еду,Филя ходит в долину,Филя дует в дуду!Мир такой справедливый,Даже нечего крыть…– Филя! Что молчаливый?– А о чем говорить?
Поэзию Рубцова питает и держит острое национальное чувство, без гордыни, восторженности, а тем более без плакатной демонстративности. Это присуще всем значительным русским поэтам давнего и недавнего прошлого. Полюсы этого присутствия России имеют совершенно различные воплощения. Это и край, где родился, вырастал и жил поэт («За Вологду, землю родную, Я снова стакан подниму!»). Деревня – родина души, более того, души России. Потому при обращении поэта к этим началам всегда ощущается необыкновенный музыкальный подъем, мужественная оглядка на прошлое. Нет часто встречаемой в подобных случаях сентиментальности и воспоминальных туманов. Есть твердая сила.
В этой деревне огни не погашены.Ты мне тоску не пророчь!Светлыми звездами нежно украшенаТихая зимняя ночь.Скромная девушка мне улыбается,Сам я улыбчив и рад!Трудное, трудное – все забывается,Светлые звезды горят!
(«Зимняя песня»)
И всё песни, песни.
Я уеду из этой деревни…Будет льдом покрываться река,Будут ночью поскрипывать двери,Будет грязь на дворе глубока.
(«Прощальная песня»)
Спрашивается, как в такой высокости вдруг встретилась «грязь на дворе»? Но никакого снижения образа и его красоты нет. Наоборот, за счет уместного использования такой прозаичности он становится достовернее и подлиннее.
Рубцов предчувствовал час своей кончины и видел его в тонах апокалиптических. «Я умру в крещенские морозы. Я умру, когда трещат березы», – писал Рубцов в 1970 году, уже на пороге своей смерти. Его поэзия не только в последний год жизни, но, в сущности, всегда пронизана горечью, предчувствием конца, близкой смерти, кладбищенской тишины, неразрешимостью трагической загадки жизни. Но такова вся русская поэзия. Такова вся русская жизнь.
Кто-то стонет на темном кладби́ще,Кто-то глухо стучится ко мне,Кто-то пристально смотрит в жилище,Показавшись в полночном окне.В эту пору с дороги бураннойЗаявился ко мне на ночлегНепонятный какой-то и странныйИз чужой стороны человек.И старуха метель не случайно,Как дитя, голосит за углом:Есть какая-то жуткая тайнаВ этом жалобном плаче ночном.
(«Зимняя ночь»)
И у Рубцова был свой «черный человек». И дело здесь, разумеется, не в литературных ассоциациях. А вот строфы из лирической пьесы «Посвящение другу».
Не порвать мне житейские цепи,Не умчаться, глазами горя,В пугачевские вольные степи,Где гуляла душа бунтаря.Не порвать мне мучительной связиС долгой осенью нашей земли,С деревцом у сырой коновязи,С журавлями в холодной дали…
Как же жить, сознавая все это с раннего детства и до последних дней? Рубцов сам ответил в изумляющем, почти молитвенном стихотворении «До конца».